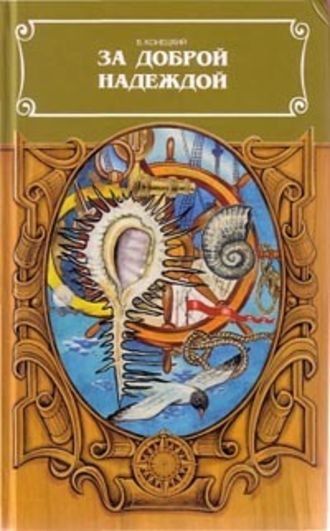
Виктор Конецкий
За Доброй Надеждой
Недалеко, у входа в сквер, стоит полицейский – детина в туго обтягивающей серой форме, похожий на Геринга, громадный. Ноги, конечно, расставлены, рука на рукояти пистолета.
Все для фотокадра – «капитализм».
В центре площади Виктории возвышается постамент, на постаменте битюг, на битюге – основатель или освободитель Уругвая. Открывателя, главного пилота Кастилии Хуана Диаса Солиса где-то здесь съели индейцы чарруасы. Возможно, они съели и того матросика, который заорал: «Монте видео!» Так и не уяснив, кто на битюге, идем дальше.
Плакаты автомобильной лотереи имени Христофора Колумба...
Книжный магазин. «История христианства» в нескольких томах, внешний вид церковно-академический, простые переплеты с золотым тиснением. Огромный фолиант называется, очевидно, «Мучения народа израильского»: душегубки, толпы расстреливаемых немцами евреев, концлагеря. Книга, на которой двойной экспозицией напечатан наш рубль и американский доллар.
От непривычки к ходьбе уже ломит ноги. И дождь собирается. Хочется домой, на «Невель». Сегодня я смогу спать всю ночь до утра – приятная перспектива.
Поворачиваем оверштаг.
На всякий случай у меня в кармане несколько значков. Надо их кому-нибудь подарить. И я было решил осчастливить маленькую девочку, которая стояла за решеткой, ухватившись, как и положено узнику, за железные прутья и пытаясь трясти их железную неколебимость. Решетка отделяла девочку от улицы. Очевидно, ее родители ушли в кино и закрыли парадную. Двери в парадной не было, а была только решетка. И когда я увидел маленькую девочку, которая держалась за прутья и плакала в неволе, то вспомнил немыслимо далекий остров Вайгач и маленького ненца, привязанного сыромятным ремнем к колу на время, пока его родители были на охоте или на рыбалке. Маленького ненца, который прижимал к груди полярного орла и с рождения слушал его гортанный, жалобный и грозный клекот.
Я, как и положено добрым дядям, присел перед заключенной девочкой на корточки, и мы оказались одного роста.
Она была беленькая, совсем европейская, с косичками, и слезы одиночества капали у нее из глаз. А возле двери-решетки росли большие деревья, похожие на наши клены, но с листьями более жесткими и меньшими по размеру. Стволы деревьев были в пролысинах, какими бывают стволы эвкалиптов. На улице, далекой от центра, но не окраинной, состоятельной, ухоженной, было тихо. И никто не выглядывал из окон.
Я говорил девочке русские слова: пусть она не плачет, мама и папа скоро придут из кино, и все будет в порядке. А сам думал о том, что испытываю нестерпимое любопытство к внутренней жизни далеких людей. Что все бы отдал за то, чтобы войти в эту уругвайскую квартиру, поглазеть по сторонам, попить чаю с родителями девочки. Вот на острове Вайгач это совсем просто. Там и двери не закрываются, а здесь, на противоположном конце света, это безнадежно невозможно. Ибо порог человеческого жилья – еще более труднопреодолимая граница, нежели государственная.
Девочка, конечно, перестала плакать, когда незнакомый дядя присел перед ней на корточки. И вытирала кулачками глаза. Я чуть не вручил ей значок с Кремлем и старинной ладьей, но в последний момент испугался, что значки с булавками, об эти булавки я и сам кололся, а она-то уж уколется и подавно. И старпом поддержал меня, сказал, что надо домой, пора тушить фонари. И мы пошли дальше, а девочка стала плакать и дергать прутья решетки.
Дождь собирался не на шутку, и мы держали правее и правее, надеясь срезать угол и выйти к порту кратчайшим путем, с тыла.
Исчезли со стен рекламы вестернов – женщины в черных масках, джентльмены с револьверами, женщины и мужчины в роскошных кроватях, живописные трупы в горящих машинах. Опять мусор заполнил тротуары, старая бумага, окурки, банки и склянки – грязный мусор бедности. Когда в Париже бастуют уборщики, там тоже полно мусора на улицах, но он живописный, даже веселый. В Лондоне мусор чинный – продукт английского характера, нежелания утруждать себя по мелочам.
На месте снесенных или обрушившихся от старости домов, среди битого кирпича росли вялые ромашки и бледные лютики, как растут они на наших свалках. И никто, ни один человек не попадался навстречу. Похоже было, что мы заблудились.
За зоной пустынности мы вышли на автобусное кольцо. Уставшие автобусы отдыхали. Водителей не было за баранками, только дремали кондукторы-негры. А вокруг скопилось почему-то огромное множество собак – неприкаянные бродяги, собачья голь и шпана, собачьи воры и урки. Они лежали на мостовой и судорожно зевали, глядя на нас. Редкий пес поднимался, чтобы понюхать наши следы. Они абсолютно не рассчитывали на подачку – даже не виляли хвостами.
За автобусным кольцом началась зона автомобильных кладбищ. Но не все антилопы-гну были бесхозными. Кто-то надеялся, вероятно, рано или поздно достать колесо, дверцу, кусок мотора, вставить это в автомобильный труп и продать антилопу или самому прокатиться по шикарной набережной Рио-де-ла-Платы.
В ожидании будущих удач разбитые, разоренные машины были огорожены колючей проволокой и старыми ящиками. Внутри загородок сидели псы-охранители. Трехколесный грузовичок охраняло восемь дворняг. Они сидели за проволокой, как приличные звери в зоопарке, и были разными, как могут быть разными только дворняги. Рыжая собачонка величиной с кошку и черный пес величиной с меня, зеленая от старости сучка и лысый розовый псина... Чем все-таки кормят такую ораву?
Когда запах бензина и пропитанной смазочным маслом земли стал слабеть, мы оказались в следующей зоне, самой близкой к тылам порта, – над крышами уже видны были клотики испанского пассажира из Севильи. И уже выворачивал из-за углов влажный морской ветер, крепнущий в предвкушении близкого дождя.
За несколько часов в чужом городе устаешь так, как будто сутки бродил по Эрмитажу. Тупеешь, перестаешь смотреть по сторонам, голова трещит, ноги отваливаются. И женщины, которые начали попадаться навстречу, женщины, стоявшие возле дверей или на углах улиц, сперва не задерживали нашего внимания.
Женский вопрос на море – сложный. О нем, правда, не положено упоминать. А молодой здоровый мужчина есть молодой здоровый мужчина. И полгода в океане океанского ветра, при доброй пище и размеренной жизни, – не монастырское схимничество, помогающее убивать плоть. Наоборот, такой образ жизни ее укрепляет. Правда, в длительных рейсах природа заботится о мужчинах, затягивает воображение некоей паутиной. Работа, мелкие и крупные сложности в отношениях со спутниками, отсутствие права на ошибку, психическое напряжение, которое не покидает тебя, хотя ты его вроде и не замечаешь, – все это уводит от второй половины жизни. Но подлый фитиль пороховой бочки тлеет под пеплом. И если пепел свалится, то отдохнувшее воображение заработает с совершенно ненужной силой.
Женщины на припортовых улочках Монтевидео умели стряхивать пепел с нашего брата, это была их профессия, самая древняя.
Две Магдалины стояли на балконе мансарды. За ними темнела дверь в комнату. Над ними летели с моря облака, набухшие дождем. Рядом покачивалась вывеска бара «Техас». Наигрывал джаз. И мы вдруг сбились с ровного аллюра, нас засбоило, черт возьми; ровная благородная рысь превратилась сперва в нелепый галоп, а потом мы обнаружили себя неподвижно стоящими под балконом и раскручивающими сигареты. Магдалины снимали с нашего воображения паутину и пыль мощным пылесосом.
Какое безобразие, что мы находимся на берегах Ла-Платы! Эх, мама родная, как далеко нам еще до Новороссийска, Одессы или Архангельска!
На перилах балкончика висели такие знакомые коврики: три киски, склонившие пушистые мордочки в одну сторону, милые киски; гордые олени, неприступные замки, верблюды в барханах, мишки на лесозаготовках и девятый вал, – международное единение вкусов, припортовое братство народов. Великое объединяющее и сближающее влияние женского начала в мире...
– Невозможно работать, – прошепелявил чиф.
– Туши фонари, – пробормотал я.
Магдалины не смотрели на нас. Из такого суеверного чувства рыболов не смотрит на поплавок, когда рядом начинает ходить рыба.
Мы побрели дальше, а женщины не смогли сдержать вздоха там, на балконе, на фоне живописных ковриков, как не может сдержать вздоха рыболов, когда рыба, понюхав приманку, уплывает.
А дальше началось черт знает что. Мы видели проституток во многих портах. Современная проститутка цивилизованной страны обычно выглядит как обыкновенная дамочка, желающая повеселиться тайком от супруга. Уругвайские – боже мой! Хотя... Хотя в Лондоне я видел проститутку, которую запомнил навсегда. Она стояла в метро на сквозняке, в дурном пальтишке, у эскалатора – так, чтобы поднимающиеся по эскалатору видели ее ноги в различных ракурсах. И выходя из метро, мужчины, конечно, оглядывались на нее и вздрагивали – такая старая, истощенная, больная, страшная маска глядела на них из-под рыжих, крашеных волос. Когда я возвращался часа через два, она все так же стояла на сквозняке, замерзшая, и смотрела на толпу с такой забитой ненавистью и тоской, что всю гадость мира собственников можно было бы выразить одним ее портретом. Вызов и отчаяние кошки, которую окружили двадцать псов, которая бессильна, но ненависть которой так сильна, что псы поджимают хвосты со страху. На что она рассчитывала, выплескивая ненависть на всех проходящих через вестибюль метро Вест-Энда? Она была или за гранью отчаяния, чтобы вести себя разумно и расчетливо, или глотнула наркотиков.
Проститутки в Монтевидео тоже были ужасные, но совсем в другом роде. Белых почти не встречалось. Негритянки и мулатки. Груды могучих ляжек, икр, бедер, грудей, локтей. Они напоминали лошадь, на которой едет по площади Виктории освободитель или основатель Уругвая.
– Туши фонари! – бормотал старпом.
– Невозможно работать! – бормотал я, когда они высвечивали нас прожекторами белков и при нашем приближении начинали переступать ногами. Ни один моряк мира не смог бы миновать эти противолодочные сети на тыловых подходах к порту, не откупившись хотя бы стаканчиком виски. Но мы были советские моряки. И почему-то все всегда чутьем узнают это. К нам не приставали.
Редкие мужчины – хозяева этих женщин – сидели возле баров и курили, поглядывая на нас с презрением. Они были трезвые. Я еще никогда не видел пьяного сутенера или бармена. И потому они еще более неприятны мне.
Значки я отдал мальчишке-негритосу.
– Держи, бой, – сказал я и дал ему значки. Он остолбенел сперва. Ведь значок для бедного человека не сувенир, а несколько монет, которые он на нем заработает. Пока он столбенел, мы спокойно шли. Но уже через несколько минут сзади раздался шум и гам. Другие мальчишки налетели на моего избранника, и пошла потасовка. Группа мужчин стояла под насквозь дырявым тентом паршивой забегаловки, укрывалась от дождика. Мужчины залопотали осуждающе. Потом стая мальчишек окружила нас, требуя долю, дергая за брюки, глядя с ненавистью и нахальством. И я подумал о том, что щенки на острове Вайгач более деликатный народ. Нужно было убираться подобру-поздорову, что мы и сделали в довольно паническом ритме.
А в порту наш сосед – пассажир «Сабо-Сан-Винсен» – снялся со швартовых на родную Испанию, он увозил в Севилью потомков впередсмотрящего матроса, крикнувшего: «Монте видео!»
Два маленьких буксира раскантовывали лайнер. Играла, как положено в таких случаях, бодрая музыка. Толпа провожающих шла по причалам за медленно удаляющимся судном, толпа махала руками, сдерживала слезы или плакала и не смотрела под ноги, спотыкалась на поребрике того сухого фонтана, в который заехал давеча уругваец на «мерседесе», и пачкала брюки о наши стальные швартовы.
На рее лайнера трепетали отходные флаги. Влажный ветер летел с моря, срывал дымки с труб буксиров. Три тягостных гудка традиционно встряхнули души, проникнув в них через обыкновенные ушные раковины. Лайнер нацелился на проход в молах, отдал буксирные концы, могуче взбурлил воду под кормой и исчез, оставив ощущение сиротливости в толпе провожающих.
И даже во мне.
Мне казалось, что Уругвай так и не стал еще чем-то по-настоящему самостоятельным, что это край неудачников, которые должны тосковать по родине, по Севилье, Мадриду и Бильбао.
Это, конечно, ерунда, но мне так казалось, какая-то колониальная тоска есть там, далекость, безнадежная далекость другой стороны Земли.
Вокруг да около Святой Елены
Радиопеленг со Святой Елены на судно стоит один фунт стерлингов два шиллинга шесть пенсов. Запрашивать пеленг следует через Лондон с указанием точного времени нужды по телеграфному адресу.
Лоция Атлантического океана
Вода там в ограниченном количестве. Сыр там, ребята, дешевый. И очень дорогая картошка...
Из разговора с встречным судном
Океан днем был синим и спокойно-прекрасным.
Потом была стопятидесятая ночь за рейс, тропики, средняя видимость, слабая зыбь, курс девяносто девять.
Был включен радар, работал рулевой автомат, я один вышагивал ночную вахту. Правда, молчал в углу еще один товарищ. Он только нос высовывал из-под вороха флагов – здоровенный чайник с крепким чаем.
Мы пересекли Атлантику из района острова Тринидади на бухту Уолвис Бей. У берегов юго-западной Африки, оккупированной ныне Южно-Африканской Республикой, нас поджидал танкер с собачьим именем «Аксай». Танкер валялся в дрейфе у пустыни Намиб, недалеко от мыса Пеликан. Там где-то жили последние буры, хирели их соляные копи под натиском огромных подвижных дюн. Девяносто-стопятидесятиметровые дюны – полтора Исаакиевских собора – с мрачным подземным гулом пересыпались по пустыне Намиб к берегу. Дюна за дюной, холм за холмом. А океан вышвыривал эти холмы обратно – век за веком.
На карте отмечены были кости кита. Они белеют грудой на темном фоне прибрежных скал. Их координаты нанесены точно, по ним можно определяться. Любимец Мелвилла и после смерти служит морякам. Недалеко от груды китовых костей есть полицейский пост у Анихаба, на посту колодец, то есть пресная вода.
В бухте Уолвис Бей случаются извержения подводных вулканов, и на поверхности ее проявляются небольшие острова, состоящие из ила и глины. После прекращения извержения острова исчезают. Лоция отмечает как «характерное явление» образование еще и больших пузырей с сероводородом. А когда пузыри лопаются, то характерным делается запах сероводорода. Процент газа в воздухе бывает так высок, что медные детали на судах тускнеют. Тускнеют и части судна, окрашенные белилами.
Буи в бухте белого цвета, хотя никто не тратил на них краски, – они покрыты густым слоем гуано. И как такая жуткая бухта не отпугивает птиц?
До всего этого было около тысячи миль. Когда долго плаваешь в океанах – это не расстояние.
А слева на траверзе таился во мраке остров Святой Елены. За рейс мы уже обошли Елену со всех сторон.
Одинокие острова всегда волнуют. Как отшельники.
Мы стадные животные. И отшельники удивляют, вызывают даже подобострастное уважение. В одиночестве и человек, и клок суши накапливают неведомую внутреннюю силу. Толстой все сказал об этом в «Отце Сергии». Накопив неведомую силу, отшельники отдавали ее – или в заветах мудрости, или простым прикосновением руки исцеляя страждущих. Заряженный одиночеством, самососредоточением, аккумулятор разряжался, отдавая целительный ток слабому.
Плавающие люди немного отшельники. Я уж не говорю о Чичестерах. Быть может, потому их так волнуют одинокие острова над океаном. Большинство таких островов имеет в названии «святой» или «святая». У первопроходцев возникло в душах восторженное и религиозное чувство, когда из волн – всегда неожиданно – показывался одинокий остров.
Острова... Написать когда-нибудь книгу обо всех островах, где пришлось побывать. Расставить их по жизни как вехи. Через них вернуться в прошлое.
Начать с «Новой Голландии». Петр нарек так крохотный островок среди каналов и речек в Петербурге. Петра бесили великие открытия западных людей в океанах. Новой Голландией когда-то называли Австралию. Быть может, Петр нарек так крошечный островок в столице, чтобы сказать: «И мы еще должны кое-куда успеть!»
И Беринг отправился в путь.
А Беллинсгаузен потом успел к Антарктиде первым.
В морском соборе, построенном рядом с «Новой Голландией», были упокоены души всех русских моряков, погибших при Цусиме. Этот собор взорвали на моих глазах. И построили завод.
Я много лет прожил в тридцати шагах от острова «Новая Голландия», но не ступал на него ногой. Там были самые разные склады. Как все запретное, остров дразнил мальчишеское воображение. На земляных откосах канала цвела пышная сирень. Возле самой воды по весне вспыхивали первые желтые одуванчики. Между тополями виднелось таинственное здание бывшей морской тюрьмы, круглое, красного кирпича, с маленькими тюремными окошками-бойницами. Мать рассказывала, там сидели революционные матросы. В семнадцатом матросы брали «Новую Голландию» штурмом – там засели юнкера. Мать говорила, матросы шли на штурм ночью, с факелами; в нашу квартиру залетела пуля. Возможно, это семейная легенда – романтизм в семействе наличествует явно.
Многие годы к тайнам «Новой Голландии», к сирени и одуванчикам было не пробиться: часовые, проволока, огромные глухие ворота.
И вот осенью сорок пятого, в белой брезентовой робе и бескозырке без ленточки – салага, – я на полуторке въехал в мир детских тайн за продуктами. Мы грузили, спуская по деревянным сходням из старинных складов, мешки с мукой и ящики с комбижиром. И я уже оттуда смотрел на близкие окна родного дома. К ним с «Новой Голландии» было так же невозможно добраться, как раньше сюда. Диалектика. А потом, в полуторке, чтобы унять тоску по дому, притушить ностальгию, мы совали в рот сушеный компот и все вообще, что можно было сунуть тайком от мичмана-завпрода. Он знал, что мы ворюги, и держал ухо востро...
Остров Кильдин, рейд Могильный, камни Сундуки, где я тонул.
Тоскливый клок земли – остров Жохова в Восточном секторе Арктики. Выгрузка с рейда, через понтон, ящики с кирпичом и ледяная вода по пояс, медвежата и лайки...
Было смешно смотреть, как они бегут по скользкому льду вокруг острова, задрав головы вверх, лая с надсадом, хрипло, яростно и в то же время весело, с любопытством. Их было шесть собак и два белых медвежонка. И каждый раз, когда прилетал ледовый разведчик и делал низко над островом круг, чтобы сбросить нам ледовый вымпел, они неслись за его крестовой тенью, задрав головы, взрываясь лаем. Во льду были трещины и полыньи. Но свора неслась, ничего не видя, не чуя впереди. Они начинали тормозить уже в самой близости от полыньи, приседая на задние лапы, тщетно пытаясь удержать свои разогнавшиеся тела на скользком льду, слетали в темную, жирную от мороза воду и выныривали, злые, раздосадованные; вылезали обратно на лед, дымясь, оскальзываясь, делая в то же время вид, что, мол, ничего особенного не произошло, что они специально нырнули в воду, что им нравится купаться. А самолет в это время делал новый круг над островом, и, завороженные недосягаемостью самолета, его скоростью, они опять забывали обо всем и неслись за крестовой тенью, лая надсадно и весело. И все повторялось – свора купалась в полынье и вылезала, сконфуженная и мокрая.
Мы выгружали на этот далекий арктический островок много разных грузов для зимовщиков. И приходилось все время ругаться с ними.
Зимовщики требовали поднять грузы на береговой откос.
Их было только семь человек на острове. И чтобы поднять грузы на откос, им предстояло работать всю бесконечную, кромешную зиму, в мороз и пургу. К тому же сама полярная станция находилась на другой стороне острова, в двенадцати милях от места выгрузки, и надо было еще перевезти уголь, картошку, кирпич на замерзающих тракторах и капризных вездеходах через холмистую заснеженную тундру.
Мы понимали, что зимовщиков ждет каторжная, опасная работа, но ничего не могли поделать. Была поздняя осень, наш капитан был стар и осторожен, он уже достаточно рисковал, когда вообще шел сюда, в ледовую западню. Два года суда не могли пробиться к острову. Станция оказалась на грани закрытия. И только поэтому наш капитан рискнул, ворча, и матерясь, и проклиная Арктику.
Тяжелые льды надвигались с норда, и у нас не было времени поднимать грузы на десятиметровый береговой обрыв. Полярники понимали это не хуже нас, но спорили и ожесточались. А мы понимали полярников и все равно ругались с ними, и сбрасывали грузы на ледяной припай.
А в перерывах между работой мы смотрели на свору из шести собак и двух медвежат. Мы привозили им с судна всякую жратву: остатки супа, кости, хлебные корки – и выливали всю эту теплую бурду на лед; лед таял, собаки и мишки вылизывали жратву и снег, порыжевший от томатного жира. Они всовывались в протаявшие ямы, надо льдом оставались только их зады.
Собаки и мишки встретили нас первыми, они пробежали двенадцать миль от станции быстрее людей и вездехода. Сперва черные медленные точки среди бесконечной белизны мягко холмистой тундры. Потом быстрые пестрые шарики. Потом слабый лай. Потом лохматые линючие псы у самого уреза воды, взволнованно вертящие хвостами, и два грязных, в соляре и угольной пыли, медвежонка, принятые в собачью компанию на совершенно равных правах. Они радостно приветствовали наш вельбот, не боялись нас и не облаивали, доверчиво подходили под руку. Мы сразу полюбили их, и нам очень захотелось привезти на судно одного мишку. На судне не было никаких зверюг, а со зверями веселее плавать.
Вожака своры звали Рыжий, он был самый молодой, но и самый сильный, лохматый и хитрый. Единственная сука, тощая и болезненная, с низко отвисшими сосцами, судорожно поджатым хвостом, тоскливыми слезящимися глазами, Верка, держалась в стороне от всей своры, но и она не выдерживала, когда прилетал самолет и делал над островом низкий круг. Тогда Верка тоже неслась за его тенью и лаяла весело и самозабвенно, наплевав на свои женские болезни и заботы.
А мишки были близнецами, их мать убили весной, они выросли среди собак и, наверное, думали, что и они собаки. Полярники кормили их чайками, и только этим мишки отличались от псов, которые не едят чаек даже в Арктике.
Работа на выгрузке, когда нет причала, когда судно стоит далеко на рейде, – тяжелая работа. И темп был очень большой. Мы работали днем и ночью. Бригада «Ух!» и бригада «Ах!». Выгрузка из трюмов на понтон, буксировка понтона среди льдин к берегу, перевалка на тракторные сани, оттаскивание грузов к откосу. И покурить удавалось только тогда, когда понтон застревал во льдах. В эти редкие минуты мы собирались у костров, собаки и мишки подходили к нам, мы играли с ними, возились, фотографировались с медвежатами.
И каждому хотелось оказаться на фотографии поближе к зверюгам.
Зимовщики, обиженные на нас, курили отдельно, сидя на ящиках, угрюмые и отчужденные, глядели на огромную гору грузов у подножия откоса и думали о том, что ждет их впереди, длинной, полярной зимой. И мы не решались попросить у них медвежонка, хотя готовы были заплатить чем угодно, даже спиртом.
Поздним вечером прибежал со станции щенок, совсем маленький, толстый и неуклюжий. Он показался на гребне обрыва, высоко над нами, страшно уставший от бесконечно долгого пути через тундру. Он подпрыгивал, просясь вниз. Сам он боялся спускаться.
И мы, и полярники, и собаки, и мишки смотрели на щенка с уважением. Он пустился в путь через весь остров по следам других и шел двенадцать миль совсем один, и все-таки дошел, но теперь боялся спускаться по крутому обрыву, хотя мы звали и подбадривали его снизу. Верка тоже смотрела на своего сынишку, но, по-моему, не волновалась за него.
Следовало кому-нибудь влезть на обрыв и снести щенка вниз, но все мы уже здорово устали и медлили. И вместо нас полез медвежонок. Он растопыривал лапы, упирался ими в рыхлый снег, по всякому извивался и влез на откос очень быстро. Щенок ждал его наверху. Они, наверное, о чем-то поговорили. Потом медвежонок опрокинулся на спину, поерзал немного, подталкивая себя к обрыву, и съехал к нам, весь в облаках снежной пыли, головой вперед.
Он показывал пример.
Но щенок не понял, он все повизгивал и подскакивал на одном месте. И тогда полез другой медвежонок, он лез очень сурово и решительно, он твердо знал, что надо будет сделать со щенком, и поэтому не торопился.
Воткнулись в угольную кучу наши лопаты, пошевеливался на слабой волне понтон у припая, медленно проплывали мимо льдины, похожие на замерзших огромных птиц, быстро менялись в небе очертания облаков, огромная северная тишина сомкнулась вокруг нас, и только повизгивал наверху щенок.
Мишка вылез к нему и с ходу, сразу дал под зад лапой. Щенок покатился вниз визжащим комком. Он катился долго-долго, потом вскочил на ноги, перестал визжать, отряхнулся и радостно подбежал к нам. Все оказалось не так страшно. Надо было только получить толчок вначале. И все мы повеселели и опять принялись за работу.
А щенок, конечно, был очень голодный. Он нюхал снег в тех местах, где мы выливали жратву, но весь съедобный снег уже вылизали другие. Тогда щенок подлез к медвежонку, тот открыл пасть, щенок засунул в нее свою маленькую башку и стал выковыривать языком застрявшие в медвежьих зубах остатки пищи.
Ночью мы работали при свете фар трактора. Пошел снег, он казался черным. Похолодало. Волны плюхали во льдах угрюмо. И угрюмая, застывающая Арктика давила души. Костры горели красными огнями, собаки грелись возле них, не мигая, привычно глядели в огонь и бездельничали. Мишки улеглись на льду у полыньи и сосали лапы, они очень смешно пыхтели при этом, в ритм, как маленькие дизеля, и меняли лапы тоже одновременно, строго взглядывая друг на друга. А Верка закопалась в кучу угля, он был теплый внутренним, мягким теплом. Мы брали его в Архангельске чуть влажным, и за время пути он разогрелся в трюмах. Никто не заметил, что Верка забралась в него. Вездеход с санями въехал на полном газу по склону угольной кучи, Верка не успела отскочить. Во тьме ночи раздался визг, похожий на человеческий. Мы сбежались к ней, и никто не знал, что надо делать. Верка ползла куда-то, волоча задние лапы. Потом она забилась в снег и притихла, дрожа всем телом, судорожно зажмурив глаза. Другие псы не обратили на все это внимания. Только Рыжий несколько минут постоял возле Верки, слабо и неуверенно повиливая хвостом.
Мы решили, что она отлежится, потому что собаки – живучие существа. Нам было спокойнее так думать, нам было жаль Верку, мы все-таки чувствовали себя чем-то виноватыми и перед ней, и перед всеми зимовщиками. Мы привезли с судна всякие вкусные вещи – котлету, белый хлеб с маслом и даже сгущенного молока. И положили все это у самого Веркиного носа. Но она не могла есть и даже не понюхала молоко.
Мы боялись, что другие псы или медведи стащат ее рацион, и следили за ними. Но они подходили, нюхали, вздрагивали от желания стащить и уходили в сторонку, чтобы больше не возвращаться. Быть может, они вели себя так потому, что Верка была сукой, а может, понимали, что ей плохо и что нельзя ее обижать.
К утру похолодало еще больше, снег полетел гуще, ветер все заходил к норду, сплошные поля пакового льда стали приближаться к острову. Наше судно снялось с якоря и лавировало между ними, стараясь удерживаться на месте. Мы видели белый, красный и зеленый ходовые огни. Они медленно двигались в полумраке, и всем нам было ясно, что выгрузку закончить не удастся и что скоро придется уходить отсюда совсем.
В полдень с судна поднялась ракета – нам приказывали срочно возвращаться на борт.
Мы попрощались с зимовщиками и собаками. Как часто при расставаниях, взаимные обиды показались мелкими, нестоящими, и хотелось сказать: «Вы же видите – мы не виноваты... Льды... тяжелые прогнозы... и у нас нет времени помочь вам больше. И впереди нас ожидают еще три полярные станции, и ребятам на них не лучше вашего...» Но как-то неудобно говорить такие слова. Всегда почему-то легче выругать друг друга ласковым матом, когда за ругательными, тяжелыми и грубыми словами стоит твое доброе отношение, и твоя тревога, и твое сожаление. И кроме таких слов, мы только сказали, что Верку можем взять на судно, у нас есть фельдшер, он ее как-нибудь подправит. Зимовщики отказались.
Мы перешли на катер.
Берега острова удалялись медленно.
Собаки и мишки бежали за нами, перепрыгивая со льдины на льдину. Мы гнали их назад, мы боялись, что их унесет в море.
Под береговым откосом у горы грузов стояли зимовщики, очень одинокие и молчаливые, курили. Верка заметила, что мы уходим, она подползла к самому урезу воды, приподнялась на передних лапах и смотрела нам вслед. И кто-то из зимовщиков взял ее на руки, чтобы она дольше видела нас. И щенка они тоже взяли на руки.
Тут опять прилетел ледовый разведчик, потому что в штабе проводки беспокоились. Он заложил низкий вираж над островом. И свора помчалась за его стремительной тенью, лая яростно и в то же время любопытно и весело. Свора сразу забыла нас.
Островок уходил все дальше, и казалось, что холодное, застывающее море втягивает его в себя. Нам было тревожно за остающихся, мы желали им всем удачи и здоровья...
Потом была Земля Бунге; провалившийся под лед вездеход, на котором мы отправились охотиться на оленей; тундра без конца и края; бревно песцовой ловушки, украденное нами, чтобы привязать его к гусеницам вездехода и выбраться из ледяной каши...
Остров Вайгач. И веселая злость его собак...
Диксон. Вздувшиеся трупы белух на снегу у костра...
Гогланд – памятник, вознесенный Балтийским морем над духом десятков тысяч погибших. Черника и брусника...
Сахалин, кореянка с привязанным на спине ребенком, прозрачная анивская селедка, и желтеющие за проливом Лаперуза вершины Хоккайдо...
Уже и даты все спутались – не вспомнишь, пожалуй.
Веками острова служили морякам.
Через острова моряки общались друг с другом и далекой родиной. Это были почтовые ящики. Сохранившаяся доныне привычка моряков малевать на стенке причала, у которого стоит судно, его название – атавизм далеких веков. Название и дата. Значит, такое-то судно тогда-то живым и здоровым прошло такой-то порт или остров. Теперь это в некотором роде хулиганство. Век назад это был единственный способ связи.
Парусники наших предков, совершавшие совместное плавание, назначали у одиноких островов рандеву.
Здесь, у Святой Елены, Лисянский на «Неве» не дождался «Надежды» Крузенштерна, когда они возвращались из первого русского плавания вокруг света. И представить себе невозможно, какие нервы были у людей, которые плавали совместно на парусниках и без рации. Как месяцами, годами тревожились они за судьбу друг друга, пока записка на одиноком острове не дарила их радостью общения.







