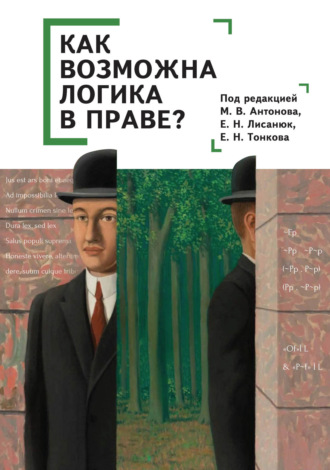
Коллектив авторов
Как возможна логика в праве?
3. Действительность и действенность права
Следование логике кельзеновской теории позднего периода приводит Е. В. Булыгина к проблематике действительности права – проблематике, которая в чистом учении о праве оказывается несколько запутанной вследствие упомянутой выше антиномии. Проф. Булыгин присоединяется к критике подхода Кельзена к этой проблематике, что была сформулирована А. Россом, К. Нино, Дж. Разом и другими видными представителями позитивизма[141], считая тезис австрийского правоведа об обязывающей силе права «предательством позитивистской программы…, дегенеративной, несовместимой с моралью формы естественного права»[142]. Речь идет об идее Кельзена об объективной (обоснованной) действительности права, из которой выводимо обоснование подчинения адресатов нормам права. Это обоснование Е. В. Булыгин предлагает заменить критерием применимости[143].
Проф. Булыгин предлагает убедительную критику кельзеновской основной нормы как основания обязывающей силы права. На этот счет в чистом учении о праве, действительно, была неопределенность, которая заставила Кельзена пересмотреть теорию основной нормы в 1960-х годах, описывая ее как фикцию, а не как собственно норму (правило). Е. В. Булыгин считает, что этого недостаточно и что для настоящего позитивизма единственно приемлемым пониманием действительности права является то, что в правопорядке не может быть иного источника юридической силы, кроме как установленные в этом правопорядке нормы. Позицивация этих норм, закрепление их правопорядке и означает создание для адресатов образцов поведения, юридически обязательных в том смысле, что их невыполнение влечет за собой вменение санкции, то есть неблагоприятное последствие со стороны правопорядка. Юридическую обязанность в этом смысле следует тщательно отграничивать от моральной обязанности адресатов подчиняться нормам права.
Упоминая эти признаки «неверности» Кельзена принципиальному тезису позитивизма, проф. Булыгин указывает на то, что некоторые неудачные выражения австрийского правоведа позволяли интерпретировать его учение в том смысле, что допущение основной нормы правопорядка означает для адресатов моральную обязанность соблюдать право[144]. С этой точки зрения, гипотетическая основная норма может рассматриваться как конечный источник моральной обязанности подчиняться праву – поскольку все нормы правопорядка могут быть подведены под основную норму, рассматриваемую как условие рассмотрение этих норм как правовых, то есть обязательных. Соглашаясь с критикой кельзеновского «квази-позитивизма» со стороны А. Росса, проф. Булыгин указывает на юснатуралистический контекст высказанного Г. Кельзеном предположения о том, что «правовые нормы становятся объективно действительными благодаря основной норме»[145], что косвенно вводит моральное обоснование требования соблюдать право.
Причину допускаемой Кельзеном неточности при описании действительности права проф. Булыгин видит в том, что тот не проводит важное различие между двумя смыслами нормативности права: нормативность как указание на то, что право состоит из норм, и нормативность как указание на то, что само по себе право является обязательным в силу того, что оно суть право[146]. Отталкиваясь от этого деления, Булыгин предлагает разделять правовую и нравственную действительность права, что указывает, соответственно, на юридическую обязанность применять право и на моральную обязанность повиноваться праву[147].
Здесь можно отметить, что это деление можно найти и у Г. Кельзена[148], который рассматривал судей и правоприменителей в качестве первичных адресатов правовых норм. Так что «обязанность действовать согласно норме» у Г. Кельзена и означала практически ту же самую юридическую обязанность, о которой пишет проф. Булыгин. Хотя при этом австрийский правовед не доходил до дуализма двух параллельных правопорядков. В этом его позиция кажется более предпочтительной и, как кажется, Е. В. Булыгин косвенно соглашается с ней в своей работе 2008 г., в которой предлагает не отказ от кельзеновской идеи о нормативной действительности (обязательности) права, а ее корректировку путем переописания через критерий применимости[149].
То, что правопорядок может содержать нормы, предписывающие разные поведенческие акты в одной и той же ситуации, не требует введения дуализма первичной и вторичной системы, тем более если эти нормы имеют разных адресатов (обычных и специальных). Речь здесь может идти либо о коллизии норм, которая решается по правилам правопорядка (lex specialis и прочие правила, которые могут быть применимы), либо об альтернативной реконструкции нормы, которая может быть сконструирована как обращенная либо к гражданину («не совершай кражу, иначе будешь наказан тюремным сроком»), либо к правоприменителю («если гражданин признан виновным в краже, то он должен быть наказан тюремным сроком»).
Приводимый проф. Булыгиным пример дела Дмитрия Карамазова из романа Ф. М. Достоевского кажется несколько неудачным[150], поскольку в нем речь идет не о конфликте норм. Как процессуальная, так и материальная норма требуют наказания лица, признанного виновным в убийстве – так что после вердикта присяжных о виновности судья не мог не наказать Д. Карамазова и с точки зрения материальной нормы уголовного права. Проблема дела Карамазова заключается лишь в пределах принципа состязательности сторон, в силу которого ошибки в процессуальной стратегии фактически невиновной стороны могут привести к тому, что она проиграет процесс, поскольку позиция другой стороны представилась судье и присяжным более убедительной[151].
Тем не менее, критика неразличения в чистом учении о праве двух аспектов юридической силы приводит Е. В. Булыгина к совершенно обоснованному указанию на необходимость различия между двумя типами нормативности права, которые игнорируются в ранней теории Кельзена: присущей самим нормам (обязывающая сила) и присущей нормативным предложениям (описание этой обязывающей силы). Е. В. Булыгин старательно разграничивает эти два вида высказываний, показывая, как Кельзен постепенно приходит к этому делению в своем учении[152], но не проводит его с требуемой последовательностью.
Экспликация фактической основы действительности права позволяет русско-аргентинскому правоведу уточнить и понятие действенности права, представляя понятия «действительности» и «действенности» права как коррелирующие друг другу. С одной стороны, Е. В. Булыгин принимает кельзеновское деление между действительностью и действенностью как различие между нормативным и дескриптивным понятиями[153], а с другой, критикует Кельзена, который определял действенность как совпадение между требованием нормы и поведением адресата – либо подчинением норме, либо ее применение (реализация санкции). Пытаясь решить эту проблему в одной из своих ранних работ, Е. В. Булыгин предлагает описывать действенность нормы через категорию применимости (юстициабельности) как диспозиционального качества нормы[154], выражая надежду на то, что это «было бы приемлемо и для Кельзена»[155]. Для определения этого понятия Е. В. Булыгин предлагает отличать соблюдение нормы адресатами от ее использования судьями в целях обоснования их решений[156].
Определение Г. Кельзеном действенности права как фактического соответствия поведения адресатов норме представляется Е. В. Булыгину неудовлетворительным. Он присоединяется в этом аспекте к критике чистого учения о праве со стороны Г. Л. А. Харта, считая, что соответствующее норме поведение только тогда говорит о ее действенности, когда действие адресатов «как-то мотивировано нормой»[157]. С этой позиции, он критикует кельзеновскую идею несамостоятельных (неполноценных) норм, которые не предписывают обязательное поведение и не содержат санкций. Возражая здесь Г. Кельзену, Е. В. Булыгин считает соблюдение возможным только там, где норма устанавливает юридические обязанности и санкции. Отсюда он выводит, что иные (разрешающие, уполномочивающие и проч.) нормы не могут соблюдаться в собственном смысле этого термина и поэтому не могут рассматриваться как действенные или недейственные[158]. Как доказывается в «Нормативных системах», определение нормативной системы в терминах нормативных следствий позволяет учесть любое включенное в систему высказывание, не рассматривая подобные высказывания как неполные или ущербные нормы[159].
Здесь стоит отметить, что сам Кельзен в ответе на критику не оспаривает того, что есть не только обязывающие нормы, но и другие (отменяющие, разрешающие и проч.) нормы, которые «соблюдаться» в строгом смысле этого слова не могут[160], что отчасти лишает силы критику со стороны Г. Л. А. Харта и основанные на ней критические замечания проф. Булыгина. Проблема кажется решенной после уточнения со стороны Г. Кельзена о том, что соблюдение или нарушение являются свойствами не нормы, а поведения[161].
Корреляцию действенности и действительности права Е. В. Булыгин проводит через преодоление теории двух отделенных друг от друга миров Сущего и Должного и выводимого из этого разделения утверждения Г. Кельзена о том, что действительность нормы суть ее специфическое существование[162]. Для того чтобы показать связь этих двух аспектов в «бытии» нормы, Е. В. Булыгин проводит границу между действительностью нормы как ее принадлежностью к системе (системная действительность), нормативной действительностью как обязывающей силой нормы и существованием нормы, которое проявляется в самом акте ее промульгации. В этом отношении Е. В. Булыгин уточняет деление, присутствующее в работах Кельзена, у которого термин «действительность нормы» имеет, как минимум, три смысла: создание нормы согласно вышестоящей норме, обязывающая сила нормы и ее объективное существование[163].
С формулировкой у Г. Кельзена двух последних значений действительности Е. В. Булыгин не соглашается. Применительно ко второму значению (обязывающая сила нормы) русско-аргентинский правовед солидаризируется с критическим замечанием Г. Х. фон Вригта о том, что принятие нормативной действительности приводит к регрессу в бесконечность[164]. Обращаясь к пониманию Г. Кельзеном существования нормы как ее объективного бытия (третье значение), Е. В. Булыгин отвергает и это трансцендентальное измерение. Он обоснованно указывает на важность фактического существования – норма может существовать в силу фактического акта ее издания, даже если она издана с такими явными дефектами, что свидетельствуют об ее недействительности – такая норма фактически существует, по меньшей мере, в том смысле, что ее действительность может стать предметом судебного спора.
Е. В. Булыгин пытается защитить кельзеновское понимание действительности нормы в первом значении (системную действительность или принадлежность) не только от критики А. Росса, но и «прежде всего от самого Кельзена»[165]. Он убедительно показывает, что действие нормы не сводится только к ее действенности (применимости) и что о действующей норме можно также говорить, если она издана компетентным органом. Это не препятствует анализу действительности нормы в фактическом смысле – с точки зрения того, обладает ли она диспозиционным свойством применимости[166]. Любопытно, что тем самым Е. В. Булыгин пытается примирить скорректированные им положения теорий А. Росса и Г. Кельзена: «теория Росса оказывается весьма похожей на теорию Кельзена, при условии, что «Чистое учение о праве» очищено от определенных искажений»[167].
4. Судебное нормотворчество
Несогласие в более общих вопросах о природе норм и условиях нормативности приводит Е. В. Булыгина и к неприятию кельзеновского понимания судейского нормотворчества. Этот термин для австрийского мыслителя имеет буквальное значение – любое судебное решение, любой правоприменительный акт представляют собой индивидуальную норму, которую следует отличать от общих норм, закрепленных в нормативно-правовых актах и иных источниках[168].
Проф. Булыгин не согласен с тем делением норм на общие и индивидуальные, что проводится у австрийского правоведа. Если для последнего решения суда по своей сути суть приказы, то для Е. В. Булыги-на сущность судебных решений проявляется через их перформативную функцию[169], которую следует отличать от нормативности как способности устанавливать общие правила поведения.
Но иногда судебные решения могут иметь и нормативное значение. В некоторых сложных (с нормативно-правовой точки зрения) делах судьи могут столкнуться с пробелами или коллизиями права, так что для решения дела им приходится сначала создать норму (общее правило для родового случая) и потом применить ее в рамках индивидуального спора. Даже если это создаваемое судьей родовое правило не выходит за пределы конкретного казуса (например, это решение нижестоящего суда), его логическая природа все равно подразумевает всеобщность.
Чтобы решить сложные дела, для которых нет нормы, судьи делают суждение о подобии свойств рассматриваемого типичного случая со свойствами другого типичного случая, который урегулирован правом. К примеру, в случае аналогии закона из суждения о родовом случае судья выводит заключение о том, что рассматриваемый им индивидуальный случай должен регулироваться нормами, созданными законодателем для второго случая. С этой точки зрения, преодолевая пробел, судья исходит из суждения о том, что всегда, когда имеет место родовой случай, для которого в правопорядке нет нормы, его нужно решать через аналогию такой-то нормы. Это то, что Е. В. Булыгин и К. Э. Альчуррон в цитированной статье называют родовой субсумцией, которую они отличают от индивидной субсумции. По своей структуре родовая субсумция имеет всеобщий характер: всякий случай, а не только рассматриваемый судьей в данном деле случай, который имеет соответствующие признаки, должен решаться через применение данной нормы по аналогии.
То же самое происходит и при аналогии права, где судья сначала осуществляет суждение о том, какой принцип в целом применим к родовому случаю, и уже из этого выводит решение для конкретного казуса. По своему нормативному действию, такое суждение о родовом случае может либо ограничиваться рамками данного дела, либо обрести ту или иную степень общезначимости. Например, решения высших судов, на которые ориентируется судебная практика; либо решения апелляционных судов, на которые могут ссылаться стороны в последующих спорах для подтверждения своего истолкования нормы[170]. Это дает новую перспективу для оценки нормативного значения судебной практики, особенно в континентальных правопорядках.
Значимым представляется также замечание Е. В. Булыгина о значении определений правовых понятий в судебных решениях. Если некое определение включено в мотивировочную часть судебного акта, оно в дальнейшем может применяться при разрешении других дел, в рамках которых судьи, адвокаты и другие участники процесса потенциально могут ссылаться на данное по прежнему судебному акту определение юридического понятия. По своей логической природе такое определение (как и любое определение вообще) также претендует на общезначимость, не ограничено по своему смыслу обстоятельствами только одного дела и поэтому может рассматриваться в качестве нормативного[171].
В этом Е. В. Булыгин расходится с Г. Кельзеном: если для последнего любое решение является (индивидуальной) нормой, то для первого лишь немногие решения судей имеют нормативные следствия для правопорядка: «для того, чтобы норма, сформулированная нормативным органом, считалась созданной им, ее содержание не может быть идентичным содержанию каких-либо других норм, принадлежащих тому же правопорядку, и не может логически (дедуктивно) следовать из других норм»[172]. Большинство решений, в которых судьи просто дедуцируют из общих норм и обстоятельств дела нормативные следствия для конкретных казусов, не дотягивают до «нормотворчества».
По мнению проф. Булыгина, тезис Г. Кельзена о том, что создание и применение нормы суть одно и то же действие[173], пренебрегает той ролью, которую логика играет (должна играть) в процессе принятия решения. Е. В. Булыгин обращает внимание на различия между этими процессами: с одной стороны, отсутствие у судьи свободы создавать новые нормы, непроизводные из имеющихся в правопорядке норм, и, с другой стороны, отсутствие у нормотворческого органа обязанности мотивировать, обосновывать создаваемые им нормы. Если Г. Кельзен считал эти различия несущественными, то для Е. В. Булыгина они таковыми не являются.
Рассмотрение общих норм и судебных решений как императивов приводит Г. Кельзена к отрицанию связи между общими и индивидуальными нормами: судья не выводит свое решение из общей нормы и – в интерпретации Е. В. Булыгиным кельзеновского учения – индивидуальная норма (то есть резолютивная часть решения) не является логическим следствием из мотивировочной части. Этот подход проф. Булыгин рассматривает как «грубейшую ошибку позднего учения Кельзена»[174], которая привела австрийского правоведа к отрицанию логики норм. Это отрицание строилось на предположении о том, что нормы как акты воли не могут быть истинными или ложными. А поскольку логика может работать только с высказываниями, которые могут быть истинными или должными, то логика неприменима к создаваемым правоприменителями индивидуальным нормам[175].
Эта неточность связана с некорректным сведением Г. Кельзеном сущности решения к резолютивной части, в которой и содержится приказ – индивидуальная норма. Возражая этому положению чистого учения о праве, русско-аргентинский правовед утверждает, что юрист не может игнорировать то, что решение состоит не только из приказа по поводу распределения прав и обязанностей. Не менее важное значение имеет также мотивировочная часть, которая содержит три вида посылок, из которых логически должно выводиться заключение (резолютивная часть решения, которая и является индивидуальной нормой). Среди таких посылок Е. В. Булыгин выделяет (1) нормативные предложения, которые описывают примененные нормы и составляют нормативное основание решения; (2) определения в широком смысле, включая как предложения, определяющие объем понятия, так и предложения, касающиеся его содержания, и (3) эмпирические предложения, используемые для описания фактов[176]. При этом следует учитывать, что профессор Булыгин нормой считает только суждение, объединяющее посылки (мотивировочную часть) с заключением (резолютивная часть). Само заключение для него является не нормой, а решением.
Описание логического процесса вывода заключения из посылок подрывает, по мнению Е. В. Булыгина, предложенное Г. Кельзеном жесткое деление между общими и индивидуальными нормами. Ведь согласно нормам практически всех правопорядков, судья не вправе создавать индивидуальные нормы, игнорирующие как установленные обстоятельства дела, так и содержание общих норм. Смысл судебного решения заключается не в провозглашении воли судьи по поводу спора, а в установлении фактов и выведении из общих норм решения для спора на основании этих фактов: «Только произвольное необоснованное решение не является логическим следствием из посылок»[177]. Поэтому, если искать в судебных решениях нормы, то их нужно искать не в перспективе волеизъявления судьи, а во введении в правопорядок конкретизации общей нормы. Эта позиция проф. Булыгина представляется более приближенной к обычному словоупотреблению юристов романо-германской правовой традиции и может рассматриваться как ценная конкретизация кельзеновского тезиса о роли судебных решений в динамической структуре правопорядка.
5. Основная норма
Проблематика действительности норм права и определения ее условий и оснований привела Е. В. Булыгина к критическому рассмотрению ключевого раздела чистого учения о праве – теории основной нормы. Это рассмотрение вскрывает некоторые ключевые расхождения между пониманием нормы в концепциях Е. В. Булыгина и Г. Кельзена. Обычно для юристов нормы отражают направленность воли законодателя на то, чтобы люди следовали известному поведению, и чтобы к ним применялось наказание за то, что они этому поведению не следуют. Этот субъективный смысл нормы Г. Кельзен отличает от объективного смысла, который задается норме фактом ее принадлежности к правопорядку. Сам правопорядок конструируется за счет того, что действие входящих в него норм может быть возведено к гипотетическому основанию юридического мышления (основной норме)[178]. Неопределенности высказываний Г. Кельзена на этот счет сопутствовала многозначность понимания содержания нормы как ее «смысла» (Sinn): этот термин в его работах, как показывает Е. В. Булыгин, может указывать как на лингвистическое значение высказывания, так и на иллокутивную силу высказывания[179].
Но, как утверждает проф. Булыгин, если содержанием норм является их иллокутивная сила, то она может быть описана без отсылки к основной норме – достаточно лишь факта установления нормы компетентным органом в качестве составной части эффективного правопорядка. Речь идет о валидности в смысле принадлежности, которая аналитически и нормативно независима от валидности в смысле обязывающей силы. Как было показано выше, предположение этой последней (понимаемой как своего рода моральная обязанность), по убеждению юбиляра, несовместимо со строго позитивистской теорией права. Идея о том, что основная норма определяет обязательность права, должна означать, по Е. В. Булыгину, что эта основная норма имеет абсолютное (самоочевидное) значение, что делает ее очень похожей на юснатуралистические конструкции.
Повторяя этот известный аргумент, который заставил австрийского правоведа в 1960-х гг. пересмотреть теорию основной нормы, Е. В. Булыгин демонстрирует достаточность исходной нормы компетенции для конструирования правопорядка. Он считает, что из нормы компетенции можно вывести действие всех производных норм[180], так что действие правопорядка будет опираться только на факт – способность органов, созданных на основе норм компетенции, обеспечивать принудительный порядок. Эта идея очень схожа с конструкцией «первой конституции» в теории Г. Кельзена[181], но проф. Булыгин вводит здесь одно немаловажное различие. Эта «первая конституция» не содержит ничего, кроме норм компетенции, и не является источником для обоснования обязательства субъектов правопорядка подчиняться праву[182].
Уточнения, которые вносит Е. В. Булыгин, касаются, с одной стороны, выводимости – речь идет не только о динамической выводимости через деятельность компетентных органов, но и о логической выводимости. С другой, речь идет о более пониженном стандарте действия исходных норм правопорядка – для проф. Булыгина достаточно «просто формального существования, то есть чтобы нормы были сформулированы»[183]. Иными словами, для действительности нормы достаточно ее принадлежности к эффективному нормативному порядку. Поэтому постулирование некоей исходной гипотетической нормы правоведами представляется русско-аргентинскому правоведу как необязательное.
Дело в том, что для проф. Булыгина, также как для Г. Х. фон Вриг-та, действительность нормы соотносится не с обязывающей силой (действительностью) другой нормы, а всего лишь с существованием другой нормы. Это делает ненужным бесконечный регресс к некоему абсолютному основанию правопорядка и его описание через концепцию основной нормы. По мнению юбиляра, «нет нужды выходить за пределы конституции, потому что цепочка выведения правомочий начинается именно с нее»[184], и «тогда нельзя серьезно говорить об обоснованности или об обязательности правовых систем»[185], что приводит к необходимости отказа от понятия обязывающей силы (нормативной действительности).
Но можно ли безоговорочно соглашаться с критикой концепции Кельзена применительно к вопросу о нормативной действительности (обязывающей силе) норм права? Следуя заложенной А. Россом критической традиции, проф. Булыгин находит в концепции Г. Кельзена метафизические элементы в связи с тем, что «утверждение о действительности нормы означает, что ей необходимо повиноваться». Русско-аргентинский правовед делает оговорку, что «Кельзен фактически так иногда говорит»[186], что является признанием неоднозначности такой интерпретации, и, как было показано выше (раздел 3), допускает возможность переформулировки кельзеновской теории в другом значении.
Для этой неоднозначности есть свои причины. С одной стороны, на страницах работ австрийского правоведа есть много туманных высказываний на этот счет, которые могут оправдать такого рода интерпретации. С другой стороны, Г. Кельзен настойчиво отрицал существование какой-либо моральной обязанности следовать праву, а обязывающая сила права в его концепции представляла собой лишь описание схемы юридического мышления[187].
Проф. Булыгин прав, говоря о двусмысленности концепции Кельзена в этом отношении. Но данная А. Россом трактовка учения Г. Кельзена об основной норме не является единственно возможной, а внесенные австрийским правоведом в последний период его творчества уточнения делают эту трактовку несколько сомнительной[188]. Здесь позиция Е. В. Булыгина также опирается на тезис о том, что предположение об эпистемологическом создании норм права с необходимостью приводит к признанию надпозитивных источников действия права. Этот тезис выглядит правдоподобно применительно к раннему учению Г. Кельзена, но во втором издании «Чистого учения о праве» и последующих работах австрийский правовед предпринял известные усилия, чтобы уточнить свою позицию в этом отношении и провести более четкое разграничение между актами познания и актами воления, их следствиями.
Здесь показателен заочный спор двух мыслителей о том, является ли эффективность правовой нормы и того правопорядка, в который она включена, достаточным или необходимым условием валидности. В рамках заочного спора с Е. В. Булыгиным Г. Кельзен утверждал, что действенность является достаточным, но не необходимым условием действительности правовой нормы[189]. Со своей стороны, проф. Булыгин пытался доказать, что для чистого учения действенность выступает также в качестве необходимого условия, поскольку «основная норма будет постулироваться всегда, когда присутствует множество действенных норм»[190]. И в этом он оказался прав, что косвенно признал позднее и сам Г. Кельзен в «Общей теории норм»[191].
Объективное существование основной нормы, о котором рассуждает Г. Кельзен в своем позднем учении, играет лишь роль постулата юридического мышления, который не является необходимым для вменения субъектам правопорядка обязанности соблюдать его нормы. На этой же позиции стоит и проф. Булыгин, который указывает на то, что «гораздо более благоразумным вместо того, чтобы постулировать объективный смысл акту повеления А, допустить, что нет такого объективного смысла, что описание ограничивается лишь констатированием несомненных эмпирических фактов: существование повелений и их принятия (со стороны адресата повеления и(или) общества»[192].
Но может ли исходная норма компетенции быть обоснована безотносительно к интеллектуальным конструкциям, которые юристы создают для описания правопорядка? В этом отношении между двумя мыслителями обнаруживаются некоторые принципиальные расхождения. В целом, применительно к нормам компетенции и Е. В. Булыгин, и Г. Кельзен отмечают их производный характер: значим в них не тот объем полномочий, что дается субъекту на создание индивидуальных или общих норм, а возложенная правопорядком на адресатов обязанность вести себя сообразно нормам.
Кельзен выделяет четыре смысла компетенции: полномочие на создание норм, право на участие в создании норм (личные и политические права), дееспособность как указание на возможность для субъекта своими действиями создавать юридически значимые последствия и деликтоспособность. В конечном счете, компетенция сводима к наделению адресата правами и обязанностями. С этой точки зрения, для Г. Кельзена было вполне логично увязывать компетенцию с обязанностями в рамках регулятивных норм, возводить их нормативный эффект к одному и тому же источнику, что обеспечивает единство их действия.
В «Нормативных системах» Булыгин и Альчуррон соглашались с таким пониманием норм компетенции. Но в более поздних работах (начиная с 1991 г.), ставя под сомнение эту конструкцию, Е. В. Булыгин следует за Г. Л. А. Хартом и другими теоретиками, которые разделяли регулятивные и конститутивные правила[193]. Эти последние дают определения и устанавливают условия, без соблюдения которых некий документ или факт не сможет рассматриваться в качестве подпадающего под соответствующее определение. Именно к этой категории принадлежат правила компетенции, тогда как возлагающие права и обязанности регулятивные нормы могут быть отнесены к первой категории.
Но последовательность этого деления вызывает некоторые сомнения. Так, Е. В. Булыгин предлагает следующий тест: если правомочие существует и может быть реализовано, несмотря на запрет его осуществления, то это норма компетенции (конститутивное правило); если запрет препятствует осуществлению правомочия, то это регулятивное правило[194]. Является ли это деление работоспособным?
Как представляется, тексты права практически всегда могут быть альтернативно реконструированы и как регулятивные, и как конститутивные правила, тогда как эффект того или иного правомочия не всегда может быть с достоверностью установлен в правопорядке. Нельзя исключить того, что в одних случаях суды дадут юридическую защиту созданному с превышением компетенции состоянию дел (например, последствиям сделки), а в других – нет. Это вполне возможно в приводимом Е. В. Булыгиным примере подписания адвокатом отзыва в защиту его матери в судебном процессе с нарушением установленных законом ограничений.
Если привести другой, более показательный пример из российского права, то применительно к правилам о сделке, совершенной за пределами полномочий представителя (ст. 174 ГК РФ), нормы о полномочиях представителя могли бы рассматриваться как регулятивные, поскольку при известных условиях (например, совершение сделки неуправомоченным лицом в ходе обычной хозяйственной деятельности компании, либо при условии одобрения компанией этой сделки в последующем), эта сделка сохранила бы свой юридический эффект. Все же, с точки зрения принятого словоупотребления, регулирующие полномочия представителя нормы мы называем нормами компетенции, тогда как, с точки зрения определения Е. В. Булыгина, в данном случае определяющие полномочия представителя нормы могли бы рассматриваться как регулятивные (поскольку ограничение не препятствует осуществлению полномочия).


