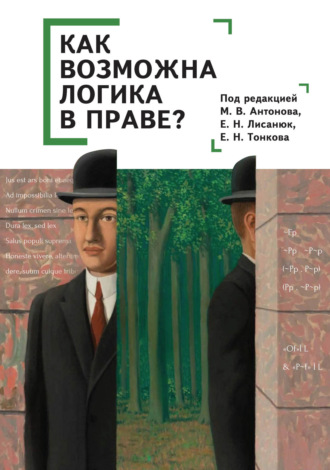
Коллектив авторов
Как возможна логика в праве?
Заключение
Концепция логического позитивизма Евгения Викторовича Булыгина, равно как и современная аналитическая традиция в целом, представляет собой одно из ведущих направлений теоретической юриспруденции в мире. Она имеет немало преимуществ, важнейшим из которых выступает логическая четкость и прозрачность функционирования права на уровне его нормативной системы. Безусловно, она очень дисциплинирует юридическое мышление; ее внутренний посыл заключается в том, чтобы сделать функционирование права четким, прозрачным, а значит и справедливым (против последнего, однако, по методологическим причинам будут возражать сами позитивисты).
Несмотря на общую методологическую установку логического позитивизма рассматривать право в перспективе логического анализа, Е. В. Булыгин прекрасно понимает неуниверсальный характер своей концепции. В полемике с С. Хаак[104], а также в вопросе о правах человека, аргентинский правовед не раз делает оговорку о методологическом ограничении познавательных возможностей своей теории. Описывая проблему пробелов в праве, Е. В. Булыгин не случайно утверждает: «именно логический анализ доказывает, что проблема пробелов в праве (в смысле отсутствия правовой регуляции) не может быть решена при помощи логики. Это еще не все, на что способна логика в праве, но определенно уже кое-что»[105].
Оценивая тенденции включения современной логики в юриспруденцию, мы не разделяем оптимизм некоторых исследователей о том, что в современной общеправовой теории наблюдается «постепенный переход от жесткого формального к все более гибкому, социально ориентированному пониманию рациональности»[106]. Позиции логического позитивизма достаточно сильны, и у него есть свои преимущества. Однако главная задача права и как нормативной системы, и как социального института состоит в том, чтобы справедливо регулировать поведение людей. Для этого, очевидно, важны и нормативный, и антрополого-социальный аспекты действия права.
В этой связи возможно верны слова Л. Н. Сумароковой о том, что «работа по созданию юридической логики как варианта практической логики может быть успешной, если юристы и логики усвоят ту истину, что не только нормы, правила, концепты и принципы конституируют действительность мышления, но и, главным образом, наоборот: жизнь человека, практика мышления, действительное мышление генерируют внутри себя алгоритмы, нормы, формы, концепты и принципы. И главным при этом становится не вопрос техничности, а вопрос ценностей, целей в аспекте перспективы Человека, его судьбы»[107]. Кроме того, нельзя не видеть и современных тенденций в развитии самой логики, связанных с проблемой отождествления рационального и логического, с попытками осмысления рациональности в новых процедурах формализации, приближенных к реальной жизни[108].
И, тем не менее, юридический позитивизм – это целый юридический мир, ставший классическим и, пожалуй, самым разработанным направлением в мировой юриспруденции. В этом контексте концепция Е. В. Булыгина, несмотря на те критические замечания, которые были упомянуты в настоящей статье и которые продолжают высказываться критиками и сегодня, продолжает вносить свой вклад в развитие общеправовой теории и философии права.
Resume: The article analyzes the concept of the famous lawyer Eugenio Bulygin in the context of the contemporary legal positivism, its evolution is examined on the example of H. Kelsen’s pure theory of law. The author studies also the origins of the analytical tradition in Argentina. On the basis of anthropological approach to law, an attempt is made by the author to consider the conception of logical positivism by E. Bulygin, identifying its strengths and weaknesses. The author concludes that it is possible to apply logical positivism within anthropology of law.
Keywords: Eugenio Bulygin, legal positivism, logical positivism, anthropological approach to law.
Вадим Иванович Павлов
Проблемы чистого учения о праве в работах Е. В. Булыгина
Аннотация: Рассмотрены подходы Е. В. Булыгина к интерпретации некоторых проблемных вопросов правовой теории Ганса Кельзена. Среди этих вопросов такие как нормативность права, природа правовых норм, различие между нормами и нормативными предложениями, нормативные следствия судебных решений, описание процесса правоприменения в терминах логики, полнота и непротиворечивость права и прочие. Особенное внимание русско-аргентинский правовед уделяет отграничению методологических принципов юспозитивизма в чистом учении о праве от тех элементов трансцендентализма, которые Кельзен воспринял из философии Канта. Демонстрируется значимость данных Е. В. Булыгиным интерпретаций и критических замечаний для лучшего понимания кельзеновской философии права.
Ключевые слова: чистое учение о праве, нормы права, нормативность, логика и право, Ганс Кельзен, юридический позитивизм.
Введение
Проф. Е. В. Булыгин является одним из признанных лидеров юспозитивизма в современном мире. Поэтому вопрос о связи правовых взглядов Е. В. Булыгина и Ганса Кельзена – ведущего представителя юспозитивизма XX века – не может не вызывать исследовательского интереса. Эта связь является достаточно очевидной, она прослеживается во многих центральных для позитивистской теории вопросах: природа норм, механизм действия права, действительность и действенность права, устройство правопорядка и проч. Тем более, что и сам Евгений Викторович не скрывает того, что его идеи во многом связаны с чистым учением о праве и отчасти опираются на него.
Как пишет мыслитель в своем автобиографическом очерке: «теория Кельзена осталась для меня постоянной основой. От Кельзена я взял его тематику: структуру правопорядка и нормы, которые этот порядок составляют, равно как кельзеновский юридический позитивизм и скептицизм по вопросу о ценностях»[109]. Е. В. Булыгин выражает твердую уверенность в том, что «хорошее знание теории Кельзена является основополагающим для всех тех, кто хочет работать в области философии права»[110]. Поэтому неудивительно, что проблемы чистого учения о праве неоднократно обсуждались на страницах работ Е. В. Булыгина – причем не как застывший комплекс идей и представлений, а как отправная точка для разработки методологических проблем теоретического правоведения.
Наряду с идеями Г. Кельзена, позитивистская философия права Е. В. Булыгина строится на идеях Г. Л. А. Харта, А. Росса, а также деонтической логике Г. Х. фон Вригта – если упомянуть только основные источники. Среди четырех вышеупомянутых мыслителей сам юбиляр, похоже, более «доверяет» работам Г. Л. А. Харта и Г. Х. фон Вригта, многие положения из которых он берет как аксиоматические. Работы Кельзена для него чаще представляют предмет критических размышлений, позволяющих уточнить и развить свои собственные представления. Эти критические размышления важны для тех, кто занимается исследованием чистого учения о праве, и поэтому в рамках настоящей работы будут рассмотрены основные их них.
Помимо самой по себе проблематизации в работах проф. Булыгина различных аспектов чистого учения о праве, эта тема имеет для меня известное личное значение. Выбор темы этой работы для сборника в честь юбилея Е. В. Булыгина связан с осознанием того, насколько мое собственное восприятие неоднозначных и проблемных аспектов чистого учения о праве оказалось сформированным интерпретациями этого учения в работах юбиляра. После публикации русских переводов работ Е. В. Булыгина в 2010-х гг.[111], его идеи дали новый импульс для переосмысления в постсоветском правоведении некоторых ключевых методологических проблем юридического позитивизма[112].
Это осознание послужило для меня стимулом для того, чтобы порассуждать о том, в каких аспектах эти интерпретации важны для современной философии (теории) права, в чем с ними можно согласиться, а с чем в критике чистого учения со стороны Е. В. Булыгина можно было бы подискутировать[113]. В любом случае, современное понимание кельзеновской теории права трудно представить без учета исследований, которые проф. Булыгин проводит уже более 55 лет – если вести отсчет с момента выхода его полемической статьи о понятии действенности права, которая получила критический ответ со стороны австрийского правоведа[114].
1. Отделение идеализма от позитивизма
Наиболее значимым среди критических замечаний проф. Булыги-на мне представляется его полемика против метафизических элементов чистого учения о праве, которые он небезосновательно считает производными от заимствования Г. Кельзеном некоторых идей трансцендентальной философии И. Канта. Е. В. Булыгин неоднократно обращался к критическому анализу элементов кантовой философии в теории Кельзена, выражая уверенность, что отделение этих элементов философского идеализма от позитивистских идей австрийского мыслителя необходимо для последовательной реконструкции логики развития чистого учения о праве[115]. Ведущие исследователи в этой области – такие, как проф. С. Л. Полсон, – неоднократно обращались к этому аспекту[116], изучению которого юбиляр посвятил несколько важных работ.
Вывод, который делает Е. В. Булыгин по результатам анализа роли кантианской философии в теории Кельзена, звучит несколько вызывающе: «для придания чистому учению о праве последовательности, некоторые из кельзеновских идей, проистекающие из одной философской традиции и поэтому несовместимые с другой традицией, должны быть исключены из данного учения»[117]. Казалось бы, такой пересмотр чистого учения о праве невозможен по определению (как можно подменить некоторые ключевые методологические принципы некоей теории, не разрушая ее или не подменяя ее другой теорией!). Но Е. В. Булыгину это удается. Юбиляр взял на себя сложную задачу уточнения позитивистских идей Кельзена, которые он рассматривает как «наиболее значимые» в интеллектуальном наследии австрийского правоведа, и очищения кельзеновской теории от элементов кантианства, что соответствовало бы «философскому развитию Кельзена, которое демонстрирует явную тенденцию в направлении позитивистских компонентов его теории права»[118].
Рассматривая идеалистические элементы кельзеновской теории, проф. Булыгин в первую очередь указывает на методологическую несовместимость идеи И. Канта о способности науки создавать предмет своего познания (то есть тезис о том, что при помощи категорий рассудка познающий субъект формирует объекты своего чувственного опыта) с позитивистским принципом, в силу которого Г. Кельзен отказывался от предположения каких-либо самоочевидных положений и истин, которые высказываются правоведами относительно права и его действия. Эта метафизическая идея привела Г. Кельзена к ошибочному, по мнению Е. В. Булыгина, тезису о том, что наука о праве сама создает свой предмет, что правовые нормы формулируются не в принимаемых законодателем актах, а в высказываниях, при помощи которых правоведы описывают эти акты и их нормативные следствия. В конечном итоге, такая идея оказывается несовместимой с позитивистским тезисом о социальных источниках права.
Данный тезис Кельзена об «эпистемологическом создании» норм права опирался на идею о том, что правоведы облекают свои высказывания в особую форму (вменение), которая указывает на связку между фактом нарушения права и фактом применения наказания за нарушение[119]. Такова была, в частности, позиция австрийского правоведа в первом издании «Чистого учения о праве» (1934 г.) вплоть до пересмотра им чистого учения о праве в послевоенные годы, начиная с французского издания «Чистого учения о праве» в 1953 г.
Через сравнение кельзеновских подходов к характеристике нормотворческой функции правовой доктрины русско-аргентинский правовед демонстрирует две параллельные тенденции в чистом учении о праве. Это позитивизм, который опирается на тезис о социальных источниках, с одной стороны, и идеалистическая философия, которая требует отделения в праве фактического от нормативного, с выводом последнего в изолированную от мира фактов сферу долженствования, с другой. С точки зрения проф. Булыгина, в этом последнем аспекте «Кельзен всерьез пытался перенести на право идеи трансцендентального идеализма, и, в первую очередь, идею создания человеческим разумом предмета познания. Его неудача в этом деле весьма поучительна»[120].
Опираясь на такой трансцендентализм, австрийский мыслитель в своем раннем учении попытался сконструировать норму как смысловое содержание, независимое от акта ее издания, чтобы тем самым изолировать Должное от Сущего (от факта издания и промульгации). Для Кельзена, вменение юридических последствий некоему действию не дано в самом нормативно-правовом акте – оно требует дополнительного суждения об этом акте, в результате которого властный приказ преобразуется в норму.
Эту идею юбиляр считает «наиболее слабым пунктом в кельзеновской теории до 1960 года»[121], поскольку из нее можно заключить, что без такой интеллектуальной реконструкции норм правопознание невозможно. Как неудачно высказался об этом сам австрийский мыслитель, иначе бы правопознание обратилось в хаос чувственных восприятий[122]. Он считал, что поскольку приказы как акты воли не имеют между собой логической связи, эта связь не дана в самих нормативно-правовых актах, а создается через теоретические высказывания (нормативные предложения) представителей науки о праве.
Окончательно от этого тезиса Г. Кельзен напрямую так и не отказывается, но во втором издании «Чистого учения о праве» мыслитель устранил соответствующие рассуждения из своей работы, что дает Е. В. Булыгину основания для утверждений о косвенном отказе Г. Кельзена от этого кантианского тезиса, чего требовала логика развития его теории: «Как только вводится идея о том, что правовые предложения суть всего лишь описания правовых норм, лишается всяческой опоры и повисает в воздухе тезис о нормативности науки о праве»[123].
Соглашаясь с этой критикой тезиса об эпистемологическом создании норм, стоило бы несколько смягчить ее. Кельзен не утверждал того, что юридические нормы и процесс их создания хаотичен, и был далек от отрицания того, что эти нормы «являются продуктом сознательной и, очень часто вполне разумной работы людей, занимающихся созданием права»[124]. Аллегория «хаоса чувственных восприятий», как представляется, не несет той смысловой нагрузки, которую в нее вкладывает проф. Булыгин для критики трансцендентального измерения теории Кельзена[125]. Это лишь образное выражение, при помощи которого Кельзен приводит пример для пояснения значения теоретико-познавательной работы для правопорядка[126].
Стоит согласиться с тем, что это образное выражение неудачно, поскольку в своем буквальном смысле оно противоречит, по меньшей мере, одному из центральных тезисов чистого учения о праве о том, что норма не существует сама по себе, что она получает силу, регулятивную способность только за счет того, что она включена в нормативный порядок[127]. Это означает, что нормативные высказывания (приказы), включенные в нормативно-правовые акты и иные источники права, изначально являются частями упорядоченного целого, так что правильнее было бы сказать, что теоретические высказывания уточняют и конкретизируют эту упорядоченность, но не «создают» ее[128].
Из раннего кельзеновского учения нельзя однозначно вывести того, что принимаемые нормотворческими органами акты до их обработки юристами не могут находится в упорядоченной связи друг с другом – юристы лишь способствуют дальнейшему упорядочиванию, но не являются причиной и условием возникновения нормативного порядка. Такой образ правотворческого процесса вполне совместим с тезисом об «эпистемологическим создании» норм, если под последними понимать высказывания о том, что нечто должно совершаться или некто должен себя вести известным образом[129].
Трудно спорить с тем, что такого рода теоретические высказывания помогают связать предписания властей с «жизненным миром» адресатов, а организация этих высказываний в единую систему помогает организовать в соответствующей последовательности и те нормотворческие акты, в которые включены нормы и на которые опираются высказывания о них. Если нормы понимать не как властные приказы, а как реконструкцию прав и обязанностей адресатов этих приказов[130], то идея Г. Кельзена о том, что такие нормы создаются только при интерпретации властных приказов, оказывается не столь абсурдной, как это можно было бы предположить из фразы о хаосе[131].
В чем Е. В. Булыгин бесспорно прав, так это в том, что нормотворческие акты создаются так, что они изначально встроены в соответствующий нормативный порядок, так что роль юридической науки заключается не в создании этого порядка, а в его описании. Его интерпретация кельзеновского учения как эволюционирующего в сторону отказа от способности правовой науки «эпистемологически создавать» нормы права в этом аспекте представляется совершенно верной, равно как и его призыв к более строгому разграничению описания от предписания при истолковании нормативно-правового материала.
2. Антиномия в чистом учении о праве
Кельзеновский тезис об «эпистемологическом создании» норм права предстает как некорректный в другом отношении, на что вполне обоснованно указывает Е. В. Булыгин. Этот тезис не мог сосуществовать с принципиальными утверждениями кельзеновского учения позднего периода о том, что содержанием нормы является волеизъявление издающего ее субъекта («нет нормы без императора») – данное противоречие в чистом учении о праве проф. Булыгин называет основной антиномией этого учения[132].
Если содержанием нормы является властный приказ, то и считать ее созданной нужно с момента ее издания нормотворческим органом, тогда как интерпретации со стороны юристов лишь уточняют содержание нормы. То, что Кельзен в своем позднем учении не отказывается от разбираемого выше тезиса об «эпистемологическом создании», вносит в чистое учение о праве два противоречащих утверждения – «норма создается через акт воли» vs «норма создается через акт познания». Это противоречие дает почву для двух совершенно различных интерпретаций кельзеновского учения и для соответствующих дебатов[133].
Для разбора этой антиномии Е. В. Булыгин выделяет восемь тезисов в теории Кельзена, из которые первые четыре он считает «кантианскими», а другие четыре – позитивистскими: (1) теория двух миров (Сущего и Должного) и выводимая из нее характеристика правовых норм как принадлежащих к миру Должного; (2) концепция действительности в смысле обязывающей силы; (3) нормативность науки о праве; (4) понимание основной нормы как трансцендентальной категории; (5) четкое разграничение между Сущим и Должным; (6) некогнитивистская концепция норм и понимание оценочных суждений как предписаний, которые не могут быть ни истинными, ни ложными; (7) тезис о том, что все правовые нормы обретают и утрачивают свое существование вследствие определенных действий людей; (8) четкое различие между описанием и оценкой, между мышлением и волением, между познанием права и созданием права, между наукой о праве и политикой права[134]. При этом Е. В. Булыгин рассматривает тезисы 1–4 как несовместимые с тезисами 6–8.
В первую очередь, он убедительно опровергает отделение мира Сущего от мира Должного в разных версиях чистого учения о праве, демонстрируя, что «эти два мира тесно переплетены, а изучение норм с необходимостью требует учета определенных фактов»[135]. С точки зрения юридического позитивизма, фактические действия по созданию, промульгации, отмене правовых норм являются условиями существования всех норм права. При этом их обязывающая сила считается в позднем учении Кельзена производной от факта издания властных актов предписания, а минимум действенности правопорядка является необходимым условием действительности его норм. Из этого юбиляр без труда выводит опровержение теории двух миров (Сущего и Должного) как непересекающихся друг с другом – для позитивиста Должное в праве не может возникнуть иначе как через те акты и процессы, что протекают в мире Сущего[136]. Как считает проф. Булыгин, этого не мог осознавать и сам автор чистого учения о праве, который в последний период своего творческого пути начал методологическую перестройку своей теории, но не успел ее завершить[137].
Но если нет смысла отделять Должное в праве, – то есть нормы права, – от Сущего, то ничто не препятствует тому, чтобы выводить нормативность права из фактических действий правотворческих органов. А если так, то, с точки зрения позднего учения Г. Кельзена, оказывается совершенно ненужным тезис о нормативности высказываний науки о праве. Более того, проф. Булыгин считает, что такой тезис несовместим с юридическим позитивизмом, поскольку иначе за высказываниями правоведов нужно было бы признать известную нормативную силу в силу самого содержания этих высказываний[138].
Эту несовместимость юбиляр характеризует следующим образом: «Я не знаю, как согласовать несовместимые аспекты теории Кельзена, а именно – дескриптивный характер правовых высказываний и ценностную нейтральность правовой науки, с одной стороны, а с другой – нормативность правовых высказываний, объективную действительность норм и учение об основной норме. Так как эти два аспекта его теории совершенно противоречивы и несовместимы, я не вижу иного выхода, кроме как принести в жертву один из них… То, что нам приходится не принимать во внимание добрую часть теории Кельзена для того, чтобы сделать ее последовательной, – это, конечно, не совсем удовлетворительное решение, даже если бы Кельзен был согласен с таким решением. Но я не вижу здесь иной возможности, кроме как следовать по стопам Кельзена»[139]. Способ разрешения этой антиномии, что предлагает юбиляр, кажется вполне логичным: «Нормативные высказывания не влияют ни на акты установления норм (законодательные акты в широком смысле), которые являются фактами историческими, ни на содержание норм, т. е. на обязательства, запреты и дозволения, установленные нормами»[140]. Эта интерпретация Е. В. Булыгина, как представляется, очень хорошо вписывается в логику «Общей теории норм» Г. Кельзена.


