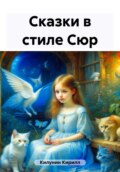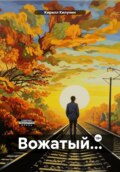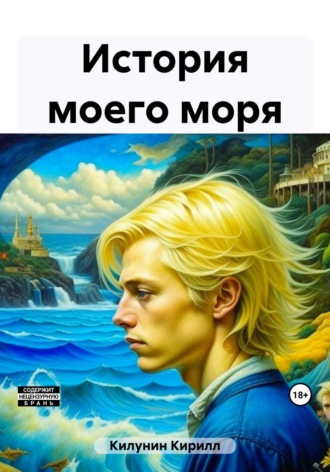
Кирилл Борисович Килунин
История моего моря
Я помню старого абхаза – шофера такси, который отвез меня до границы с Россией по дороге домой, передав такому же шоферу собрату с другой стороны.
– Как ты думаешь? – спросил он меня тогда на прощанье, – Будет снова война?
Я ответил: возможно…
– А русские, – спросил он, – Вы не бросите нас…?
– Я задумался, а потом, улыбнувшись, сказал: никогда…
Он печально улыбнулся в ответ, пожал мою руку. Был, кажется 2007. Я рад, что не обманул этого светлого человека, хотя, конечно не знал… ничего и до сих пор не знаю.
19. Я знаю, что у этого мира есть своя изнанка…
…, ближе всего к ней наша Коми…, земля племен – живущих в долинах Камы реки, земля памов – мужчин – шаманов. Коми, тоже Пермь, пермяцкая земля, это – самый край и Север. И чем дальше на север – тем меньше шуток. Тем больше истинной веры и откровенного язычества. Учителя в кудымкарских школах все еще, как и сто лет назад – учат детей, как обмануть лешего, чтобы не потеряться в лесу. Здесь часто лес начинается прямо за околицей. И это – не пара берез, в которых заблудится типичный городской житель. А, древняя тайга, существующая по своим законам тысячи лет, с тех пор как сошел великий лед, и на оставшемся после него болоте, выросли первые сосны, пронзающие антрацитовые небеса.
Я тоже знаю, как обмануть лешего – Вöрись керку – поменять местами обувь с правой и левой ноги, вывернуть одежду наизнанку. Я скажу ему: чур, я помню имя своего деда и пра… Рассмеется леший и обернется неясытью, оставив только следы огромных когтистых ступней на слежавшейся хвое цвета тусклого серебра и эхо гулкого смеха: веек – вьек – вьек…
* * *
Деды говорят, что однажды Бог, отправил ангела за живой водой, чтобы спасти одного из самых верных своих учеников. Но тот ангел, так и не вернулся на Небеса, засмотрелся, расчувствовался, прельстила его жизнь земная. За то, Всевышний, превратил ангела в ночную птицу. Чтобы не знал он дня белого, только ночь, и всю жизнь провел в слепоте, каждую секунду своего существования прислушиваясь, в ожидании гласа небесного. Так появилась среди птиц – Неясыть – ночной охотник.
* * *
Мой дед и мой прадед были охотниками, знали лес, ходили в него с лета до зимы, скользя и ступая по снежному насту на широких охотничьих лыжах – лямпах. Они оба смотрели в ночное небо, чтобы не заплутать, туда, где россыпью звёзд светился Млечный путь. Эту россыпь древние коми называли Лямпа туй, что значит Лыжный след, след старого Бога.
* * *
Перед каждым выходом в лес и дед, и прадед, ходили в баню – мыться. «Зачем» – спрашивал я у бабушки Фисы. «Затем, чтобы зверь не почуял», – отвечала та. А дед и прадед только смеялись в седую бороду. Туда за кромку леса шли они как по ту сторону жизни, на изнанку, которая называется – смертью и не ведали вернуться.
«Тун-еретик, я поясом опоясался, ножом оградился, железом закрылся. На твой зуб – камень, на твой язык брусок. Лучше не ввязывайся, лучше отвернись», – шептал дед, преступив кромку живого изумрудного шатра, в котором завывали бореи – холодные северные ветра.
* * *
А я не понимал всех этих слов. В нашем дворе, в доме по соседству жила девочка Света с мамой. Мы часто смеялись над ними, когда они говорили слова, которых нет. «Зэр-зэр», – кричала Светка, когда начинался дождь, или «рыт» – говорила ее мама, когда наступал вечер.
Когда я был мал, для меня все люди были почти одинаковыми, а различал я их так: женщины и мужчины, взрослые и дети, злые и добрые, свои и чужие. Я ничего не знал не про татар, не про коми, к которым принадлежали Светка и ее мама. Света любила рассказывать страшные сказки – про людей-зверей, и духов леса. Я, конечно их позабыл, наверное от того что сильно пугался и поэтому выбрасывал их из своей головы. Я помню, что у Светки и ее мамы дома было пусто – покосившийся одежный шкаф и полосатый матрас, на котором они спали вдвоем, использовав его вместо кровати. Иногда, украдкой от взрослых, я носил Свете хлеб, потому, что она как кукушонок, вечно была голодна, а ее мама пропадала по своим взрослым непонятным делам. А мы со Светкой часто прятались от мальчишек вдвоем, чтобы те не тыкали в нас пальцем, и гуляли, держась за руки, обследуя заброшенные стройки и чужие дворы. Так было лет до двенадцати, а затем я начал взрослеть. Светка уже повзрослела и от этого мой первый поцелуй, это – она, а еще она показала мне, чем мальчишки отличаются от девчонок, я краснел, мне было сладко и стыдно. Но все равно наши пути разошлись. Конечно, пробегая мимо мы говорили – «привет», но больше не желали знать о друг – друге почти «ничего». Когда ей исполнилось шестнадцать, я узнал, что Светка сбежала из дома. Ее никто не искал, мать Светы пила последние лет пять и в один черный день не вернулась домой, а в их со Светкой квартиру заехали какие – то незнакомые люди, и стали там жить, поставив железную дверь взамен старой – фанерной, на которой я тайно ржавым перочинным ножом вырезал свое сердце.
Я встретил Светку через год, после того как мне самому исполнилось семнадцать лет, на колхозном рынке на улице 1905 года, там среди цыганского гвалта, она щербато улыбалась и держала за правую руку какого-то рыжего паренька, примерно ее возраста. Они вместе продавали душистую лесную землянику и зверобой, тогда у меня отлегло от души, но я так и не решился к ним подойти, чтобы сказать свой – «привет…»
* * *
Я сам тогда был с приветом, вернее влюблен, да еще в девчонку на два года старше. Мне очень хотелось сказать ей: «Хочешь, я буду познавать тебя как первооткрыватель незнакомую планету, главное, это твоя атмосфера, пригодна ли она для дыхания, или, может быть, я задохнусь…» Но я ничего не сказал, смотрел влюбленным взглядом со стороны и молчал…… вспоминая, как Светка в свои двенадцать, говорила, что мои глаза похожи на два голубых озера.
* * *
Дед рассказывал, что на одном Голубом озере – на языке коми «Пыш ты», когда он был таким же молодым и глупым как я, и тоже страдал от любви, они отправляли в особую ночь по воде деревянные плотики с восковыми свечами. Таким способом по вере предков человек мог распутать любую свалившуюся на него сложную жизненную ситуацию, проблему, найти свой правильный путь или верный выход. Так коми обращались к мудрым – умершим предкам…, со своей просьбой. Но я тогда мало верил в подобные сказки и не знал где искать свое озеро «Пыш ты».
* * *
Зато, я тогда полюбил гулять по ночам, в свои семнадцать лет. Я всегда старался держаться тени, в глубине самой темной ее половины, и думал что я сам тень, живу среди теней, и меня действительно никто не замечал, только особые люди. Дед бы сказал, что в них еще дремлет перводух – священный тотем племен, и они, если не осознают того сами, пользуются своим звериным чутьем, то есть чувствуют или – слышат лес, даже если это – всего лишь каменные джунгли, которыми называют большие города, такие как наш. Еще они, как и я чувствуют брошенный взгляд, эти люди, с тотемом внутри.
Мои ночные гуляния холодили кровь. Я чувствовал вкус жизни на своих губах или смерти, и осознавал, что все это – может закончиться плохо, но не закончилось. Родная тетка взяла меня к себе на работу, чтобы я не болтался без дела. Был самый разгар девяностых и каждый выживал, как мог. Тетя Галя затеяла агробизнес – продажу саженцев, рассады и семян. Тогда многие старались держать огороды, чтоб прокормить свои семьи. Сама тетка заведовала кафедрой овощеводства в местном сельскохозяйственном институте и для начала взяла в аренду, а затем выкупила пришедшую в упадок Липовую гору – бывшую в советские времена подсобным хозяйством ее родного института.
Липовая гора, это запущенный сквер, заросшие сорняками серые пустыри и ржавые теплицы, засыпанные битым стеклом, парочка вросших в жухлые травы тракторов и бревенчатые неприветливые дома – бараки. Тетка получила три таких дома в личное пользование. В остальных домах – бараках, в запущенном сквере их было еще штук пятнадцать, жили разные люди. В основном, это были – выселенные сюда из своих городских квартир безумные старухи, алконавты, бомжи, занявшие пустующие помещения, и бывшие работники институтского подсобного хозяйства, заселившиеся сюда еще в эпоху цветущего социализма, и брошенные затем вместе со ставшим вдруг никому ненужным институтским хозяйством. Они возделывали в меру своих малых сил чахлые грядки, пасли облезлых коз, варили самогон на продажу, иногда рожали детей и, конечно же, умирали, их хоронили тут же, я сам видел эти безымянные могилки.
А мы под руководством деятельной тети Гали локально поднимали сельское хозяйство. Тогда, моим напарником стал крепенький мужичок – небольшого росточка с узкими колючими глазками цвета африканского кофе и мозолистыми ладонями, больше похожими на две совковых лопаты. Я звал его Аниськин, сам он называл себя Сашей, кажется, он был на пенсии по выслуге лет и большую часть своей жизни проработал сельским участковым, где – то в Кудымкарском районе, типичный северный «комик».
Саша – Аниськин, постоянно носил: старый ментовский кожан из скрипучего кожзама, стертые берцы, совдеповское трико с вытянутыми коленками, и китель без знаком отличия. Разговаривал он тихим скрипучим голосом, похожим на звуки сломанного радиоприемника, при этом постоянно рассказывал разные байки, объявляя очередной перекур. Наверное, это был его милицейский способ отлынивать от тяжелого физического труда. Мы с ним копали или откапывали вместе старый подвал, клали кирпичную стену для нового гаража, чистили от стекла теплицы, латали дырявые крыши, и таскали нескончаемые мешки с мусором – десятки, сотни мешков, он был бесконечен этот самый мусор, но мы его победили, однажды…
И вот чтобы не пасть раньше срока, каждый битый час Аниськин предлагал мне присесть, конечно, я был только «за». А он, доставал свой горький «Беломор» из мятой пачки и, мусоля белую папиросу, вспоминал что – то из своей службы. В основном это была разная чернуха: изнасилованные девяностолетние старухи, четырнадцатилетние девочки, зарезавшие своих родителей, которые не разрешали им встречаться с любимыми мальчиками. Еще – кража колхозных буренок, на которых умчались в ночь, чтобы прокатится с ветерком представители сильно пьющей местной молодежи. И то, как его самого чуть не убили пару раз местные бандосы, не признав без формы по ночному делу. А все потому, что несколько лет ему не желали выдавать табельный пистолет, и от этого Саша носил с собой дедов охотничий нож – тесак, с которым дед ранее не раз ходил на медведя. И Саша часто пускал его вход – правда, старался бить только плашмя по голове, чтобы вырубить очередных пьяных буянов – отморозков местного пошиба, или просто – пугнуть… Еще Аниськин любил рассказывать о своих любовных похождениях. Хотя сам он женился сразу после армии, и до сих пор не развелся, гулял, кажется, Саша все это время, не переставая, имея чуть ли, не с десяток любовниц в разных селах и деревнях, находившихся когда – то под его безустанным милицейским надзором. Некоторые из дам этого Казановы были замужние и поэтому, ему часто приходилось, то прятаться на чердаке, или под кроватью, в сортире. То, прыгать в одних трусах в окно, где бушевала метель, в минус сорок, топить, посреди ночи украдкой чужую баньку, чтобы спасти отмороженные причиндалы и негнущиеся пальцы на нижних и верхних конечностях. Я во время этих историй только кивал и внимательно слушал бывалого сельского участкового, мне казалось, что в отличие от этого человека, мне самому нечего ему рассказать, да он и не ждал моих историй, ему хватало своих. Запомнилась история о том, как однажды, Саша заявился, посреди ночи к одной свой давней любовнице, голодный как зверь. У той – «отчаянной потаскухи и никчемной хозяйки», не оказалось никакого съестного, и вот, чтобы не умереть с голодухи, он всю ночь не слазил с нее, любил и сосал ее грудь, аки младенец, а утром свалил, к жене, чтобы кушать жирные щи с домашней сметаной. Такой сукин кот…
* * *
Как то мы с Аниськиным, ремонтируя очередной теткин дом – барак, доставшийся ей от института, в подполе нашли настоящее бомбоубежище, а при нем слегка запылившийся цех по производству контрафактного «Советского шампанского». Не знаю, кто здесь химичил, и отчего его бросили, может это были заезжие кавказцы, которых погнали, может быть, хозяев посадили или просто убили, но они оставили все оборудование и десяток ящиков готовой продукции. Саша предложил рискнуть и первым присосался к бутылке с шипучкой. Он сразу не умер и даже не ослеп, и, я тоже рискнул. Здесь в старом бомбоубежище, закончился наш очередной рабочий день – тихой пьянкой. Помню, как тетка ругалась нас потеряв. А мы на следующий день, мучась тяжким похмельем заныкали ящик этой бодяги на черный день, а остальное продали за треть цены в один из ларьков в соседнем районе, вывезя это пойло под покровом ночи, на буханке одного старого Мишиного знакомого, а вырученные деньги поделили на троих.
* * *
Сегодня, мне кажется, что в то время я жил на изнанке настоящего мира, в каком-то не совсем правильном месте, нереальном, запутанном, но уютном, если привыкнуть. А может быть, тот мир и был единственно настоящим, а на изнанке я живу сейчас, последние двадцать лет. Наверное, я не очень хочу в этом разбираться.
* * *
Как – то ранней осенью, тогда, более двадцати лет назад, я задержался на своей Липовой горе, и возвращался уже в потемках по запущенному скверу, в котором не было не одного работающего фонаря, в полном одиночестве. Миша тогда неожиданно для всех ушел в недельный запой… Прохладный ветер запутался в моих волосах, под ногами шуршали опавшие листья, и хлюпала первая сентябрьская грязь. Вокруг танцевали тени старых деревьев, постепенно сливаясь с сумеречной тьмой. Накрапывал мелкий дождь, оплакивая вновь ушедшее лето наших надежд. И я поплыл, задумался, как это бывает с личностями романтического склада «о вечном…», и свалился в раскопанную неизвестными гореремонтниками траншею. Сразу выбраться не смог, попалась какая – то чрезвычайно сыпучая земля и высота траншеи оказалась вровень с моей головой, я нащупал ее с помощью рук, эту самую высоту. И вот, чтобы найти выход из странного и неудобного положения, я решил отправиться вперед, здраво рассудив, что может быть, найду «свой выход» именно там. Прошел, наверное, метров десять, опасливо прижимаясь к краю земляной стены, когда в вышине забрезжил тусклый свет, и послышалось тихое журчание. Это были вышедшая из облаков полная луна и мужик, справляющий свою малую нужду прямо в мою траншею сверху вниз.
– Эй, мужик! – радостно закричал я, размахивая руками. Мужик матюкнулся и, не успев застегнуть ширинку на брюках, рухнул ко мне. Помогая друг – другу, мы кое-как выбрались из этой проклятой траншеи вдвоем. Долго стояли на остановке, ожидая последний автобус, рассказывали смачные анекдоты, ржали и матерились, были счастливы словно дети, когда последний автобус пришел. А мы грязные как два землекопа, но счастливые и совершенно трезвые, забрались в него чуть ли не в обнимку. Водитель тогда почему-то отказался взять с нас оплату за проезд. Не знаю, помог ли этот самый мужик мне, если бы, не оказался в том же самом положении, общие проблемы так нас сближают…, ты тоже так думаешь? Иногда, не хочется знать об изнанке…Я вообще не хочу об этом думать, я же не какой ни будь псих…
20. Дядя псих
Это, еще одна из историй моего детства. Про очень странного человека… Мы называли его просто – дядя псих. Нет, он совсем не был буйным, вечно грустный, высоченный, худой очкарик, на вид лет двадцати пяти или сорока, этого нельзя было определить на первый взгляд, для нас просто – взрослый. Все вокруг говорили, что он сильно не в себе или попросту сумасшедший. Но он никого не обижал, не кричал, всегда пытался проскользнуть мимо вас, как тень – никем не замеченный. И это здорово у него получалось, только мы дети и обращали на него внимание, да еще его жена – Любка – широкая как баржа и безумно рыжая, горланистая любительница выпить, чумная по определению соседей – тетка, она была его женой. – Виииталик!!! – кричала она на весь двор, – вынеси мусор… Наверное его звали Виталик, мы об этом не задумывались, для нас он просто – дядя – псих. Вот в заношенном синем плаще – с авоськой пустых бутылок он спешит к дальним гаражам за гастрономом № 3, вот катит велосипедное колесо с помощью кривой палки, вот в тенечке палисада спит на скамейке, а на нем пристроилась дворовая – общая – рыжущая кошка Нюра.
Дядя псих нигде не работал и поэтому часто мелькал у нас перед глазами, тогда, когда мы были детьми. Мы никогда не дразнили его, лишь иногда смеялись в спину, от этого глупого детского смеха, он корчился, еще больше сутулился и старался быстрее пропасть из виду.
Когда пришли голодные девяностые дядя псих с криком: Вы больше меня никогда не обманите!!! – выкинул из своего окна на третьем этаже старенький ламповый телевизор, чем только подтвердил общественное мнение о собственной невменяемости.
А потом случилась другая история. Все вокруг так стремительно менялось, дяде психу отказали в пенсии по недееспособности. Просто в этой рыночной кутерьме кто-то списал в архив его больничную карту. А жену – Любку выгнали за пьянку с должности уборщицы в Школе № 54 для детей с ограниченными возможностями, ту, что рядом с нашим домом. И вот, однажды, наша соседка тетя Аня, неожиданно нагрянув с дачи, чтобы навестить родную квартирку, увидела следующую картину маслом:
Дядя псих висит, привязанный на веревке обмотанной вокруг его худосочной талии, прямо у ее балкона. В руках его банка огурцов и пакет гречи, покраденные из ее личных запасов. А сверху слышится отборный мат Любки, которая пытается затащить его обратно – домой, с законно утыренной добычей.
Возмущенная сей противоестественной для ее принципов социалистической морали, тетя Аня выхватила из своей сумочки дачный секатор и одним точным движением: вжик – отпустила дядю – психа в свободный полет, закончившийся закономерно – неудачным приземлением об асфальт. Дядя псих сломал ногу и порезал голову о разбившуюся банку с солеными огурцами, но оказалось все к лучшему, в больнице дяде психу восстановили, наконец-то, его утраченную невменяемость, и он снова начал получать пенсию, полный мизер, но это не давало ему и Любке умереть с голоду. А раскаявшаяся в своем антигуманном поступке тетя Аня ходила к дяде – психу в больницу и кормила его вкусными домашними голубцами, по две штуки за раз, один он всегда оставлял своей жене.
Однажды, на лестничной клетке, где жил дядя – псих, появились бритоголовые люди в черных кожаных куртках. Дядя псих и Любка – запили на пару недель, вечерами распевая советские походные песни, ни в коей мере не заботясь отсутствием гитары, и какого либо музыкального слуха. Конечно, мы соседи устали от этой вакханалии, и были рады, когда она прекратилась. Только дядя псих и Любка пропали… Кто-то говорил, что видел их в разрушенном доме за два квартала, они жили в одной из брошенных квартир, а когда этот дом снесли и построили новый, дяде психу и его жене не нашлось места в этой новой жизни.
Уже давно из моего родного подъезда разъехалась в разные стороны света большая часть постоянных жильцов, завелись новые. Иногда кто-то из новых соседей спрашивает: почему я не здороваюсь с теми, из 23 квартиры? Я молчу, я не знаю, как они получили квартиру дяди – психа, может быть – просто купили, но я никогда не скажу им: здравствуй…
21. Здравствуй…, ты еще можешь слушать. Тогда, я продолжу: в одно ушедшее вместе со стадами древних слонов лето, я подрабатывал охранником в неком закрытом учреждении…
Просто, у меня – студента второго курса ПГИКа начались очередные каникулы. И снова передо мной встал исконно русский, воспетый в отечественной классической литературе вопрос: Что делать? Раздумывал я не долго, в терминах западных искателей истин: свобода, или вынужденная необходимость? Решил, что поймаю в это лето свою синюю птицу за ее куцый хвостик. Конечно, синюю птицу было жаль разменивать на житейские мелочи, но моему молодому растущему и замученному учебой организму катастрофически не хватало не только любви, но и денег на жизнь. Место работы оказалось интересным, таинственным и немного пугающим… Почему? – спросишь ты. Да хотя бы, потому что располагался наш объект на территории запущенного больничного городка, за высоким забором, напротив Автовокзала. И здесь в царстве Гиппократа пытались лечить отчаявшихся наркоманов, шизофреников и других, решивших расстаться с реальным миром, заменяя его своими больными фантазиями, и бредовыми галлюцинациями. Говорят, первую больницу в сих Палестинах начали строить еще в далеком 1830 году – при батюшке царе и Пермском губернаторе, моем тезке Кирилле Яковлевиче Тюфяеве, прибывшем в наш город по особой протекции, будучи из среды кантонистов. Кантонистами до переворота 1917 г. звались сыновья нижних чинов, принадлежавших к военному ведомству со дня их рождения. Еще при Петре Великом для обучения солдатских детей грамоте и ремеслам при каждом полке создавались свои гарнизонные школы. И сии воспитанники в силу своего происхождения обязанные к военной службе, в 19 веке часто, отслужив оную, охотно шли на службу статскую. Анналы истории указывают, что именно своею смышленостью господин Тюфяев понравился приезжавшему в Тобольск для ревизии столичному сенатору, и увезен был последним и определен на службу при сенате. Как человек деловой, не избалованный в детстве, выросший среди самой незавидной обстановки, Кирилл Тюфяев оказался способен к упорному труду, которым и проложил себе дорогу к высоким государственным должностям. Когда истовый служака – К.Я. Тюфяев прибыл губернаторствовать в провинциальную Пермь, она оказалась запущена и уныла. И как на грех, в сию годину, получено было известие о высочайшем визите Государя Императора Александра I. Который, следуя проездом решил сделать остановку в сим граде. Тюфяев, вздохнул печальственно, поднатужился, и в самые краткие сроки привел город Пермь в благоустроенное состояние. Тогда городские площади и улицы были спланированы, очищены от мусора и трущобного неустроя, а главное, снабжены доселе неизвестными в Перми – тротуарами. А казенные и частные здания обновлены с фасада и радовали глаза горожан всевозможными оттенками пастели.
Еще, несколько корпусов больничного городка были построены в начале ХХ века на средства купцов меценатов – веры старого толка, остальные в голодные 20 и 30-е годы прошлого столетия. С тех летописных годин эти здания, кажется, и не ремонтировали. От этого все корпуса больничного городка казались ветхими. В основном, это были – бревенчатые бараки с мезонинами и хлипкие, кое-как утепленные дощаники, всего около двух десятков. И только семь каменных, когда-то добротных и основательных зданий красного кирпича – позапрошлого века, парочка из них принадлежало нам, т. е. являлась тем самым особо охраняемым объектом.
Все подземные коммуникации за полтора столетия износились, поэтому между столетними липами в аллеях больничного парка, заложенного еще тем самым губернатором К.Я. Тюфяевым, меж шелеста листвы периодически витал запах нечистот от прорвавшейся наружу канализации, но к этому жители сего мрачного места привыкли давно. А вот запах отчаяния и безысходности давил и мог напугать, своей материальностью ощущений. Тогда я почувствовал это на своей волчьей шкурке.
* * *
В наших – двух каменных строениях – архитектуры модерна начала 20 в… Зданиях с ажурными порталами и псевдоколоннами, выложенными из красного кирпича, облупившихся, и как все вокруг готовых вот – вот развалиться, находилась лаборатория третьего уровня биологической опасности. Лаборатория, не входившая в юрисдикцию сих пенат, относящаяся к какой – то неизвестной государственной структуре. И поэтому, вся территория вокруг объекта была огорожена по периметру собственным двухметровым забором, по верхушке которого шла ржавая колючая проволока. На дверях, столбах и окнах висели знаки паук в треугольнике. Между зданиями росло много старых деревьев, типичных для парков, проходило несколько тропинок из стершихся гранитных плит, вросших в землю, в зарослях жимолости прятался заваленный мусором и превращенный в подобие клумбы небольшой фонтан позапрошлого века, чаша цветок – затянутая зеленым мхом, весь покрытый трещинами. Также на объекте располагался бункер – подземный гараж на десяток машин, вольеры для животных и птиц: в одном паслись бараны, в другом разгуливали кролики, загон с гусями, у которых был свой маленький прудик – наполненный водой. Еще, моя будка охранника, она соприкасалась с пропускным пунктом и воротами, к моей будке примыкал и перекошенный от времени одноэтажный барак, в котором жили какие-то люди – больше всего похожие на обычных бомжей, непонятно каким образом, оказавшиеся на закрытой территории.
Как я понял уже потом, здесь еще в эпоху СССР был дом для семей молодых ученых, не имеющих собственного жилья, на вроде маленького общежития, в 90-е его каким-то образом удалось приватизировать. И теперь там жили деградировавшие потомки тех самых молодых ученых. Время было такое запутанное и тяжелое, начало нового тысячелетия. Люди забыли, что такое порядок. И его, только еще предстояло наводить одному бывшему шпиону и главе ФСБ, нашему несменяемому президенту В.В.П. Именно в результате царящего вокруг беспорядка, на должность охранника в таком непростом месте взяли по знакомству – меня, студента. Пока постоянный охранник слег в больницу на пару месяцев, кажется, ему нужно было пройти реабилитацию, отголоски полученных ранений на первой Чеченской. Еще одним охранником был паренек, недавно прошедший срочную службу, смуглый, гибкий, темноглазый, молчаливый, похожий на цыгана. С ним я почти не общался. Третьим сменщиком оказался высоченный дедок – под два метра роста, с большой белой бородой, зычным басом и целым чемоданом разноцветных историй, по рассказам деда он всю свою жизнь прослужил боцманом на речных каботажных судах, и попал сюда также как и я – случайно, его устроила младшая внучка, работающая здесь лаборанткой. Это охрана внешнего периметра, был еще периметр – внутренний, там, служили люди военные. Общаться с ними, у нас не было заведено. Или может быть это такой регламент, о котором я ничего не знал. Иногда кого-то из них я встречал возле дверей бункера, пару-тройку раз, они наведывались в мою сторожку посреди ночи, проверить все ли в порядке и не сплю ли я на посту.
* * *
В первый день, оказавшись на объекте в шесть утра и пройдя инструктаж у бывшего боцмана – высоченного деда с окладистой белой бородой. Получив от него под расписку: связку ключей, упаковку пластилина и печать для опломбирования замков. А также: резиновую дубинку милицейского образца – 1 шт., наручники и ключ к ним – 1 шт., газовый баллончик – 1 шт., газовый пистолет 1 шт., обоймы к нему 2 шт… Оставив подпись в «Журнале дежурств» – «территорию принял…». После того как прогулялся с дедом по периметру забора, осмотрев целостность дверей и окон, поздоровавшись с охранником внутреннего периметра, дежурившим за дверями бункера и вышедшим на перекур. И узнав, где здесь сортир. И что, можно ставить чайник на плиту, пройдя через неприметную дверку в чулане, ведущую в жилой барак. Там же, на маленькой замурзанной кухоньке стоял бак с питьевой водой. А, кроме того, в чуланчике на полосатых деревенских ковриках спала устрашающего вида, заросшая серой шерстю дворняга размером с немецкую овчарку. – Познакомься, Дуся, – сказал тогда дед. Я лишь кивнул, слушая неприветливое урчанье и рассматривая оскаленные желтые клыки этой местной монстриллы.
* * *
В мои обязанности вахтера-охранника входило: заступив на пост, после контрольного обхода со сменщиком, отзвониться на центральную вахту и подтвердить свое присутствие на объекте, обход объекта раз в час сразу после 21 часа и до 6 утра, проверочный звонок на центральную вахту с 24 до часа ночи. Также: проверка пропусков у желающих пройти на территорию, открытие ворот и проверка пропуска при прибытии автотранспорта; выдача и приемка ключей от внешних дверей лабораторий, склада, пункта приема крови у населения, по паспортам и под расписку; опломбирование внешних дверей после окончания смены у персонала лаборатории с 18 до 21.00.
* * *
С утра я обычно успевал попить чаю с прихваченными из дома бутербродами и сушками, доспать часок самого сладкого раннего сна. Люди начинали появляться примерно с 8 до 9 утра. Первыми стучали каблучками девчонки – лаборантки, вечно подмигивающие и хохочущие эфемерные существа, на ходу обсуждающие своих кавалеров и обновки. Иногда они останавливались, чтобы поболтать ни о чем, и очень удивлялись, узнав, что я студент. Затем гордо вышагивали местные матроны – завлабы и научные работники в возрасте от сорока до шестидесяти лет, меня они практически не замечали, на вопросы не отвечали, только кивали в ответ. Ближе к 10 утра заявлялся тот, кого все называли директор, с личным водителем седым кавказцем, на большом черном джипе, похожем на стальную коробку. С 10 до 18 часов я откровенно маялся дурью, ибо делать было нечего, у нас редко появлялись гости и также редко кто-то отлучался из лаборатории. Я учился дремать с открытыми глазами и крутить дубинку на подобии меча, меняя хваты, крутя мельницу и нанося в своем воображении роковые удары неведомому врагу. Да, еще, по поручению, честно, больше похожему на приказ, бывшей местной директрисы, а теперь заслуженной пенсионерки, Наилии Яковлевны, жесткой как сталь старушенции, лет ста на первый взгляд, я варил принесенные ей кости и заправлял их крупой, готовя кашу для нашей дворняги Дуси. Конечно, сначала меня доставали эти вменяемые невменяемые обязанности, но я быстро понял, что это хороший способ убить застывавшее время. Наилия Яковлена хотя и постоянно ворчала и раздавала команды налево – направо, любила поговорить, часто рассказывала о своих заграничных поездках, выставках, музеях, я слушал. А еще, уходя, она ставила на конфорку настоящую джезву из меди, припрятанную в одном из грязных шкафов барачной кухни. Доставала из потертой дамской сумочки бумажный пакетик, и варила нам кофе, один из самых вкуснейших, что я пил за свою жизнь, к крупицам божественного напитка примешивались какие-то восточные специи и морская соль. Иногда, вдобавок к чашке кофе мне перепадали и шоколадные конфеты. Приходила Наилия обычно часа в три дня, а уходила ближе к шести вечера. И это время деловито счастливо утекало сквозь мои пальцы…