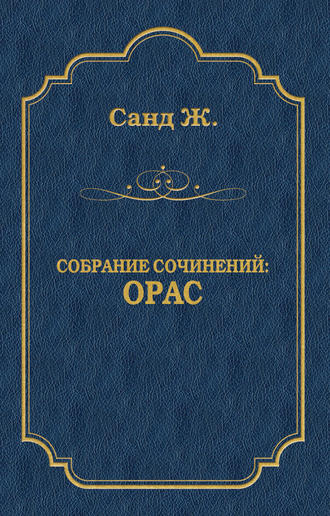
Жорж Санд
Орас
– Но что в таком случае станете вы делать с вашим бьющим через край энтузиазмом, с непомерным величием души? Какое применение найдете для своей железной воли, в которой я на днях позволил себе усомниться, за что вы упрекнули меня?
Он охватил голову обеими руками, облокотился на перила, отделявшие партер от оркестра, и погрузился в раздумье, продолжавшееся до тех пор, пока не подняли занавес. Весь третий акт «Антони» он смотрел с величайшим вниманием и волнением.
– А страсти?! – воскликнул он, едва закончился акт. – Какое место уделяете вы страстям в нашей жизни?
– Вы говорите о любви? – спросил я. – Жизнь, какой мы сами ее сделали, требует отдавать любви все или ничего. Желание быть одновременно любовником, подобным Антони, и гражданином, подобным вам, неосуществимо. Нужно выбирать.
– Именно об этом я и думал, когда слушал Антони, столь презирающего общество, озлобленного против него, восставшего против всего, что препятствует его любви… А вы любили когда-нибудь?
– Может быть. Но разве это важно? Спросите у собственного сердца, что такое любовь.
– Накажи меня бог, если я имею об этом хоть малейшее представление, – воскликнул он, пожимая плечами. – Разве было у меня время любить? Разве я знаю, что такое женщина? Я чист, дорогой мой, чист, как младенец! – прибавил он, разражаясь добродушным смехом. – Можете презирать меня, но признаюсь, что до сих пор женщины внушали мне скорее страх, чем желание. А между тем у меня уже большая борода и большие запросы, которые трудно удовлетворить. Что ж! Именно это и предохранило меня от грубых заблуждений, в какие впадают мои товарищи. Я не встретил еще той идеальной девы, ради которой мое сердце дало бы себе труд забиться сильнее. А несчастные гризетки, которых подбирают в Шомьере или в других злачных местах, возбуждают во мне такую жалость, что даже ради всех наслаждений рая я не желал бы упрекать себя за совращение одного из этих ощипанных ангелов. И потом, эти ручищи, эти вздернутые носы, этот жаргон, попреки своим несчастьем, да еще в письмах, читая которые можно умереть со смеху. Тут нельзя даже испытывать серьезные угрызения совести. О, если уж я предамся любви, я хочу, чтобы она потрясла меня, воспламенила, поразила в самое сердце или вознесла до небес и опьянила страстью. Никакой середины! Одно или другое; либо и то и другое, если угодно! Но только не драмы на задворках лавчонок, не победы в дешевых кафе! Я согласен страдать, согласен безумствовать, согласен отравиться вместе с возлюбленной или заколоть себя над ее трупом, но я не хочу быть смешным, а главное – не хочу почувствовать скуку в самый разгар трагедии и завершить ее жалким фарсом. Товарищи издеваются над моей невинностью, они разыгрывают передо мной донжуанов, чтобы соблазнить или ослепить меня; и, уверяю вас, делают это зря. Я желаю им всяческих удовольствий, но для себя предпочитаю что-нибудь иное. О чем вы думаете? – добавил он, заметив, что я отворачиваюсь, не в силах удержаться от смеха.
– Я думаю, – сказал я, – о том, что завтра со мной будет завтракать одна очень милая гризетка, которой я хотел бы вас представить.
– О! Упаси бог от такого рода развлечений! – воскликнул он. – У меня и без того есть несколько друзей, которых я обречен видеть лишь в неизбежном обществе их двухнедельных подруг. Я знаю наизусть лексикон этих самок. Фи! Вы шокируете меня, а я-то считал вас менее легкомысленным, чем вся эта беспутная компания. Целую неделю я избегал их, чтобы видеться с вами; я думал, вы человек серьезный, с более высокими требованиями, чем у других студентов, и вдруг оказывается, что даже у вас есть подобная женщина, даже у вас! Боже мой, куда мне скрыться, чтобы не встречать этих женщин!
– И все же с моей подругой вам придется познакомиться. Я настаиваю на этом и завтра явлюсь за вами сам, если вы не придете, чтобы вместе с нею позавтракать у меня.
– Если она вам надоела, предупреждаю – я не из тех, кто может вас от нее избавить.
– Дорогой мой Орас, должен вас успокоить и заверить, что если даже вы пожелаете избавить ее от меня, то сперва вам придется перерезать мне горло.
– Вы говорите серьезно?
– Совершенно серьезно.
– В таком случае принимаю ваше приглашение. Приятно будет посмотреть вблизи на истинную любовь…
– К гризетке. Вас это удивляет, не правда ли?
– Что ж, если хотите, да. Действительно удивляет. Я видел только одну женщину, которую мог бы полюбить, будь она лет на двадцать моложе. Это была знатная вдова, владелица замка, некогда красивая и еще не успевшая поседеть; она говорила, двигалась, принимала и провожала гостей с такой грацией, что по сравнению с ней все женщины, каких я до нее видел, показались мне разве что пригодными пасти гусей. Эта дама принадлежала к старинному роду; у нее была осиная талия, руки Рафаэлевой мадонны, ножки сильфиды, лицо мумии и язык змеи. И я поклялся, что никогда не возьму в любовницы молодую, обаятельную и красивую женщину, если только у нее не будет таких ножек и ручек, а главное – таких аристократических манер и такого обилия белых кружев на золотистых волосах.
– Дорогой мой Орас, – сказал я ему, – не скоро еще вы полюбите, а возможно, не полюбите никогда.
– Да услышит вас Бог! – воскликнул он. – Если я полюблю хоть раз, я погиб. Прощай тогда политическая карьера, прощай моя большая, суровая будущность! Ничего не умею делать наполовину. Посмотрим, стану ли я оратором, поэтом или влюбленным!
– А что, если для начала нам стать студентами? – сказал я.
– Увы! Легко вам говорить! – ответил он. – Вы и студент и влюбленный. Я же не люблю, а учусь и того меньше…
Глава III
Орас возбуждал во мне живейший интерес. Я отнюдь не был убежден в существовании той героической силы и того сурового энтузиазма, которые в простоте душевной он себе приписывал. Мне он казался хорошим малым, искренним, чистосердечным, скорее способным увлекаться прекрасными мечтами, чем претворить их в жизнь. Но я полюбил его за искренность и постоянное стремление ко всему возвышенному, для чего мне вовсе не нужно было непременно видеть в нем героя. В этой прихоти не было ничего отталкивающего: она лишь доказывала его любовь к прекрасному идеалу. «Одно из двух, – говорил я себе, – либо ему суждено стать выдающимся человеком, и тайный инстинкт, которому он бесхитростно следует, подсказывает ему это, либо он просто славный молодой человек; и когда его юношеский пыл остынет, в нем неожиданно проявятся кроткая доброта и спокойная совесть, оживляемые редкими вспышками энтузиазма».
Пожалуй, этот нравственный облик мне нравился больше. Я был бы больше уверен в Орасе, если бы он отказался от своего простодушного фатовства, не утратив при этом любви к добру и красоте. Выдающегося человека ждет трагическая участь. Препятствия ожесточают его, а гордость его обычно так велика и неукротима, что может повести его по ложному пути и обратить во зло силы, данные ему Богом для свершения добра. Но, так или иначе, Орас мне нравился и привлекал к себе. Проявится в нем сила – тогда я последую за ним; окажется он слабым – я подожду его. Я был старше его на пять-шесть лет и наделен более спокойным характером; планы мои на будущее уже определились, оно не вызывало у меня тревоги. В пору страстей нежная, искренняя любовь охранила меня от ошибок и страданий. Я чувствовал, что выпавшее на мою долю счастье – бесценный дар Провидения, что я недостаточно заслужил право пользоваться им безраздельно и обязан поделиться с кем-нибудь своим душевным спокойствием, предложив его как целительное средство другой душе, легко возбудимой или озлобленной. Я рассуждал как врач, но действовал из самых добрых побуждений, и – да не будет это повторением невинной похвальбы моего бедного Ораса – скажу, что я тоже был добр и более отзывчив, чем умел это выразить.
Единственной чертой в моем новом друге, казавшейся мне совершенно нелепой и достойной осуждения, было его тяготение к женщинам аристократического круга, особенно смешное у него, ярого республиканца, уж наверное плохого судьи в вопросе хороших манер, но подчеркнуто презиравшего простое и грубое обращение, от которого сам он, разумеется, был не так уж свободен, как стремился изобразить.
Я решил познакомить его с Эжени, и чем скорее, тем лучше, воображая, что общение с этой простой и благородной девушкой произведет переворот в его мыслях или, по крайней мере, придаст им более разумное направление. Он увидел ее, был очарован ее приветливостью, но она показалась ему вовсе не такой красивой, какой должна была быть, по его мнению, женщина, способная внушить настоящее чувство.
– Она мила, и только, – сказал он мне в дверях, – но она, должно быть, необычайно умна?
– Скорее рассудительна, чем умна, – ответил я, – а бывшие подруги считали ее совсем дурочкой.
Эжени подала нам скромный завтрак, который сама приготовила, и это прозаическое занятие покоробило возвышенную душу Ораса. Но когда она села между нами и принялась угощать его с изысканной учтивостью и непринужденностью, он преисполнился уважением к ней и начал вести себя по-иному. До этого момента он подавлял мою бедную Эжени весьма остроумными парадоксами, не вызывавшими, однако, у нее улыбки, что, впрочем, он воспринял как знак восхищения. Когда же он увидел в ней судью, а не предмет для насмешек, он стал серьезен и так же усердно пытался выглядеть солидным, как раньше старался казаться легкомысленным. Но было уже поздно. На требовательную Эжени он произвел неприятное впечатление; правда, она никак этого не показала и, едва завтрак был окончен, села в дальнем углу комнаты и принялась шить, словно была самой обыкновенной гризеткой. Орас почувствовал, что все его уважение пропало так же быстро, как и возникло.
Моя небольшая квартира на набережной Августинцев состояла из трех комнат и обходилась мне в триста с лишним франков в год. Я сам обставил ее. Для студента это была роскошь. У меня была столовая, спальня, а между ними рабочий кабинет, который я пышно именовал салоном. Туда мы перешли пить кофе. Увидев сигары, Орас бесцеремонно закурил одну из них.
– Простите, – сказал я, беря его за руку. – Эжени это неприятно; я курю только на балконе.
Он не преминул извиниться перед Эжени за свою рассеянность, но в глубине души был удивлен, увидев, как я почтителен к женщине, которая в тот момент подрубала мои галстуки.
Балкон мой завершал собою верхний этаж здания. Эжени затенила его вьюнком и душистым горошком, посеянным в двух кадках с апельсиновыми деревьями. Апельсины были в цвету, несколько горшков с фиалками и резедой дополняли убранство моего дивана. Я предоставил в распоряжение Ораса кусок старой обивки, заменявшей мне восточный ковер, и кожаную подушку, на которую обычно опирался, когда курил, наслаждаясь при этом, как настоящий паша. Оконное стекло отделяло диван от кабинета, в котором работала Эжени. Таким образом я видел ее, был вместе с ней, и в то же время дым моей трубки не беспокоил ее. Когда она увидела на ковре вместо меня Ораса, она незаметно опустила муслиновую занавеску, как бы защищаясь от солнца, на самом же деле из скромности, которую Орас не мог не оценить. Я сел позади него на одну из кадок. На узкой террасе едва хватало места для двух человек да четырех-пяти горшков с цветами; отсюда нашим взорам открывались красавица Сена, позолоченный солнцем фасад Лувра, словно врезанный в синеву небес, все мосты и набережные до самой больницы Отель-Дье. Прямо напротив нас церковь Сен-Шапель возносила свои темно-серые шпили и остроконечный фронтон над домами острова Ситэ. Немного дальше вздымались к небу четыре исполинские льва прекрасной башни Сен-Жак-ла-Бушери, а справа картину замыкал своей изящной и внушительной громадой Собор Богоматери. Вид был чудесный: с одной стороны – прославленные памятники и живописный беспорядок старого Парижа; с другой – Париж Возрождения, сливающийся с Парижем Империи, – творение Медичи, Людовика Четырнадцатого и Наполеона. Каждая колонна, каждая дверь была страницей истории французского королевства.
Мы только что прочли новый роман, «Собор Парижской Богоматери», и, подобно всем людям или, по крайней мере, подобно всей молодежи того времени, безотчетно поддавались очарованию поэзии этого романтического произведения, озарившего новым светом древние красоты нашей столицы. Словно волшебная краска оживила поблекшие воспоминания; благодаря поэту мы смотрели на кровли старых зданий, разглядывали причудливые формы и живописные детали глазами, какими не могли смотреть наши предшественники, студенты Реставрации или Империи. Орас был увлечен Виктором Гюго. Он исступленно любил все его странности и дерзания. Я не спорил, хотя и не всегда соглашался с ним. Мои вкусы и склонности влекли меня к более спокойным формам, к живописи с менее жесткими линиями, с менее резкими тенями. Я сравнивал Гюго с Сальватором Розой{15}, – очами воображения тот также видел больше, чем очами науки. Но к чему было затевать с Орасом войну из-за слов и образов! Не в девятнадцать лет бояться выражений, смело обнажающих чувство, и не в двадцать пять лет осуждать их. Нет, счастливая молодость отнюдь не педантична; она никогда не находит слов достаточно убедительных, чтобы выразить то, что сама испытывает с такой силой. И велика заслуга поэта, если он сумел придать своим мыслям столь всеобъемлющую, столь яркую форму, что почти целое поколение взглянуло на мир его глазами и увлеклось переживаниями, которые его вдохновили!
Было так: наиболее косные из нас, те, кому для освежения восприятия необходимо было после «Собора Парижской Богоматери» прочесть страничку из «Павла и Виргинии»{16} или, как сказал один утонченный критик, припомнить самый «кристальный» из сонетов Петрарки{17}, все же охотно надевали на свои изнеженные глаза эти очки с пестрыми стеклами, сквозь которые можно было увидеть так много нового; а насладившись волнующим зрелищем, неблагодарные заявляли: какие странные очки! Что ж, странные, если угодно: но разве без этой причуды художника вы разглядели бы хоть что-нибудь вашим невооруженным глазом?
Под натиском моей критики Орас шел на ничтожные уступки, я же отступал значительно дальше перед его восторгами; и после спора наш взор, следуя за полетом ласточек и ворон, проносившихся у нас над головою, отдыхал вместе с ними на башнях собора Богоматери, неизменном предмете нашего созерцания. Он получал и от нас свою долю любви, этот старый собор; так забытая красавица вновь входит в моду, вновь вокруг нее теснится толпа, едва обретет она нового поклонника, горячие восхваления которого возвращают ей молодость.
Я не собираюсь превращать рассказ о своей юности в критический разбор целой эпохи: это было бы мне не по силам; но, вспоминая эти дни, я не могу не сказать о том, какое действие оказывали некоторые книги на Ораса, на меня, на всех нас. Они были частью нашей жизни, как бы частью нас самих. Я не мог бы отделить в своей памяти поэтические впечатления отрочества от чтения «Рене» и «Аталы»{18}.
В разгар наших романтических споров кто-то позвонил. Эжени дала мне об этом знать, легонько постучав в окно, и я пошел открыть дверь. Это был ученик из школы живописи Эжена Делакруа{19} по имени Поль Арсен; в той мастерской, где я ежедневно читал художникам курс анатомии, его прозвали маленьким Мазаччо{20}.
– Привет синьору Мазаччо, – сказал я и представил его Орасу, который окинул презрительным взглядом его перепачканную блузу и растрепанные волосы. – Вот юный мастер, который, как уверяют, далеко пойдет, а пока что он пришел звать меня на лекцию.
– Нет, еще рано, – ответил Поль Арсен, – у вас целый час впереди; я пришел поговорить с вами о деле, которое касается только меня. Найдется ли у вас время выслушать меня?
– Разумеется, – ответил я, – а если мой друг мешает, он выйдет на балкон, покурит.
– Нет, – возразил молодой человек, – у меня нет никаких секретов. Ум хорошо, а два лучше, и я не возражаю, чтобы этот господин тоже послушал.
– Присаживайтесь, – сказал я и направился в соседнюю комнату за четвертым стулом.
– Не беспокойтесь, – остановил меня художник, взбираясь на низенький комод; он положил фуражку на колени, вытер клетчатым платком мокрое от пота лицо и, свесив ноги и наклонившись в позе Pensieroso{21}, произнес следующие слова:
– Сударь, я намерен бросить живопись и серьезно заняться медициной, – говорят, она обеспечивает более прочное положение; вот я и пришел посоветоваться с вами.
– На такой вопрос, – сказал я, – ответить труднее, чем вы думаете. Мне кажется, в любой профессии занято сейчас слишком много людей и, следовательно, любое положение, как вы выразились, весьма ненадежно. Большие познания и трудоспособность сами по себе еще не обеспечивают будущности; одним словом, я не вижу, почему бы медицина оказалась для вас выгоднее, чем искусство? Наилучшим является тот выбор, который отвечает нашему призванию; а поскольку у вас, как говорят, незаурядные способности к живописи, я не понимаю, почему она так скоро вам надоела.
– Надоела? О нет! – возразил Арсен. – Она мне совсем не надоела, и если бы можно было зарабатывать на жизнь, занимаясь живописью, я предпочел бы ее всему остальному, но, кажется, это будет еще не скоро, очень не скоро! Патрон говорит, что нужно рисовать натуру, по меньшей мере, два года, прежде чем взяться за кисть. А потом как будто и маслом придется поработать года два-три, прежде чем можно будет послать картину на выставку. И даже если ее примут, этим не многого добьешься. Сегодня утром я был в музее; я думал, что все будут останавливаться перед картиной патрона, – в конце концов, он мэтр, он знаменитость! И что же? Половина посетителей даже не взглянула на нее, все спешили посмотреть на портрет какого-то господина в артиллерийской форме, у которого были совершенно деревянные руки и лицо словно из картона. Ну, эти еще куда ни шло: все они просто жалкие невежды; но вот пришли молодые художники, ученики из различных мастерских; каждый высказывался: одни ругали, другие восхищались; но ни один не сказал того, что я хотел бы услышать. Ни один ничего не понял. Тогда я сказал себе: к чему создавать произведения искусства для публики, которая все равно ничего в них не видит и ничего не смыслит? Это было хорошо в доброе старое время! Нет, я займусь другим ремеслом, лишь бы оно давало мне деньги.
– Вот грязный болван! – шепнул мне на ухо Орас. – Его душа не чище его блузы!
Я не разделял презрения Ораса. Я почти не знал Мазаччо, но слышал, что он малый умный и работящий. Господин Делакруа очень ценил его, и товарищи относились к нему с любовью и уважением. Должно быть, за этой наивной жадностью скрывалась какая-то непонятная мне причина; но так как он предупредил, что не собирается сообщать никаких тайн, я понял, что в эту тайну проникнуть нелегко. Достаточно было взглянуть на лицо Мазаччо и присмотреться к тому, как он держал себя, чтобы убедиться в его упорстве и вместе с тем почувствовать, что им движут совсем не низменные побуждения.
Это был как бы сам народ, воплощенный в одном человеке, но не мирный, здоровый народ земледельцев, а народ ремесленников – хилый и отважный, смышленый и проворный. Словом, молодой художник не был хорош собой. Однако о таких, как он, товарищи по мастерской говорят: «Его лицо так и просится на полотно, замечательная получилась бы вещь!» Действительно, в его лице, несмотря на грубые черты, было что-то необычное. Я не видел выражения более энергичного и одухотворенного. Глаза у него были маленькие, бесцветные и как бы прищуренные, но взгляд такой пламенный и острый, что, казалось, все пронизывал насквозь. Нос был короткий, и слишком маленькое расстояние от углов глаз до ноздрей на первый взгляд придавало всему лицу простоватый и даже вульгарный вид. Но это впечатление тут же рассеивалось. Если и было в его внешнем облике что-то от раба или вассала, то в душе таился гений независимости, иногда прорывавшийся вспышками молний. Рот неправильной формы, с толстыми губами, оттененный пробивающимися черными усиками, прямой, узкий, слегка раздвоенный подбородок, широкие выдающиеся скулы – все эти прямые и жесткие плоскости, пересеченные резкими линиями, эти угловатые контуры лица выражали неукротимую волю и непреклонную прямоту намерений. В рисунке его ноздрей последователь Лафатера{22} увидел бы много для себя интересного, а его лоб, великолепный с точки зрения скульптора, был бы не менее любопытен для френолога. Я сам, со всем пылом молодости занимавшийся научными изысканиями, не мог вдоволь на него насмотреться; а проводя занятия по анатомии в мастерской, всегда невольно обращался к этому юноше, казавшемуся мне олицетворением ума, смелости и доброты.
Поэтому, признаюсь, мне было больно услышать из его уст такие пошлости.
– Как, Арсен, – сказал я, – неужели вы бросили бы живопись, если бы другое занятие дало вам на несколько франков больше?
– Да, сударь, я поступил бы именно так, – ответил он без малейшего смущения. – Если б я был уверен, что заработаю чистыми тысячу франков в год, я стал бы сапожником.
– Такое же искусство, как всякое другое, – с презрительной усмешкой заметил Орас.
– Это вовсе не искусство, – холодно возразил Мазаччо. – Это ремесло моего отца, и я справился бы с ним не хуже других. Но оно не даст столько денег, сколько мне нужно.
– А много ли вам нужно денег, бедный мой друг? – спросил я.
– Я же сказал, мне надо зарабатывать тысячу франков; а я расходую пятьсот и ничего не зарабатываю.
– Но как можете вы в таком случае думать об изучении медицины? Ведь вам понадобится не меньше тридцати тысяч франков на годы учения и на то время, когда у вас еще не будет достаточно пациентов. А потом…
– А потом, вы даже школы не окончили, – сказал Орас, раздраженный моей терпеливостью.
– Это верно, – сказал Арсен, – но я окончу ее или, по крайней мере, заменю чем-нибудь равноценным. Я засяду в своей комнате на хлеб и воду и, несомненно, за неделю выучу то, что школьники учат месяц. Ведь школьники не очень-то прилежны; ребенком играешь, тратишь время попусту, а когда тебе двадцать лет и ты стал разумнее, да к тому же знаешь, что надо торопиться, – поневоле будешь спешить. Но из ваших слов о том, что сулит бедняку медицинский факультет, я отлично вижу – мне не быть врачом. А если стать адвокатом?
Орас расхохотался.
– Осторожней, а то еще надорветесь, – спокойно сказал Арсен, оскорбленный паясничаньем Ораса.
– Дорогой мой, – возразил я, – откажитесь от всех этих планов, в вашем возрасте они неосуществимы. Вы можете выбрать лишь искусство или ремесло. И ни то ни другое не даст вам уверенности в будущем, если у вас нет денег или кредита. Что бы вы ни решили, вам нужны время, терпение и покорность судьбе.
Арсен вздохнул. Я решил отложить расспросы до другого раза.
– Вы рождены быть художником, это несомненно, – продолжал я. – В искусстве вы скорее добьетесь успеха.
– Нет, сударь, – ответил он, – стоит мне поступить в какой-нибудь галантерейный магазин, и я завтра же заработаю деньги.
– Вы можете стать даже лакеем, – добавил Орас, возмущаясь все больше и больше.
– Мне бы этого очень не хотелось, – сказал Арсен, – но если не останется ничего иного…
– Арсен! Арсен! – воскликнул я. – Это было бы огромным несчастьем для вас и потерей для искусства. Неужели вы не понимаете, что большой талант – это великий долг, налагаемый на человека самим Провидением?
– Прекрасные слова, – сказал Арсен, сверкнув глазами. – Но есть другие обязанности, кроме долга перед самим собою. Ну, так и быть! Пойду скажу в мастерской, что вы будете в три часа, ладно?
Он спрыгнул с комода, молча пожал мне руку и, едва кивнув Орасу, проворно, как кошка, сбежал по лестнице, останавливаясь, однако, на каждой площадке, чтобы поправить спадавшие с ног стоптанные башмаки.







