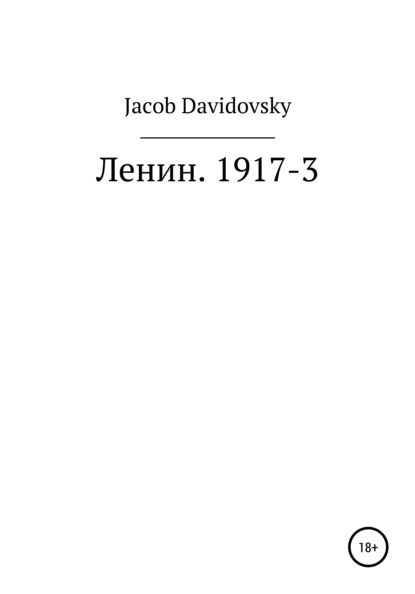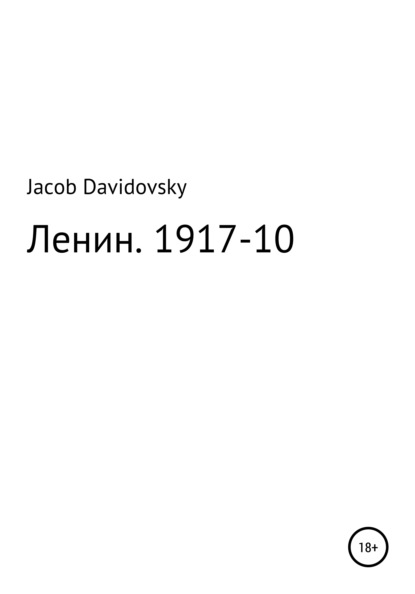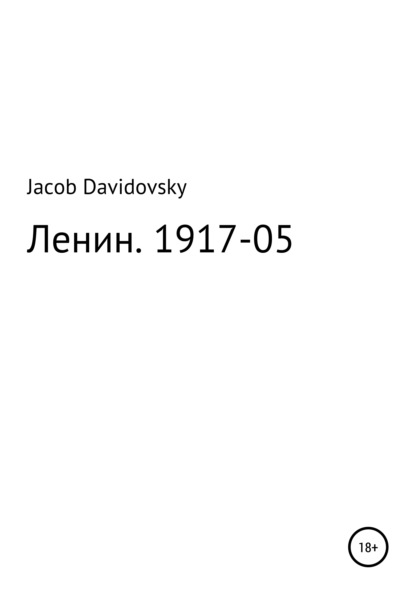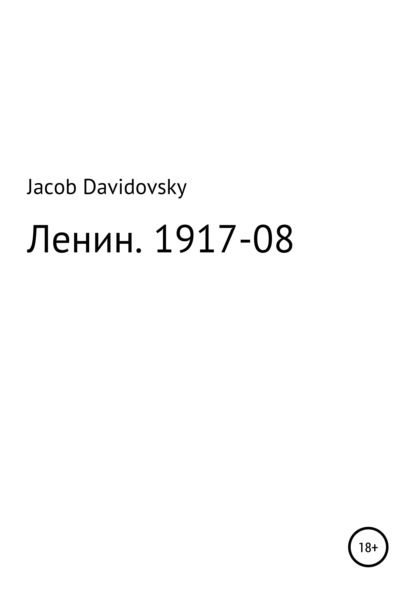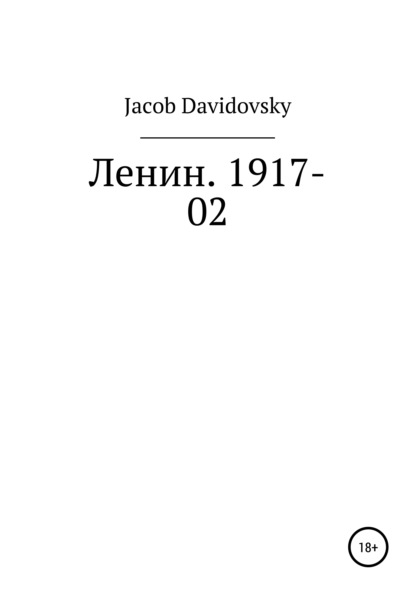
Полная версия:
Jacob Davidovsky Ленин. 1917-02
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Jacob Davidovsky
Ленин. 1917-02
3 марта 1917 года. Нью-Йорк.
После таинственного молчания телеграфа в течение двух-трех дней пришли первые сведения о перевороте в Петрограде, смутные и хаотичные. Лев Троцкий получил их, находясь в редакции русскоязычной газеты “Новый мир”, где работал с первых дней своего пребывания в Америке.
Разумеется, ему, как и Ленину, сразу стало ясно, что нужно как можно скорее оказаться в России. Но действия они предприняли принципиально разные.
У Ленина не вызывало сомнений, что придётся либо ехать нелегально, либо договариваться с немцами. При контакте с властями любой из стран Антанты его попросту интернируют – о пораженческой позиции большевиков власти этих стран знают – и он тогда попадёт в Россию бог знает когда. Ну а ехать нелегально – это через Германию – морем опасно, его корабль можен нарваться на проверку британцами, а это опять же интернирование. Через Германию нелегально можно ехать по паспорту нейтральной страны – гражданина любой страны Антанты либо России интернируют уже немецкие власти. Нейтральные страны … Швейцария? Швеция? Но швейцарец должен знать немецкий язык как свой родной, а швед – шведский. Что, придётся притворяться глухонемым?
В общем, как ни странно, для Ленина договориться с немцами было лучшим вариантом. Что в конце концов с помощью швейцарских социалистов и удалось. Помогло то, что большевики открыто выступали за поражение России и выход её из войны, что немцам, естественно, подходило.
У Троцкого же всё было и сложнее, и проще. Плыть можно только морем, так что смысл договариваться с немцами отсутствовал – на морях традиционно превалировал британский флот. Американцы российских граждан не интернировали – стало быть, надо покупать билеты на американский корабль. Англичане американцев не трогали, с Германией Соединённые Штаты тоже пока ещё не вступили в войну – вариант казался оптимальным. Так что Троцкому нужно было вполне легально получать визу в российском консульстве в Нью-Йорке и покупать билеты на американское судно. Так, во всяком случае, тогда ему казалось.
4 марта 1917 года. Ачинск.
Большевикам, отбывавших ссылку в Ачинске – а в их числе следует в первую очередь отметить Льва Каменева, Иосифа Сталина и Матвея Муранова, бывших далеко не последними фигурами в партии – добраться до Питера было проще, чем Ленину, хотя расстояние заметно превосходило таковое от Цюриха. Но не нужно пересекать никаких Германий или подвергаться опасности интернирования.
После Февральской Революции все ссыльные и заключённые стали вполне полноправными российскими гражданами … даже более полноправными, чем обычные, не подвергавшиеся арестам.
Вопрос с транспортировкой тоже был решён быстро. Ссыльные получили мандаты, позволяющие садиться на любой поезд.
Перед отъездом героев подполья ачинский городской голова Усанин организовал собрание, посвящённое произошедшим событиям. Оно проходило, извините за тавтологию, в Народном Собрании города Ачинска. Присутствовало около полутысячи народу. Разумеется, упомянутые большевики приняли участие тоже, причём в качестве самых почётных гостей. Муранова, как старейшего из них, даже избрали председателем собрания, чем поставили в сложное положение. Слишком неожиданно и радикально изменилась ситуация в стране. Своего отношения к ней ссыльные за недостатком информации ещё не выработали. Впрочем, Муранов хорошо понимал, что здесь есть люди поавторитетнее и лихо выкрутился, сразу предоставив слово Каменеву.
Тот был тоже явно не в курсе – на каких вопросах следует сконцентрироваться. Поэтому ограничился здравицами в честь революции, свободы и восставшего народa, после чего достаточно неожиданно не нашёл ничего умнее, чем предложить послать приветственную телеграмму великому князю Михаилу за его отказ от престола. Собрание, разумеется, поддержало единогласно.
Сталин тоже голосовал за предложение Каменева. Не то сейчас время, чтобы выделяться. Тем более, его голоса никто и не заметит. Это пройдёт как предложение Каменева, а кто голосовал – не вспомнят.
Сейчас надо понять, что делать в первую очередь. Нет, ясное дело, первым делом ехать в Питер и брать власть в ЦК большевиков.
Насколько Сталину помнилось, среди нынешнего состава Питерского ЦК просто не существует фигур, сравнимых по масштабу влияния в партии с ним и Каменевым, Впрочем, справедливее будет сказать – с Каменевым и Сталиным. Всё-таки Каменев пока фигура более значимая.
Конечно, будь в Питере сейчас Ленин, о занятии лидирующих позиций можно было бы и не мечтать. Но Старик в Цюрихе, и когда доберeтся до Питера – неизвестно. Вполне возможно, это займёт несколько месяцев, а за такое время многое может измениться.
Или Троцкий. Он, конечно, даже не большевик … хотя по убеждениям ближе всего именно к нaм. Но масштаб личности такой, что быстро становится лидером в любой организации, куда бы не вступил. Тут его можно сравнивать только со Стариком.
Да, вот Старик – это, конечно, мастер. Захвата и удержания власти. Пока в отдельно взятой партии, но именно пока.
Всё. Скорее в Питер. Детали можно будет додумать по пути, в поезде.
6 марта 1917 года
Первая телеграмма Ленина после Февральской революции была написана на французском языке и адресована в Стокгольм “Большевикам, отъезжающим в Россию”:
“Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата – единственная гарантия. Никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград”.
Эта телеграмма фактически не возымела действия. Нет, она была благополучно доставлена Русскому Бюро ЦК большевиков в Питере. Но ему даже не надо было ничего менять в своей деятельности для выполнения инструкций телеграммы.
Состав ЦК (Шляпников, Молотов, Залуцкий) и так стоял на ленинских позициях в смысле углубления революции и захвата власти (“создать временное революционное правительство”), а “Правда”, начавшая снова выходить с 5 марта (редакция – Ольминский, Калинин, Еремеев, Молотов), объявляла Временное правительство Львова-Керенского контрреволюционным.
До возвращения из ссылки Сталина и Каменева.
10 марта 1917 года. Поезд.
Поезд шёл в Петроград. Прибытие в столицу ожидалось послезавтра. 12 марта, с утра.
Постукивали колёса, мелькали за окном заснеженные деревья под низким серым, всё ещё зимним небом. Поезд шёл по России, вступавшей в полосу великих потрясений, но пока не догадывавшейся об этом.
Сталин сидел, откинувшись на жёсткую спинку сиденья и делал вид, что слушает Каменева. Именно делал вид – всё, что мог сказать Лев Борисович, было им уже сказано, возражать Сталин не собирался, поскольку ни ситуация в Петрограде, ни точка зрения Старика пока не известны. Приедем – там видно будет.
Итак, Каменев придерживается точки зрения поддержки Временного Правительства. На данном этапе.
– Свержение монархии – исторический момент, после которого должен последовать длительный, охватывающий многие годы, промежуточный период, который будет отделять происходившую в России буржуазно-демократическую революцию от последующей социалистической. Демократическая революция ещё не завершена, и дестабилизация режима Временного правительства не является непосредственной задачей, – вещал Лев Борисович своим хрипловатым скрипучим тенорком.
Ну понятно. Царизм свергнут, у власти оппозиция, а это уйма разных партий, среди которых большевики далеко не самая многочисленная и авторитетная. Пожалуй, наш теоретик прав, революция продвинула нас, большевиков, на один шаг ближе к власти, но от вершины мы ещё очень далеко.
Ленин в Швейцарии, а без него бороться с Керенскими и Львовыми нам просто не по силам. Значит, поддерживать Временное Правительство и завоёвывать новые позиции. Пока важно, что мы, большевики, в числе вершителей судеб новой России. Уже хорошо. Возглавим с Каменевым питерский ЦК большевиков – а как же, там нет фигур сравнимых с нами по весу в партии. Уже какая-то власть.
Он стремился к власти всю жизнь. Он давно понял – это то единственное, что ему от жизни нужно. Если нет возможности приказывать – надо манипулировать. Интриговать. Сталкивать лбами, оставаясь в тени. Это приносило ни с чем не сравнимое наслаждение – видеть, как его незаметные действия меняют судьбы.
Когда в 1899 году его исключили из Тифлисской духовной семинарии за участие в подпольном марксистском кружке, он потащил за собой всех остальных членов кружка, сделав на них донос администрации семинарии. Вскрылось. Стыдили. Ничего, объяснил этим ишакам, что потеряв право быть священниками, семинаристы сделаются хорошими революционерами. Смешно – замолкли. Приняли.
Он сделал выводы. Людьми манипулировать легче, чем кажется, но нужно это делать тоньше. Донос властям – крайняя мера. Если вскроется – можно очень сильно поплатиться. Лучше шепнуть на ухо какому-нибудь молодому горячему, что ему, Кобе, кажется, что такой-то и такой-то – агент-провокатор охранки. Именно кажется … доказательств нет. Молодые и горячие доказательства потом сами найдут. Даже там, где их не существует. Слово, действие – их легко понять не так, если ты молод, горяч и подозреваешь. Срабатывало. Кого-то попросту убили, кого-то избили до полусмерти. А не задевай Кобу, не высокомерничай.
Но это позади. И теперь кажется мелкими детскими забавами. Теперь. После того, как он познакомился с Лениным. Со Стариком. Вот это – действительно мастер власти.
И ведь не сказать, чтобы ему так уж беспрекословно подчинялись. Нет, и не соглашались, и прямо возражали, и спорили до хрипоты. И всё равно в конце концов всё происходило так, как говорил Старик … а упорствующие каялись и снова следовали за ним. Он, Сталин, быстро понял – надо стать преданным соратником этого человека – он пойдёт выше и дальше – и его за собой потянет.
Конечно, всегда слепо идти за Лениным – не его, Сталина, стезя. Но до революции это было лучшее, что он мог сделать. И учиться у Старика, учиться искусству завоевания власти.
И вот настал момент посмотреть – хороший ли он ученик. Революция смела главную преграду – монархию, теперь открыта дорога к вполне легальной борьбе за власть. Возглавить ЦК большевиков в Питере … да, пока вместе с Каменевым, но Каменев мне – не соперник. Как теоретик он сильнее … да все они пока сильнее … и Ленин, и его соратники.
Но вождями становятся не знанием теории, а другими качествами. Которые есть у Старика. И у Троцкого … хотя Троцкий даже не большевик. И у него, Сталина. А у Каменева нет. У Зиновьева нет. У Муранова нет. Я уж не говорю обо всяких Мартовых или, к примеру, Шляпникове, Молотове.
Он уже неоднократно убеждался – в острых ситуациях люди идут за ним. Признают его лидерство. Конечно, если рядом нет БОЛЬШИХ вождей. Ленина, Троцкого … да и всё, пожалуй.
Впрочем, посмотрим. Ни Ленина, ни Троцкого в Петрограде как раз-таки нет. Они с Каменевым окажутся во главе питерских большевиков. Власть … пусть всего лишь над большевиками Питера – и до прибытия Ленина – но лиха беда начало. Может быть, удастся сейчас власть закрепить, да так, что Старика к ней не допустить – даже когда он до Питера доберётся.
А в каком русле ставить задачи … что ж, доверимся Каменеву, в теории он сильнее. Да и выглядят его умозаключения вполне по-марксистски.
12 Март
a
1917 года. Петроград.
Утром 12 марта в Петроград прибыл поезд со Сталиным, Мурановым и Каменевым. Сразу же по приезде они отправились “регистрироваться” в Таврический дворец, где проходило всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов.
Вскоре после регистрации вернувшиеся из ссылки большевистские вожди появились в бывшем особняке балерины Кшесиньской, ставшем после революции штаб-квартирой большевиков – и попали прямо на очередное заседание Русского Бюро ЦК.
Их появление встретили аплодисментами. Председательствующий Шляпников поднялся с места, когда они вошли в зал, и аплодировал вместе со всеми. Сталин, оказавшийся, наконец, среди своих, всматривался в лица сидящих. Именно с ними придётся работать. Надо выяснить – кто чего стоит, кто чем дышит.
На большинстве лиц – явный восторг, смешанный с пристальным вниманием. Что-то скажут сейчас старшие товарищи, объяснят ситуацию, уточнят моменты. Взгляд Сталина упал на лицо Вячеслава Молотова. Тот же восторг, то же напряжённое внимание – но кроме них, на лице читалось явное облегчение.
Так, понятно, великолепный исполнитель Молотов, волею судеб оказавшийся среди вожаков – за неимением кроме него, Калинина и Шляпникова достаточно авторитетных фигур, до приезда Сталина и Каменева тяготился этой ролью. Теперь всё хорошо, старшие товарищи прибыли, есть, от кого получать указания. Надо взять на заметку.
Каменев поднялся, откашлялся. Начал речь.
После слов о том, как они рады возможности снова оказаться среди своих и принять участие в работе, он перешёл к изложении позиции, принятой в поезде. “Свержение монархии”, “буржуазно-демократическая революция”, “длительный промежуточный период”, “дестабилизация режима Временного правительства сейчас нежелательна”, – слышалось в зале.
Сталин с Мурановым благостно кивали, выражая своё полное согласие. Сталин раз за разом обводил взглядом лица слушателей. На них было написано напряжённое внимание, смешанное с сосредоточенным желанием понять смысл произносимого.
Ну, и не сходившее с лица Молотова облегчение, смешанное с тем же вниманием. Всё хорошо, старшие товарищи здесь – и уже делятся с нами своим видением ситуации – так и читалось на лице Вячеслава.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.