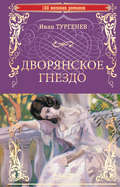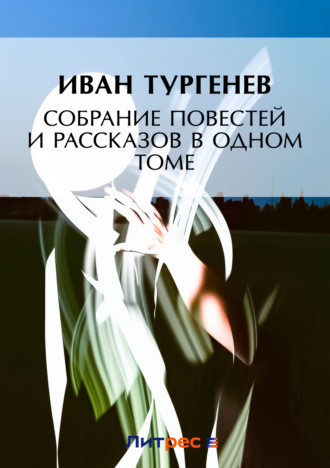
Иван Тургенев
Собрание повестей и рассказов в одном томе
– На чью могилку?
– А к Аграфене Ивановне на поклонение… Они тут у нас в приходском кладбище похоронены; верст отсюда пять будет. Василий Фомич каждую неделю беспременно к ним ходят. Да он же их и похоронил и ограду поставил на свой кошт.
– А давно она скончалась?
– Да лет почитай с двадцать.
– Она ему приятельницей была, что ли?
– Всю жисть, как есть, с ними провели… помилуйте. Сам я барыни той, признаться, не знавал – а, говорят, промеж их дела были… ннну! Господин, – поспешно прибавил дьячок, видя, что я отвернулся, – не соблаговолите ли, не пожалуете ли «още» на шкалик – а то мне пора в пуньку[116] да под шептуху[117].
Я не почел за нужное расспрашивать Огурца – дал ему еще двугривенный – и отправился домой.
XIII
Дома я обратился за сведениями к Наркизу. Он, как и следовало ожидать, поломался немного, поважничал, выразил свое удивление, что меня такие пустяки «антересовать» могут, и, наконец, рассказал, что знал. Я услышал следующее:
Василий Фомич Гуськов познакомился с Аграфеной Ивановной Телегиной в Москве, вскоре после польского погрома; муж ее служил при генерал-губернаторе, а Василий Фомич находился в отпуску. Он тогда же в нее влюбился, но в отставку не выходил: человек он был одинокий, лет сорока, с состоянием. Муж ее вскоре умер. Она осталась после него бездетной, в бедности, в долгах… Василий Фомич узнал об ее положении, бросил службу (ему дали при отставке бригадирский чин) и отыскал свою любезную вдовушку, которой всего двадцать пятый год пошел, заплатил все ее долги, выкупил имение… С тех пор он уже с нею не расставался и кончил тем, что поселился у нее. Она тоже словно полюбила его, но выйти за него замуж не хотела. «Блажная была покойница, – заметил при этом Наркиз, – мне, говорит, своя воля дороже всего». А пользоваться им – она пользовалась, «во всех частях» – и деньги, какие у него были, он все к ней тащил, как «муравей». Но блажь Аграфены Ивановны принимала иногда размеры необычайные: нраву она была неукротимого и на руку дерзка… Однажды она с лестницы своего казачка столкнула, а тот возьми да переломи себе два ребра да ногу… Аграфена Ивановна испугалась… тотчас велела запереть казачка в чулан, и до тех пор сама из дому не выходила и ключ от чулана никому не отдала, пока не прекратились в нем стенанья… Казачка тайком похоронили… И будь это при императрице Екатерине, – прибавил шепотом, пригнувшись, Наркиз, – может, и так бы дело обошлось, много таких делов тогда осталось под спудом, а то… – тут Наркиз выпрямился и возвысил голос, – воцарился тогда справедливый государь Александр Благословенный… ну, и завязалось дело… Приехал суд, отрыли тело… оказались боевые знаки… пошел дым коромыслом. И как же вы полагаете? Василий Фомич все на себя взял. «Я, мол, причиной, я толкнул, да я же и запер». Ну, разумеется, сейчас все судьи там, приказные, полицейские… на него, да на него, и до тех пор, доложу вам… его трепали, пока последний грош из мошны не выскочил. Нет, нет… да опять за ворот. До самого француза – вот как француз к нам в Расею приходил – всё трепали; тогда только бросили. Ну, а Аграфену Ивановну он обеспечил – точно; он ее спас – так сказать надо. Ну и после, до самой ее кончины, он у ней жил, и, сказывают, помыкала же она им – бригадиром-то – зря; пешком из Москвы в деревню посылала, ей-богу – за оброком, значит. Он из-за нее, из-за самоё тоё Аграфены Ивановны, с английским милордом Гузе-Гузом на шпантонах дрался; и английский милорд должо́н был произнести извинительный комплимент. Так вот он, бригадир-то, с тех мест и скопытился… Ну, а теперь уж он, конечно, не в числе человеков.
– Кто же этот Алексей Иваныч жид, – спросил я, – через кого он разорился?
– А братец Аграфены Ивановны. Алчная была душа, уж точно жидовская. Сестре в рост деньги отдавал, а Василий Фомич поручителем. Поплатился тоже… лихо!
– А Феодулия Ивановна грабительница? Это… кто была?
– Тоже сестрица… и ловкая тоже. Копье, что называется… бедовая!
XIV
«Вот где проявился Вертер!» – думал я на следующий день, снова направляясь к жилищу бригадира. Я был тогда очень молод – и, быть может, именно потому и считал своей обязанностью не верить в продолжительность любви. Все же я был поражен и несколько озадачен слышанным мною рассказом, и ужасно мне захотелось расшевелить старика, заставить его разговориться. «Сперва упомяну опять о Суворове, – так рассуждал я с самим собою, – должна же в нем таиться хоть искра прежнего огня… а потом, когда он разогреется, наведу речь на эту… как бишь ее?.. Аграфену Ивановну. Странное имя для «Шарлотты» – Агра-фена!»
Я застал Вертера-Гуськова посреди крохотного огородца, в нескольких шагах от флигелька, возле старого, крапивой поросшего сруба никогда не выведенной избы. По заплесневшим верхним бревнам этого сруба с писком пробирались, беспрестанно скользя и хлопая крыльями, тщедушные индюшата. На двух-трех грядах росла кое-какая убогая зелень. Бригадир только что вытащил из земли молодую морковь и, продернув ее у себя под мышкою – «для очищения», – принялся жевать ее тонкий хвостик… Я поклонился ему и осведомился об его здоровье.
Он, очевидно, не узнал меня, хотя и отдал мне мой поклон – то есть прикоснулся рукой к картузу, не переставая, однако, жевать морковь.
– Сегодня вы не пришли ловить рыбу? – начал я, в надежде напомнить ему мою фигуру этим вопросом.
– Сегодня? – повторил он и задумался… а морковь, воткнутая в его рот, сокращалась да сокращалась. – Да ведь это Огурец ловит рыбу!.. А мне тоже позволяют.
– Конечно, конечно, почтеннейший Василий Фомич… Я не с тем… Но вам не жарко… этак на солнце?
На бригадире был толстый ваточный халат.
– А? Жарко? – повторил он опять, как бы недоумевая, и, окончательно проглотив морковь, рассеянно посмотрел вверх.
– Не угодно ли пожаловать в мой апарта́мент? – заговорил он внезапно. У бедного старика, видно, одна только эта фраза и осталась в распоряжении.
Мы вышли из огорода… но тут я невольно остановился. Между нами и флигелем стоял огромный бык. Склонив голову до самой земли, злобно поводя глазами, он тяжко и сильно фыркал и, быстро сгибая одну переднюю ногу, высоко взбрасывал пыль своим широким раздвоенным копытом, бил хвостом себе по бокам и вдруг немного пятился, упорно тряс мохнатой шеей и мычал – негромко, жалобно и грозно. Я, признаюсь, смутился; но Василий Фомич преспокойно выступил вперед и, проговорив строгим голосом: «Ну ты, деревенщина», – махнул платком. Бык еще попятился, склонил рога… и вдруг бросился в сторону и побежал, мотая головой направо и налево.
«А он точно брал Прагу», – подумал я.
Мы вошли в комнату. Бригадир стащил картуз со вспотевших волос, воскликнул: «Фа!..», прикорнул на край стула… и понурился…
– Я зашел к вам, Василий Фомич, – начал я свои дипломатические апроши, – собственно, за тем, что так как вы служили под начальством великого Суворова – вообще участвовали в таких важных событиях, – то для меня было бы весьма интересно знать подробности…
Бригадир уставился на меня… Лицо его странно оживилось – я уже ожидал если не рассказа, то по крайней мере одобрительного, сочувственного слова…
– А я, господин, должно́, скоро умру, – проговорил он вполголоса.
Я пришел в тупик.
– Как, Василий Фомич, – вымолвил я наконец, – почему же вы… это полагаете?
Бригадир внезапно задергал руками – вверх, вниз – опять-таки по-ребячьи.
– А потому, господин… Я… вы, может, знаете… Агриппину Ивановну покойницу – царство ей небесное! – часто во сне вижу, и никак я ее поймать не могу; все гоняюсь за нею, а не поймаю. А в прошлую ночь – вижу я – стоит она этак будто передо мной в полоборота и смеется… Я тотчас же к ней побег – и поймал… И она будто обернулась вовсе и говорит мне: «Ну, Васенька, теперь ты меня поймал».
– Что же вы из этого заключаете, Василий Фомич?
– А то, господин, заключаю: стало, вместе нам быть. Да и слава богу, доложу вам; слава господу богу, отцу и сыну и святому духу (бригадир запел) – и ныне и присно и во веки веков, аминь!
Бригадир начал креститься. Больше я ничего от него добиться не мог – так и ушел.
XV
На следующий день мой приятель приехал… Я упомянул о бригадире, о моих посещениях… «Ах, да! как же! я его историю знаю, – отвечал мой приятель, – я и со статской советницей Ломовой хорошо знаком, по милости которой он тут приютился. Да постой, у меня, кажется, здесь должно письмо его храниться, к той самой статской советнице; она ему в силу этого письма и уголок отвела». Приятель мой порылся в своих бумагах и действительно нашел письмо бригадира. Вот оно от слова до слова, за исключением орфографических ошибок. Бригадир, как все люди тогдашней эпохи, путался в буквах «е» и «ѣ», – писал: «хкому, штоп, слюдми» и т. д. Сохранить эти ошибки не предстояло надобности: письмо его и без того носит отпечаток своего времени.
«Милостивая государыня!
Раиса Павловна!
По кончине друга моего, а вашей тетушки, имел я счастие писать к вам два письма, первое июня от первого, второе же июля от шестого числа 1815 года – а она скончалась шестого мая того ж года; в них был я вам открыт в чувствах души и сердца моего, которые стеснены были убийственным оскорблением и изображали в полном виде ожесточенное мое и жалости достойное отчаяние; оба письма посланы по коронной почте страховыми, а посему и не можно усумниться, чтоб они не были вами прочтены. Чрез откровенность мою в них я надеялся получить ваше благодетельное ко мне внимание; но сострадательные ваши чувства отдалены были от меня, горького! Оставшись же после единственного друга, Агриппины Ивановны, в самом расстроенном и бедственном состоянии, я только и полагал, по словам ее, всю мою надежду на ваше благоутробие; она, чувствуя уже кончину жизни своей, сказала мне именно сими, яко бы надгробными и мне вечно памятными словами: «Друг мой, я твоя змея и виновница всего твоего несчастия, я чувствую, сколько много ты мне жертвовал, и за то оставляю тебя в злополучном и воистину обнаженном положении; по смерти моей прибегни ты к Раисе Павловне» – то есть к вам – «и проси у ней помощи, взывай! Она имеет душу чувствительную, и в ней я уверена, что она тебя, сироту, не оставит». Милостивая государыня, примите во свидетельство всевышнего создателя мира, что это ее слова, и я говорю ее языком; а посему, утвердясь в добродетели вашей, к первой к вам отнесся с чистосердечными и откровенными моими письмами; но по долговременном ожидании не получа на них ответа, иначе не мыслил, что добродетельное ваше сердце оставило меня без внимания! Таковое неблагорасположение ваше ко мне в вящшее меня ввергло отчаяние – куды ж и к кому было мне, бесталанному, прибегнуть – я не знал; рассудок был потерян, дух блуждал – наконец, к совершенной моей погибели провидению угодно было еще жесточайшим образом меня наказать и обратить мои мысли к покойнице же, вашей же тетушке, Феодулии Ивановне, Агриппины Ивановны сестре единоутробной, но не единосердной! Представя самому себе в воображении то, что уже двадцать лет был я предан всему родственному ломовскому вашему дому – особливо же Феодулии Ивановне, которая иначе не называла Агриппину Ивановну, как «сердечный мой дружочек», а меня «препочтенный радетель нашего семейства», – представя все сие в обильной воздыханиями и слезами тишине скорбных ночных бдений, я подумал: «Ну, бригадир, так, видно, тому и быть!» – и, обратившись к оной Феодулии Ивановне с моими письмами, получил точное удостоверение, что последнюю кроху со мной разделят! Быв сим обещаньем обнадежен, собрал убогие свои остатки и поехал к Феодулии Ивановне! Привезенные мною гостинцы, более как на пятьсот рублей, были приняты с отменным удовольствием; а потом и деньги, которые я привез для содержания себя, Феодулии Ивановне угодно было, под видом сохранения, взять в свое ведение, чему, угождая ей, я не противился. Если же вы спросите меня: отколе и в силу чего такое доверие я возымел, – на сие, сударыня, один ответ: Агриппине Ивановне сестра и ломовского семейства ветвь!! – Но увы и ах! денег сих я всех вскорости лишился, и надежда моя, которую я полагал на Феодулию Ивановну, – что хотела последнюю кроху со мной разделить, оказалась тщетной и суетной: напротив, оная Феодулия Ивановна моим же добром себя угобзила. А именно, в день ее ангела, пятого февраля, я ей зеленой французской материи на пятьдесят рублей, по пяти рублей аршин, преподнес; сам же из обещанного получил: белого пике на жилет на пять рублей да кисейный на шею платок, которые подарки при мне же были куплены и, как мне известно, из моих же денег – и вот все, чем я, по благодеянию Феодулии Ивановны ко мне, воспользовался! Вот оная последняя кроха! И я бы мог далее в самой истине обнаружить все недоброжелательные Феодулии Ивановны со мной поступки – а также и мои, всяческую меру превосходящие депансы, как-то, между прочим, на конфекты и фрукты, которые Феодулия Ивановна была великая охотница кушать; но все сие умалчиваю для того, дабы вы таковое объяснение об умершей не отнесли в дурную сторону; и притом, так как бог призвал ее к себе на суд – и все, что я от нее претерпел, из сердца моего истребилось, – то я ей, как христианин, простил давно и умоляю бога, чтобы он ей простил!!
Но, милостивая государыня, Раиса Павловна! Неужели ж вы обвиняете меня за то, что я был верным и неложным другом вашего семейства, и за то, что так много и непреоборимо любил Агриппину Ивановну, жертвовал ей моей жизнью, моей честью и всем моим состоянием! был в совершенной ее власти и потому не мог уже управлять ни самим собою, ни моей собственностью – а распоряжалась она по своей воле как мною, так и моим состояньем! Вам известно и то, что по делу ее с людьми ее я терплю невинно убийственное оскорбление – дело сие я перенес после смерти ее в сенат, в шестый департамент – оно еще теперь не решено, – по которому сделали меня соучастником с нею, отдали в опеку и всё еще судят уголовным судом! В моем звании, в мои лета, таковое бесчестие несносно мне; и остается мне только сим горестным размышлением ублажать свое сердце, что, следовательно, и по смерти Агриппины Ивановны я страдаю за нее, – и сие означает следы неизменной любви и добродетельной благодарности моей к ней!
В упомянутых моих к вам письмах я доводил до сведения вашего о похоронах Агриппины Ивановны со всею подробностью – и какое было по ней поминовение; дружба и любовь моя к ней по состоянию ничего не щадили! На все сие – и с сорокоустами, и за шесть недель за чтение по ней псалтыри (сверх того, пятьдесят рублей ассигнациями мои пропали, кои даны в задаток за камень, о котором я вас уведомил), – на все сие издержано собственных моих денег семьсот пятьдесят рублей ассигнациями, в числе которых и взнесенные заместо вкладу в церковь полтораста рублей ассигнациями ж!
Благотворная душа твоя, внемли гласу отчаянного и вверженного в пропасть жесточайших мучениев! Одно сострадание твое к человеколюбию может возвратить жизнь погибшего!! Я хотя и жив – но в страдании души и сердца моего мертв; мертв, когда вспомню, чем был и что есмь: был воином и отечеству всею правдою служил и прямил, как истому россиянину и верному подданному несомненно надлежит, – и отменными знаками награждаем был, – и состояние, сообразное с рождением и званием имел; а ныне из-за насущного хлебопитания горбом хребет сгибаю; мертв же особенно я есмь, когда вспомню, какого друга лишился… И на что мне жизнь после сего? Но предела своего не ускоришь, и земля не расступится, а скорее того в камень обратится! А потому взываю к тебе, душа добродетельная, утиши молву народную, не дай себя в общее осуждение, что за таковую мою безграничную преданность я пристанища себе не имею, удиви милостию твоею ко мне, обрати язык злобствующих и завидующих к прославлению твоих достоинств – и осмелюсь со всяческим смирением присовокупить, – утешь во гробе дражайшую тетку твою, незабвенную Агриппину Ивановну, которая за твою благопоспешную помощь, моими грешными молитвами, прострет над главою твоею свои благословящие длани, успокой на закате дней одинокого старца, который не такую мог ожидать себе участь!.. А впрочем, с глубочайшим почтением имею счастье назваться вашим, милостивая государыня,
преданнейшим слугою
Василий Гуськов,бригадир и кавалер».
XVI
Несколько лет спустя я снова посетил деревушку моего приятеля… Василия Фомича уже давно в живых не было: он скончался вскоре после моего знакомства с ним. Огурец все еще здравствовал. Он свел меня на могилку Аграфены Ивановны. Железная ограда окружала большую плиту с подробной и пышной эпитафией покойницы; а тут же, рядом, и как бы у ног ее, виднелся небольшой холмик с покривившимся крестом; раб божий, бригадир и кавалер Василий Гуськов покоился под этим холмиком… Прах его приютился наконец возле праха того существа, которое он любил такой безграничной, почти бессмертной любовью.
1867
Степной король Лир
Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.
– А я, господа, – воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, – знавал одного короля Лира!
– Как так? – спросили мы его.
– Да так же. Хотите, я расскажу вам?
– Сделайте одолжение.
И наш приятель немедленно приступил к повествованию.
I
«Все мое детство, – начал он, – и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы …й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных, желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный, шишковатый нос, надменно топорщилисъ крошечные голубые глазки и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный… Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой, – и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно… Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было – некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки – те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи – с завертками и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович – и зиму и лето – казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке: народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. «Коли десница у меня благословенная, – говаривал он, – так на то была воля божия!» Он был горд; только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.
– Наш род от вшеда (он так выговаривал слово швед); от вшеда Харлуса ведется, – уверял он, – в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом – а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговики́!
– Да, Мартын Петрович, – попытался я было возразить ему, – Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.
– Ври еще! – спокойно ответил мне Харлов, – коли я говорю, стало оно так!
Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.
– Эх, Наталья Николаевна! – промолвил он почти с досадой, – нашли за что хвалить! Нам, господам, нельзя инако; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я – Харлов, фамилию свою вон откуда веду… (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?
В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеде Харлусе, который выехал в Россию…
– При царе Горохе? – перебил сановник.
– Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.
– А я так полагаю, – продолжал сановник, – что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии…
Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.
– Может быть, – брякнул он, – наш род точно оченно древний; в то время как мой пращур в Москву прибыл, сказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.
Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня, – перебил Харлов, – не наскакивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» – спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.
II
Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса – хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и пожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа – и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, – об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцой, вприпрыжку; ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другою он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заатукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.
III
Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка», – так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил – и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему – что писать, что блох ловить – все едино. Да, матушка его уважала… однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной. «Как есть леший!» – уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол – и он этим не обижался – он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом – да и ему было привольнее есть; а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифэма. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» – говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» – отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.
Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.
– Что это, мой батюшка! – восклицала она, – ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!
– Наталья Николаевна! Благодетельница! – отвечал обыкновенно Мартын Петрович. – Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может – извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.
Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.
Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает», – замечал он с укоризной. Только когда его наводили на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его расспрашивали про французов, он сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародеришки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.
IV
А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел – именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоящегося трудолюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы, вроде следующей: «Но че-ловек страстный выводит из сего пустого места, кото-рое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, ска-зывает он, не сильна сделать меня счас-тливым!» и т. д.[118] – или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И… и… э… и… э… и… Ааа… ска!.. О… у… у… би… и… и… и… ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие; прейдет – и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое, время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать – и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь всё – трын-трава! Русский был человек.