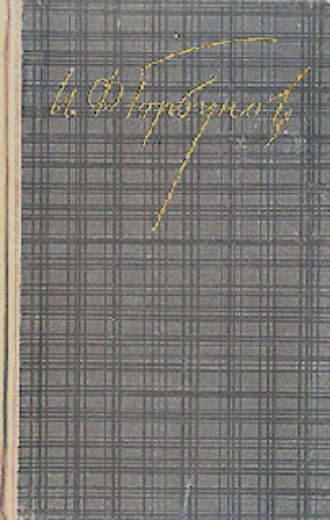
Иван Федорович Горбунов
Воспоминания
Заиграет оркестр Сакса,
И запенится Аи,
Зарыдает старый плакса,
А с ним денежки мои.
Приглашенный на один роскошный обед в какой-то ресторан в качестве гостя, он дает такой отчет об этом обеде:
Обед наш был весьма негоден,
Не много было и ума:
Нам речи говорил Погодин,
А деньги заплатил Кузьма.[45]
Мы все ждали с нетерпением первого представления «Бедность не порок». Начались репетиции, и мы с Александром Николаевичем бывали на сцене каждый день. Наконец, пьеса 25 января 1854 года была сыграна и имела громадный успех. Садовский в роли Любима Торцова превзошел самого себя. Театр был полон. В первом ряду кресел сидели: граф Закревский и А. П. Ермолов,[46] большой почитатель Садовского.
– «Шире дорогу – Любим Торцов идет!» – воскликнул по окончании пьесы сидевший с нами учитель российской словесности, надевая пальто.
– Что же вы этим хотите сказать? – спросил студент. – Я не вижу в Любиме Торцове идеала. Пьянство – не идеал.
– Я правду вижу! – ответил резко учитель. – Да-с, правду! Шире дорогу! Правда по сцене идет. Любим Торцов – правда! Это – конец сценическим пейзанам,[47] конец Кукольнику:[48] воплощенная правда выступила на сцену.
«Московские ведомости», единственная тогда газета, не обмолвилась ни одним словом о новой пьесе; лишь Н. Ф. Щербина почтил автора гнусной эпиграммой.[49]
Вплоть до масленицы пьеса не сходила с репертуара, несмотря на то, что ее загораживала гостившая в то время в Москве знаменитая Рашель.[50] Москва чествовала ее по-московски: в последний спектакль на масленице, в воскресенье, ей поднесен был от публики серебряный кубок с изображением московского герба; М. С. Щепкин поднес ей каллиграфическую рукопись «Сцены из «Скупого рыцаря». К рукописи были приложены картинки, заимствованные из содержания сцен, два вида Москвы, свой портрет и французские стихи, «мастерски написанные женщиной-поэтом», как сказано в «Московских ведомостях». Говорили, что стихи писала графиня Растопчина. Западники были в полном увлечении от Рашели, а славянофилы воздали «коемуждо по делом его». Аполлон Александрович Григорьев ответил Щербине тоже эпиграммой и написал стихотворение «Рашель и правда».[51]
Злоба Щербины не имела границ. Он, кроме злостной эпиграммы, поддерживал еще клевету на Александра Николаевича в плагиате первой комедии. Клевета эта печатно поднималась два раза, пока не вызвала протеста Александра Николаевича,[52] напечатанного в «Современнике». Клеветники приписывали пьесу купеческому сыну Гореву, который написал ужаснейшую дребедень под заглавием «Сплошь да рядом», напечатанную в «Отечественных записках». Один актер хлопотал о пропуске ее в театрально-литературном комитете. Комитет был последователен в притеснении Островского. Комитет пропустил, а вскоре «ничтоже сумняшеся» забраковал прелестнейшую комедию Островского «Свои собаки грызутся».[53] Спустя год министр двора граф В. Ф. Адлерберг велел пьесу пересмотреть вновь, другими словами – пропустить. Комитет с важностью занес в журнал. Пьеса была сыграна с большим успехом и долго оставалась на репертуаре, а член театрально-литературного комитета Ротчев после первого представления написал в «Инвалиде» о неуспехе пьесы[54] и окончательном падении таланта Островского. Из четырех членов театрально-литературного комитета, подавших голос против пьесы, остались неизвестными для потомства три: четвертый заявил себя печатно (А. Г. Ротчев), отозвавшись крайне неодобрительно и с чувством озлобления. Я написал против его отчета несколько слов в «Северной пчеле» и дорого за это поплатился. Мне было сделано от начальника репертуара строгое внушение, что, состоя на службе, и т. д. Сколько я ни оправдывался, что это дело частное, нисколько до службы моей не относящееся, но начальство стояло на своем.
De mortius…,[55] но Ротчев не был в театре и пьесы не видал, и был в этом уличен. Подобные отчеты бывали прежде нередко. Писались даже отчеты заблаговременно. Так, директору Сабурову одна русская княгиня за границей рекомендовала принять на службу в русскую оперу соотечественника, обладавшего, по ее словам, необыкновенным голосом. В самом же деле у этого певца голосу было только на пятиалтынный. Директор исполнил просьбу и заключил с певцом контракт. Газеты зашумели: из-за границы едет необыкновенный певец, берет ут-диез чище Тамберлика, будет дебютировать в «Отелло» и т. п. Явился этот певец. То был Кравцов. На репетиции дебютант проявил все данные ему богом голосовые средства: оказалось очень мало. Но этому не поверили: одни отнесли к застенчивости, другие к желанию дебютанта показать себя во всем блеске на первом представлении.
Петр Ильич Юркевич,[56] член театрально-литературного комитета, принадлежал к числу последних. Едучи в театр, он завез в типографию одной газеты, в которой был постоянным сотрудником, несколько прочувствованных слов о первом дебюте: «При появлении певца-феномена зала задрожала от рукоплесканий». Ут-диез поразил всех, как громом. Весь фешенебельный Петербург присутствовал на торжестве молодого дебютанта. Подробности завтра». Действительно, в зале Мариинского театра весь фешенебельный Петербург был в этот вечер. Действительно, раздались аплодисменты при появлении нового певца, но не только ут-диеза, даже никакого голоса фешенебельному Петербургу певец не предъявил, обеспокоил только почтеннейшего Юркевича, который во время антракта должен был съездить в типографию и взять у наборщика свой восторг обратно.
В одну из поездок по Волге в Казани я познакомился с Горевым: он был актером в казанской труппе. Это был настоящий Любим Торцов. Оборванный, обдерганный пьяница, неоднократно подвергавшийся припадкам белой горячки, человек буйный. Перед моим с ним знакомством он только что вышел из больницы, где лечился от нанесенной ему каким-то трагиком в живот раны той же самой посудой, из которой они вместе пили. Да не подумайте, что я кладу очень густые краски на эту личность для того, чтобы выставить ее рельефнее, – нет! – это есть истинная правда. В дни оны подобные люди представляли тип. Они обыкновенно выходили из разоренного купеческого гнезда. Разорился, например, купец и побрели розно все родственники, составлявшие дом: «купеческие братья, купеческие племянники, тетки и т. п.». Бессильные и дряхлые, становившиеся на паперти церковной, тетки расползаются по пустыням[57] и монастырям, в которых они прежде считались благодетельницами. Молодежь, вкусившая на дядин капитал всех прелестей прежней Нижегородской ярмарки с ее историческим селом Кунавиным, с трактирами Никиты Егорова, Барбатенки и т. п., путались по Москве без всякого дела. Иные пристраивались к какому-нибудь певческому хору, другие продавались в солдаты, а некоторые поступали в актеры. Таких актеров прежде в провинции можно было встретить много. Горев происходил именно из разоренного купеческого гнезда. Я не могу понять, каким образом литературным людям, беседовавшим с Горевым, могло прийти в голову, что он мог написать такую высокую комедию, как «Свои люди – сочтемся»? Ведь это был человек необразованный, даже малоразвитый. С особенным чувством эта клевета поддерживалась в одном петербургском литературном кружке. В 1846 году Т. И. Филиппов познакомился с Островским и застал пьесу черновою. Сам он третий акт переписывал с Н. В. Кидошенковым.[58]
Вероятно, эту сплетню распустил сам Горев, потому что ни на одного Островского он посягнул: Горев впоследствии присваивал себе пьесу Чернышева[59] «Не в деньгах счастье», но эта сплетня дальше актерского кружка не пошла.
Горев в разговоре со мною уклонялся разъяснить мне эту гнусную историю, но назвал лиц, которые ему покровительствовали в Москве. Это был несчастный человек, страдавший галлюцинациями. Он умер, подавившись рыбной костью.
Вслед за Островским попробовали свои силы в изображении купеческого быта актер Красовский, написавший комедию «Жених из ножовой линии», M. Н. Владыкин[60] – пьесу «Купец-лабазник». Она и до сих пор играется в провинции, но в Москве была снята после нескольких представлений по распоряжению графа Закревского, и вот почему. Владыкин был военный инженер; написал свою комедию в Петербурге. Главное действующее лицо в пьесе был купец Голяшкин. Эту роль в Москве играл Садовский. На несчастье автора, в Москве отыскался не вымышленный, а настоящий купец Голяшкин. Пошел по купечеству разговор. Заходили слухи, что племянники Голяшкина по злобе на дядю заказали написать пьесу, чтобы «пустить на него мораль». Хотя в пьесе никаких намеков на настоящего Голяшкина не было, но все-таки она была снята в уважение заслуг его по благотворительным учреждениям. Запрещение мотивировали тем, что в пьесе унижается благородное сословие.
За Владыкиным выступил ходатай по судам от купечества Н. З. Захаров, которого купцы звали Сахар Сахарычем.
Затем написал пьесу купец Солодовников. Этому творению не суждено было восхищать публику: оно осталось в конторе у автора. Оба же эти произведения кружились около «Свои люди» и «Не в свои сани». Далее принес на рецензию Александру Николаевичу пьесу из купеческого быта Осипов: ее не играли, но впоследствии она была напечатана в «Отечественных записках».
В течение трех лет три пьесы нового автора («Бедная невеста», «Не в свои сани» и «Бедность не порок») сделали крупный поворот драматического репертуара на новую дорогу. Затребовались бытовые пьесы. Этому повороту помогли одновременно с первой пьесой Островского появившиеся на сцене пьесы: Сухово-Кобылина «Русская свадьба», драма «Расставанье» Родиславского,[61] потом пьесы из народного быта «Суд людской – не божий» А. А. Потехина и другие. Полевой,[62] Кукольник, Ободовский[63] и вся французская мелодрама сошли со сцены. Мелодраму, впрочем, изредка поддерживал М. С. Щепкин, неподражаемо исполняя роль матроса[64] в пьесе того же названия. Шекспир, немножко сконфуженный Самариным в роли Гамлета,[65] тоже посторонился и дал дорогу новому репертуару, тем более, что Леонид Львович Леонидов, лучший представитель каратыгинских традиций, вызванный в Москву для замещения Мочалова, был снова вызван в Петербург для замещения скончавшегося Каратыгина.
Каратыгин невысоко стоял во мнении наших учителей: он отличный актер, но не Павел Степанович (Мочалов) – до него ему далеко.
– Да-с, батюшка, далеко, – говорил Садовский. – Вот Аполлон чудесно сказал:
Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом мстили,
И – человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов.[66]
– Позвольте вам доложить, – заносчиво возразил бывший в Москве молодой петербургский актер, – Белинский сказал о Каратыгине в «Велизарии»…[67]
– Это для вас, – обиделся Садовский, – для санкт-петербургских, Белинский – евангелие, а для нас он ничего не значит. Мы сами кое-что понимаем и без Белинского. Белинский нам не указ.[68] Мы своим умом живем. Да что тут и играть-то в «Велизарий»?[69] Всякий московский протодьякон сыграет Велизария. Кричи громче – вот тебе и Велизарий! А вот Гамлета ваш Каратыгин играет очень нехорошо, а Павел Степаныч… Да вот что! – разгорячился Садовский. – Я играл с ним в «Гамлете» Гильденштерна.
– «Сыграй мне что-нибудь», – говорил он, подавая мне флейту…
– «Я не умею, принц…» – отвечал я, взглянувши на него… Чувствую по всему телу озноб, зубы у меня задрожали. С этой минуты я и постиг, что значит актер.
– Значит, вы находите, что у Мочалова было больше, как говорят французы… чем у Каратыгина?
Садовский ехидно улыбнулся, потому что споривший щегольнул французской фразой, не зная французского языка.
– Не знаю, что французы говорят, а вот у нас говорят, что Мочалова с вашим Каратыгиным равнять нельзя. Мочалов – гений!
– Нельзя же отказать Каратыгину…
– Да мы и не отказываем, а сажаем всякого на свое место. Мартынов у вас – вот актер! Чудеснейший актер! Ну, какой Каратыгин Гамлет, какой он Чацкий? Это какой-то директор департамента… Отнимите у него рост, что он с одним своим басом сделает? Он холодный актер, деланный: ему только и играть Кукольника да Ободовского…
– А Белинский!.. – вскочил актер.
– Ну, что Белинский? И Белинский говорит, что он Гамлета играть не умеет.
Прекрасно сыгранная Л. Л. Леонидовым в Москве роль была в пьесе «Бенвенуто Челлини[70]», и чуть ли она была не последняя в его огромном репертуаре. Мне кажется, что после этой пьесы, пародируя стих поэта:[71]
Грустным взором он окинул
Ряд ролей своих,
Шапку на брови надвинул,
И навек затих.
И много тогда затихало актеров!
Не без сожаления рассталась с Леонидовым Москва, привыкшая любить его. С грустью расстались с ним друзья его А. Н. Островский и П. М. Садовский и все товарищи по искусству.
В моем собрании автографов есть письмо знаменитой в те дни актрисы М. Д. Львовой-Синецкой к Ф. А. Кони: «Вы, я думаю, уже слышали новость театральную, что к вам в Петербург берут от нас Леонидова. Признаюсь, это – потеря для нашего театра: он сделался замечательным артистом».
Дом Леонида Львовича был открыт для представителей всех родов искусства: актеры, литераторы, художники, певцы – все были его дорогими гостями, читали, играли на бильярде, пели, спорили. Больше всех по своей горячей натуре спорил сам хозяин. В числе его друзей чаще всех можно было встретить А. Н. Дьякова. Прекрасный каллиграф, равного которому не было в Москве (его прописи для юношества были в употреблении почти во всех учебных заведениях), рисовальщик пером, подражатель Мочалову в чтении стихов, сам стихотворец, друг поэта Полежаева, страстный любитель театра, сам пробовавший свои силы на императорской сцене в драме «Жизнь игрока», – этот человек вел бездомную, скитальческую жизнь и кончил дни свои в больнице. Ни одного его стиха не было напечатано, но в рукописи они были распространены. Особенно нравилось его послание к друзьям из больницы. Привожу несколько стихов:
За безгрешность житья
На больничную я
Попал койку, —
Где смекают умом
В организме моем
Перестройку.
И улар был, друзья,
От хмельного питья —
С перепою.
День и ночь я, друзья,
Был свиньею свинья
От настою.
Больше всех эконом
За больничным столом
Смотрит строго.
G ним инструкция есть,
Чтоб по форме всем есть,
Есть немного.
А уж сколько сортов
Мне втирают спиртов
Все снаружи.
Но их в тело втирать,
Чем в утробу вливать
Много хуже.
И так далее.
Одно время он пребывал у Меркли (писал в «Московском наблюдателе» под псевдонимом Иеронима Южного). Матушка Меркли получила из своего имения балыки. Дьяков обращается с таким посланием:
Вчера из Харькова балык
Остановился в доме Меркли,
А тот балык уж так велик.
Что даже очи всех померкли.
Вчера из Харькова балык
Приехал в древнюю столицу,
А тот балык уж так велик.
Что мог прельстить бы и царицу.
Но я не царь и не царица,
А просто Алексей Дьяков.
Пришлите ж, несмотря на лица,
Нам на закуску балыков!
А вот еще обращение его к Фебу:
О, Феб, к тебе я обращаю
С молитвой чистой голос мой,
Но не китайского я чаю
Прошу с больною головой,
Не жирных рябчиков в причуде —
С салатом, свежим огурцом, —
Не стерлядь пышную на блюде,
Роскошно свернуту кольцом.
Мое желанье не роскошно,
Неприхотливое оно:
О, боже, боже, как мне тошно,
Щемит в груди моей давно…
О, Феб, ведь только лишь семь гривен
На водку пенную прошу,
А семь копеек, что ты дивен,
На твой я жертвенник вношу.
Перевод Леонидова в Петербург не был особым счастьем для артиста, а скорее окончанием его артистической карьеры. При полном развитии своего таланта и сценической опытности он не нашел себе (на петербургской сцене) репертуара (например, в новом произведении Кукольника «Ермил Костров» первенствовал В. В. Самойлов, который стал также играть Шекспира). Со смертью Каратыгина и Брянского репертуар Шекспира заглох, давали одного «Гамлета», которого играл А. М. Максимов. Блестящая роль Людовика XI («Заколдованный дом»[72]), в котором был велик Каратыгин, хотя была по плечу и в средствах возвратившемуся «во своя» артисту, но свои его «не прияша»: эту роль тоже и крайне неудачно сыграл А. М. Максимов, который из водевильного актера и любимого первого любовника превратился в неудачного трагика.[73] Почтенному артисту пришлось доедать объедки, оставшиеся от «многопестротной трапезы» Каратыгина, то есть сесть на старый, совершенно заигранный репертуар («Жизнь игрока»,[74] «Параша Сибирячка», «Скопин-Шуйский»[75] и т. п.), – репертуар, который быстро вытеснялся новым бытовым репертуаром. Были уже сыграны «Бедная невеста», «Не в свои сани», «Бедность не порок», потом явилась пьеса из народного быта А. А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет», в которой Мартынов проявил всю силу гениального таланта.[76] А тут появился граф Соллогуб со своим благородным чиновником,[77] крикнувшим со сцены на всю Россию, что пришла пора «искоренить зло с корнями». А потом чиновник Львова («Свет не без добрых людей») простонал «тяжела жизнь бедного чиновника».
Публике так понравились эти пьесы, что последнюю из них она просмотрела более двадцати пяти раз сряду. Затем явилась пьеса Чернышева «Не в деньгах счастье», затем «Гроза» Островского, в которых Мартынов окончательно убил все приемы старой каратыгинской школы,[78] и каратыгинскому репертуару отведено было место в воскресных спектаклях, в бенефисы инвалидам, даваемые военным кавалерам.
Конец сезона 1859 и сезон 1860 года не сходила с афиши драма «Гроза». Ее пересмотрел положительно весь Петербург. Толку и говору о ней было очень много. Играли ее превосходно. Одно из представлений изволила посетить покойная императрица Мария Александровна, в сопровождении князя Петра Андреевича Вяземского. Перед началом спектакля директор театров А. И. Сабуров бегал, суетился, что-то приказывал и наконец спросил, какая пойдет пьеса? Ему отвечали: «Гроза» Островского.
– Пожалуйста, чтобы не глязная (он не выговаривал букву «р»), – важно заметил он режиссеру.
Пьеса уже прошла две цензуры: одну для печати – строгую, другую для представления на сцене – строжайшую. И под обоими цензурными микроскопами в ней ничего не найдено. Но режиссер, вследствие замечания начальства, посмотрел еще раз в свой микроскоп, увеличивающий в большее число раз, чем цензурные микроскопы, и вынул из пьесы три фразы и изменил одну сцену.
Мы с артисткой Е. М. Левкеевой (Кудряш и Варвара) удостоились получить после третьего акта через директора благодарность ее величества.
– Вот, любезный друг, – сказал он мне, – если бы у нас все такие пьесы были!..
– Есть еще пьеса Островского, только запрещена цензурой. Если бы вы изволили походатайствовать, может, она будет пущена.
– С удовольствием! – отвечал восторженно Андрей Иванович. – Принесите ее мне… Непременно… Завтра же…
На другой день я вырвал пьесу из кушелевского издания, смастерил кой-какую обложку, написал для памяти небольшую записку и понес к Андрею Ивановичу.
– Не в час пришли вы, сударь, – сказал мне дежурный капельдинер, когда я попросил о себе доложить.
– Почему?
– Строг сегодня. Перед вами только что кричал на одного… оперного… Коли угодно, я доложу, а только что… И мне, пожалуй, неприятность будет.
– Прошу доложить.
Скрипнула дверь, скрылись за нею фалды капельдинера. Миг! И я стою перед директором. Вчера восторженное, сияющее лицо приняло строгое выражение, до того строгое, что неприятно было смотреть на него. Вечно слезящиеся красноватые глаза его сузились, маленькие свинцового цвета зрачки быстро бегали.
– Я вам сказал, любезный друг, что прибавкам я положил предел?! Больше никто не получит прибавки. Довольно!
– Вы мне приказали, ваше превосхо…
– Ничего я вам не приказывал! Все говорят, что я приказал. Я все помню, что я приказывал.
– Я не за прибавкой пришел, ваше превосходительство, я принес вам пьесу.
– Это к Павлу Степановичу, а не ко мне. Я в комитете не член. Павел Степанович там член. Я не могу Павлу Степановичу приказать.
– Извините, ваше превосходительство! Вы вчера лично изволили мне приказать принести вам пьесу Островского, запрещенную цензурой.
– Зачем?
– Чтоб ходатайствовать о ее разрешении.
Андрей Иванович быстро приложил два пальца ко лбу.
– Теперь помню! Пожалуйте сюда.
Мы вошли в кабинет. Я доложил все, как следует. Андрей Иванович при мне собственноручно написал письмо по-французски шефу жандармов князю Долгорукову, приложил мою записку и пьесу и приказал отправить тотчас же. Толчок был дан очень сильный. Князь приказал пересмотреть пьесу.
Цензором драматических произведений в то время был И. А. Нордстрем, любезнейший и обязательнейший человек. Он пошел с А. Н. Островским на соглашение: в силу тогдашних цензурных условий, он предложил ему наказать порок в лице Подхалюзина. Пороки в то время обыкновенно преследовались квартальными, и вот в конце пьесы автор пригласил квартального наказать Подхалюзина. В последнее время, когда при новых судах квартальные потеряли свой престиж, из высокохудожественной комедии и квартального убрали. В первый раз пьеса дана была 16 января 1861 года, в бенефис актрисы Линской.
Я несколько отвлекся от последовательного рассказа.
Я сказал, что после трех пьес нового автора на сцене сделался крутой поворот в другой репертуар. Этот поворот тотчас отразился и на провинции, где царила и переводная и доморощенная трагедия и драма.
В знаменитой Белой зале (в гостинице Барсова против Малого театра), в которую великим постом съезжались актеры со всего лица земли русской, антрепренеры стали искать между сценическими деятелями уже не Гамлета, а Любима Торцова, отстраняли Силина Сиротинку, а требовали Бородкина.
Вслед за последней пьесой Александр Николаевич сел за новую – «Не так живи, как хочется». Писал он ее долго, с большими перерывами. В то время я жил у него и следил за процессом его творчества. Писал он обыкновенно ночью – не знаю, как впоследствии. На полулисте бумаги было сначала небрежно написано что-то вроде конспекта. Привожу его в точности.
Божье крепко, а вражье лепко.
Это зачеркнуто, а сверху написано:
Не так живи, как хочется.
Лица:
Старик.
Старуха.
Чует мое сердце, недоброе оно чует.
Монастырь.
Настали дни страшные. Опомнись!
Широкая масленица.
Груша. Девушки.
Вася.
Ну, пияй! ты меня пиять хочешь.
Еремка – олицетворение дьявола.
Уж я ли твому горю помогу,
Помогу, могу, могу.
Ночь.
Прорубь на реке. Удар колокола.
(Входит старик.)
(Балалайка.)
Сирота ты моя, сиротинушка!
Ты запой, сирота, с горя песенку.
Посетившему его артисту Корнилию Николаевичу Полтавцеву Александр Николаевич рассказал пространно, с мельчайшими подробностями содержание пьесы, но из-под пера вышло не то, что он рассказывал (по рассказу сюжет был гораздо шире), – может быть, оттого, что в это время он очень болел глазами, а пьесу нужно было окончить к бенефису.
Перед тем как сесть писать, Александр Николаевич обыкновенно долго ходил по комнате или раскладывал пасьянс, который он раскладывал и во время писания.
– Надо освежить голову, – говорил, – потруднее какой-нибудь пасьянс разложить.
Но если вообще он писал долго, то бывали пьесы, которые он справлял очень скоро. Например, «Воспитанницу» он написал, гостивши в Петербурге, в три недели;[79] «Василису Мелентьевну», тоже в Петербурге, в сорок дней. Процесс писания этой пьесы он называл «искушением от Гедеонова». Директор императорских театров С. А. Гедеонов передал написанную пьесу Александру Николаевичу, который, оставивши в неприкосновенности сюжет, написал собственную пьесу, не воспользовавшись ни одной сценой, ни одним стихом из творения Гедеонова.
Лето 1854 года в политическом отношении было мрачное. Известия в Москве с театра войны получались в то время не с такой быстротой, как теперь, то есть известия официальные. «Столбовые» Английского клуба[80] знали все, и «дверем затворенным» рассуждали, не стесняясь, о военных неудачах, «Альминском побоище»,[81] порицали главнокомандующего князя Меншикова. Рассуждения их урывками попадали в уши клубной прислуги, та переносила их в трактир, а трактир распространял их по всей Москве.
«Измена!» – заговорило захолустье, – и пошло!
В Сыромятники пришло известие, что француз уже тронулся и идет к Бородину. В Рогожской стали говорить, что каких-то двух значительных англичан, скованных, провели ночью через Рогожскую заставу в Сибирь, что какой-то купец оделял сопровождавшую их команду калачами, чтоб не упустили. На улице стали попадаться раненые офицеры. Прошел слух о новом наборе, о государственном ополчении, которое поведет в бой «испытанный трудами бури боевой» старый генерал Ермолов. На сцене появилась патриотическая пьеса петербургского актера Григорьева «За веру, царя и отечество». Уличные шарманки и валы трактирных органов и оркестрионов заиграли песню Лейбрека, положенную на музыку капельмейстером петербургской русской оперы Константином Лядовым об англичанине, разорившем лайбу бедного чухонца. Песню эту с огромным успехом исполнял в то время на сцене Александрийского театра В. В. Самойлов.
Знаменитая кофейная Печкина продолжала еще существовать. Я в ней бывал. Постоянными посетителями ее были профессор Рулье, А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и многие другие. Темою разговоров и споров была, разумеется, война. Пров Михайлович, патриот до мозга костей, спорил до слез.
– Побьют нас! – сказал Рамазанов.
Пров Михайлович вскочил, ударил кулаком по столу и с пафосом воскликнул:
– Побьют, но не одолеют.
– Золотыми литерами надо напечатать вашу фразу, – произнес торжественно П. А. Максин: – побьют, не одолеют. Превосходно сказано. Семен, дай мне рюмку водки и на закуску что-нибудь патриотическое, например малосольный огурец.
– Извольте видеть, Иван Федорович, – сказал Пров Михайлович мне после, – как татары-то рассуждают!..
– Какие татары?
– А Рамазанов-то! Ведь он татарин, хоть и санкт-петербургский, а все-таки татарин… Рамазан!..
Московские купцы, посещавшие кофейную, все группировались около Прова Михайловича и слушали его страстные речи.
Петр Алексеевич Максин был отставной актер и бывал в кофейной Печкина каждый день, с утра до ночи. Он служил предметом шуток и насмешек, которые вызывал сам. Например, входит он в залу.
– Откуда, Петр Алексеевич?
– С печальной церемонии: был на погребении.
– У кого?
– Признаться сказать, в настоящее время я не знаю «Я был неожиданно приглашен к столу знакомым мне отцом дьяконом. Сидел рядом с прекраснейшим и ученейшим протоиереем от Сергия в Рогожской и получил от него совет, насчет моего ревматизма. Относительно свежей икры могу сказать, что она нарочно была выписана из Нижнего. Необыкновенная! Поставь пирамиду и подай рюмку водки! Эх, Петя, сразил тебя рижский бальзам! – воскликнул он, потерявши равновесие и падая на диван.
– Бальзам принадлежит к числу сильнодействующих средств, Петр Алексеевич. Неужели вы этого не знали? – сказал Карл Францевич Рулье.
– Не знал, потому что его всегда отпускают из ренсковых погребков без рецепта, – отвечал Максин, тотчас обращаясь к Бабаеву, очень талантливому ученику Дюбюка, но тоже человеку, от хмеля невоздержанному, и весьма серьезно и торжественно произнес:
– Бабков, брось ты свою пьяную компанию, перейди в наш благородный круг.
Я уже не застал кофейную в лучшее ее время, когда она была центром представителей литературы, сцены и других искусств. Она в то время падала, и ее посещали немногие.
В это время репертуар моих рассказов значительно расширился. Александр Николаевич поощрял меня и двигал вперед. Я стал постоянным его спутником всюду, куда он ни выезжал. Рассказы мои сделались известными в Москве: о них заговорили. Пров Михайлович, сам превосходный рассказчик, которому я не достоин был разрешить ремень сапога, относился ко мне с величайшею нежностью и вывозил меня, как он выражался, «напоказ».
– Мы завтра, Иван Федорович, будем вас показывать у Боткина.
Дом Боткиных принадлежал к самым образованным и интеллигентным купеческим домам в Москве. В нем сосредоточивались представители всех родов художеств, искусства и литературы, а по радушию и приветливости хозяев ему не было равных. Всякий чувствовал себя как бы в своем доме. Сергей Петрович Боткин, нежный, ласковый, молоденький студент, собирался в то время ехать врачом в Севастополь. Один из братьев Боткиных, Иван Петрович, любил Садовского до обожания, и мы с Провом Михайловичем бывали у него каждую субботу. Александр Николаевич тоже бывал часто. Добрейшее существо был этот Иван Петрович, а с покойным Павлом Петровичем мы были связаны узами самой тесной и крепкой дружбы. Этот, хотя и не выделялся, как братья его, какими-либо талантами, но бог дал ему один талант – голубиную чистоту. До сих пор я питаю к этому дому мою сердечную привязанность и сохранил о нем лучшие мои воспоминания.
Потом мы бывали у Алексея Александровича Корзинкина. Жил он в своем доме на Покровском бульваре. У него собирались музыкальные художники и составлялись квартеты. Сам хозяин был артистическая натура, играл на скрипке и был другом Александра Николаевича по рыбной ловле (Александр Николаевич был в то время страстный рыболов и знал все подмосковные речки и ручейки). М. С. Щепкин бывал на корзинкинских собраниях каждый раз, рассказывал малороссийские анекдоты и читал стихи.
Бывали мы также у С. В. Перлова, у которого был свой оркестр, составленный из его приказчиков и мальчиков. Оркестр этот на тех же началах существует и поныне. Его поддерживает сын покойного Перлова, Василий Семенович.
Бывали на скромных интимных собраниях у К. Т. Солдатенкова, которые посещались художниками и профессорами Московского университета.
Бывали на вечерних беседах у А. И. Хлудова, составителя редчайшей в России староверческой библиотеки.
И много в то время было купеческих домов, двери которых широко отворялись для принятия с почетом всякой умственной и художественной силы.
Бывали и такие дома, которые «для сатирического ума» представляли обильный материал для наблюдения. Нарисую один.
Был богатый купец X. Большой дом у него был в одном из московских захолустий, старинный, барский, с колоннами, принадлежавший в конце прошлого столетия какому-то генерал-аншефу. Жил он по старым отеческим преданиям и капитал имел «темный», то есть никто не мог дать приблизительное предположение, какой у него капитал.
«Несчитанный, говорили, весь в сериях. И сам он, пожалуй, своего капиталу не знает».
Помещался он с сыном внизу, а бесчисленный женский пол ютился в верхнем этаже окнами в огромный заросший сад. Никто из обывателей живущего там женского люда не видал. Изредка отворятся вечно запертые ворота, вывезет толстый жеребец крытую пролетку, в кузов которой, как в узкий корсет, втиснуто необыкновенно толстое, почти бесформенное существо в черном платье, с покрытою черным платком головой. И если бы не виднеющийся из-под платка кусочек носа и часть отвислого подбородка, можно было подумать, что вывезли какую-нибудь кладь. Это выехала сама по направлению к Рогожскому кладбищу. Сам старик никогда свою единственную лошадь не беспокоил: ходил пешком или приискивал такого рваного извозчика, на которого садятся только из крайней необходимости. Сын известен был в околотке как сын богатейшего купца. Он нигде не учился, ничего не делал, подавливал иногда в окрестных садах синиц и чижей да удил в Яузе рыбу. Вздумал было раз прочесть «Юрия Милославского»,[82] – семинарист один, товарищ по ловле синиц, посоветовал, – да при чтении очень сон одолевал, бросил: «Опять же, коли бы все настоящее было, а то все выдумки». По мере того как родитель приближался к оставлению «мирского мятежа и временной сея жизни», кругозор Ивана Гавриловича расширился: уже к его услугам стоял у трактира лихач-извозчик, уже он сидел по вечерам «под машиной» московского трактира, выслушивая мотив из «Роберта»,[83] «Аскольдовой могилы»,[84] «Вот на пути село большое»[85] и других опер; уже он познал всю прелесть увеселительных притонов Дербеневки, Козихи и Доброй Слободки; уже он всем сердцем прилепился к цыганской пляске, к остроумию торбаниста, – одним словом, сделался вполне готовым по получении отцовского наследия мгновенно распуститься во всю ширь своей натуры. Сын он был почтительный и любил отца; его только беспокоила люстриновая сибирка[86] с крючками да стесняли сапоги бутылями, обстановка, костюм, без которого, по мнению родителя, нельзя было достигнуть пути в царство небесное. Но вот в одну ночь раздается в доме плач и рыдание: старик скончался; жития его было шестьдесят девять лет три месяца и одиннадцать дней. Тучный прах его заключили в огромную дубовую колоду «ржевского дела», снесли на кладбище; нищую братию накормили и оделили деньгами. Шесть недель раздавались в доме заунывное женское пение и чтение псалтыря. Затем «время плачу и рыданию преста»: старухи удалились на два года в один из керженских скитов[87] и по возвращении оттуда не нашли в ломе того благочестия, в каком они его оставили; даже выветрился тот специфический запах – смесь ладана, воска, деревянного масла, – который составлял его необходимую принадлежность. В зале, где под гнусавое пение начетчиц вызывались из груди вздохи, обращенные к древнего письма иконе, и «отбрасывались» по лестовке[88] земные поклоны, ставились по вечерам ломберные столы,[89] где пели демественные большие стихи[90] из праздников и триодей[91] «драгия вещи со всяким благочинием», – раздавалась ухарская песня певца Бантышева:







