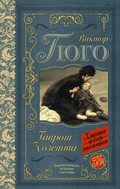Виктор Мари Гюго
Бюг-Жаргаль
XXXVI
Между тем наступило время almuerzo[93] Биасу. Генерал-майору войск его католического величества принесли большой щит черепахи, в котором дымилось особое, обильно приправленное ломтями сала кушанье, olla podrida, где черепашье мясо заменяло carnero,[94] а картофель – garganzas.[95] В этом puchero[96] плавал громадный кочан караибской капусты. По обеим сторонам черепашьего щита, служившего одновременно и котлом и миской для еды, стояли две чаши из скорлупы кокосового ореха, полные изюма, кусков sandias,[97] ямса и винных ягод; это был postre.[98] Маисовый хлеб и вино в запечатанном бурдюке дополняли это пиршество. Биасу вытащил из кармана несколько долек чесноку и натер себе хлеб; затем, не приказав даже убрать еще теплый труп, лежавший перед ним, взялся за еду, пригласив Риго к своему столу. Аппетит у него был поистине устрашающий.
Оби не принял участия в их трапезе. Я понял, что он, как и все его собратья по ремеслу, никогда не ест на глазах у людей, дабы внушить неграм, что он существо сверхъестественное и не нуждается в пище.
Во время завтрака Биасу приказал одному из своих адъютантов начинать смотр, и войска мятежников в полном порядке открыли шествие мимо пещеры. Первыми прошли негры Красной Горы; их было около четырех тысяч, они шли небольшими плотными взводами, во главе со своими начальниками, одетыми, как я уже говорил, в ярко-красные штаны или обвязанными красными поясами. Это были высокие и сильные негры, вооруженные ружьями, топорами и саблями; многие несли луки, стрелы и длинные копья, которые они сами выковали себе, за неимением другого оружия. У них не было знамени, и они шли подавленные и молчаливые.
Глядя на этот отряд, Биасу наклонился к Риго и сказал ему на ухо по-французски:
– Когда же, наконец, картечь Бланшланда и де Рувре избавит меня от этих разбойников с Красной Горы? Я их ненавижу; почти все они из племени конго! К тому же они умеют убивать только в бою; они следуют примеру их болвана начальника, их идола – Бюг-Жаргаля, этого сумасшедшего юнца, который строит из себя великодушного героя. Вы его не знаете, Риго? И никогда не узнаете, надеюсь. Белые взяли его в плен и освободят меня от него, как уже освободили от Букмана.
– Кстати, о Букмане, – ответил Риго. – Вон идут беглые чернокожие Макайи, а в их рядах я вижу того негра, которого Жан-Франсуа прислал к вам с вестью о смерти Букмана. Знаете, ведь этот человек может разрушить все впечатление от пророчества оби о смерти их вождя, если он расскажет, что его на полчаса задержали перед лагерем и что он сообщил мне эту новость до того, как вы велели привести его к себе.
– Diabolo! – воскликнул Биасу. – Вы правы, дорогой мой; надо заткнуть рот этому человеку. Подождите!
И он крикнул во весь голос:
– Макайя!
Начальник беглых негров подошел и отдал честь своим мушкетоном с широким дулом, в знак уважения.
– Выведите из ваших рядов вон того черного, – сказал Биасу, – ему здесь не место!
Это был гонец от Жана-Франсуа. Макайя подвел его к главнокомандующему, и лицо Биасу тотчас же приняло гневное выражение, которое так хорошо ему удавалось.
– Кто ты такой? – спросил он у оробевшего негра.
– Господин генерал, я чернокожий.
– Caramba! Я и сам это вижу! Но как твое имя?
– Моя боевая кличка – Вавелан; а мой покровитель среди блаженных – святой Саба, дьякон и великомученик; его день празднуется за двадцать дней до рождества христова.
Биасу прервал его:
– Как же ты посмел явиться на парад и ходить среди воинов с блестящим оружием и в белых портупеях с этой саблей без ножен, в рваных штанах и весь в грязи?
– Господин генерал, я не виноват, – ответил негр, – генерал-адмирал Жан-Франсуа послал меня к вам с известием о смерти начальника английских черных отрядов; правда, моя одежда порвана, а ноги в грязи, но это потому, что я бежал сломя голову, чтоб скорей доставить вам это известие; а в лагере меня задержали и…
Биасу нахмурил брови.
– Речь не об этом, gavacho![99] А о том, что ты имел наглость явиться на смотр в таком растерзанном виде. Поручи душу своему покровителю, святому Сабе, дьякону и великомученику. Поди скажи, чтоб тебя расстреляли!
Тут я еще раз убедился, как велика была моральная власть Биасу над мятежниками. Несчастный, которому было велено передать приказ о собственной казни, не посмел возразить ни слова; он опустил голову, скрестил руки на груди, три раза поклонился своему безжалостному судье, затем преклонил колени перед оби, который с важностью дал ему краткое отпущение грехов, и вышел из пещеры. Спустя несколько минут раздался залп, возвестивший Биасу, что негр исполнил его приказание и умер.
Тогда, отделавшись от беспокойства, начальник повернулся к Риго с блестевшими от удовольствия глазами и с торжествующей усмешкой, как бы говоря: «Полюбуйтесь!»[100]
XXXVII
Тем временем смотр продолжался. Войско, поразившее меня несколько часов назад картиной необычайного беспорядка, теперь, построившись, имело не менее причудливый вид. Перед нами проходили то группы совершенно голых негров, вооруженных дубинками, томагавками, палицами, шедших под звуки рожков, как настоящие дикари; то батальоны мулатов, одетых в испанскую или английскую форму, хорошо вооруженных и дисциплинированных, шагавших в ногу под барабанную дробь; за ними следовали беспорядочные толпы негритянок и негритят с вилами и вертелами; старики негры, согнувшиеся под тяжестью старых ружей без курков и без стволов; гриотки в пестром тряпье; гриоты с отвратительными гримасами и телодвижениями, распевавшие бессвязные песни под аккомпанемент гитар, тамтамов и балафо. В этой странной процессии время от времени попадались сборные отряды замбо, марабу, сакатра, мамелюков, квартеронов, свободных мулатов, а также кочующие ватаги беглых негров, которые гордо шагали с блестящими карабинами в руках, волоча за собой тележки, нагруженные припасами, или отнятую у белых пушку, служившую им чаще трофеем, чем орудием, и распевали во все горло военные песни «Лагерь в Большой долине» и «Уа-Насэ». Над головами у них развевались знамена всех цветов со всевозможными девизами – белые, красные, трехцветные, с лилиями, с фригийским колпаком; на них пестрели надписи: «Смерть попам и аристократам!», «Да здравствует религия!», «Свобода и равенство!», «Да здравствует король!», «Долой метрополию!», «Viva Espana»,[101] «Долой тиранов!» и т. д. Это поразительное смешение доказывало, что силы мятежников были лишь скоплением людей, не имеющих цели, и что у этой армии в умах царит такой же беспорядок, как и в рядах.
Проходя мимо пещеры, отряды склоняли знамена, а Биасу отвечал на приветствия. Каждому из них он говорил что-нибудь: делал выговор или хвалил; каждое его слово, строгое или одобрительное, люди встречали с благоговением и каким-то суеверным страхом.
Этот поток варваров и дикарей, наконец, иссяк. Признаться, это скопище разбойников, сначала развлекавшее меня, в конце концов стало мне в тягость. Между тем день угасал, и когда последние ряды проходили мимо пещеры, медно-красные лучи солнца освещали только гранитные вершины восточных гор.
XXXVIII
Биасу казался задумчивым. По окончании смотра, когда он отдал последние приказания и все мятежники вернулись в свои шалаши, он обратился ко мне.
– Ну, молодой человек, – сказал он, – теперь ты получил полное представление о моем уме и могуществе. Настал твой час отправиться к Леогри и дать ему отчет обо всем.
– Не от меня зависело, чтоб он наступил раньше, – ответил я холодно.
– Это верно, – сказал Биасу. Он на минуту замолчал, как будто для того, чтобы лучше разглядеть, какое впечатление произведут на меня его слова, а затем добавил: – Но от тебя зависит, чтобы этот час совсем не наступил.
– Как! – вскричал я с удивлением. – Что ты хочешь сказать?
– Да, – продолжал Биасу, – твоя жизнь в твоих руках: ты можешь спасти ее, если захочешь.
Эта вспышка милосердия, первая и, вероятно, последняя в жизни Биасу, показалась мне чудом. Оби, удивленный не меньше меня, вскочил со своего места, где он столько времени просидел в созерцательной позе, как индийский факир. Он стал перед главнокомандующим и сказал, гневно возвысив голос:
– Que dice el exelentissimo senor mariscal de campo?[102] Разве он забыл то, что обещал мне? Ни он, ни сам bon Giu не могут теперь распоряжаться этой жизнью: она принадлежит мне!
В эту минуту в злобном голосе мерзкого человечка мне снова послышалось что-то знакомое; но это ощущение промелькнуло, ничего не осветив в моей памяти.
Биасу спокойно поднялся с места, тихонько поговорил с оби и показал ему на черное знамя, которое я заметил еще раньше; после чего колдун медленно опустил голову в знак согласия. Оба уселись на свои прежние места, в прежних позах.
– Послушай, – сказал мне Биасу, вынимая из кармана куртки другое письмо от Жана-Франсуа, спрятанное им туда раньше, – наши дела плохи; Букман только что погиб в бою. Белые истребили две тысячи повстанцев в районе Бухты. Колонисты продолжают укрепляться и усеивать долину новыми военными постами. Мы по собственной вине упустили возможность овладеть городом Кап, и теперь нам долго не представится подобный случай. На востоке главная дорога перерезана рекой; чтобы защитить переправу, белые поставили в этом месте батарею на понтонах, и на обоих берегах реки раскинули по небольшому лагерю. На юге есть проезжая дорога, пересекающая гористую местность под названием Верхний Мыс; они ее заняли войсками и артиллерией. Со стороны равнины их позиции защищены еще крепким палисадом, над которым работали все жители, и укреплены рогатками. Следовательно, Кап недоступен для нас. Наша засада в ущелье «Усмиритель Мулатов» сорвалась. Ко всем нашим неудачам прибавилась сиамская лихорадка, опустошающая лагерь Жана-Франсуа. Вследствие всего этого генерал-адмирал Франции[103] считает, и мы разделяем его мнение, что следует начать переговоры с губернатором Бланшландом и колониальным собранием. Вот письмо, которое мы хотим послать собранию по этому поводу. Слушай!
«Господа депутаты!
Великие несчастья обрушились на эту богатую и крупную колонию; они не миновали и нас, и нам больше нечего сказать в свое оправдание. Когда-нибудь вы поймете наше положение и воздадите нам полную справедливость. Мы должны попасть под всеобщую амнистию, провозглашенную королем Людовиком XVI для всех без различия.
В противном случае, так как король Испании – добрый король, который обращается с нами очень хорошо и оказывает нам всяческие награды, мы будем по-прежнему усердно и преданно служить ему.
В законе от 28 сентября 1791 года мы видим, что Национальное собрание и король дали вам право вынести окончательное решение о положении невольников и о политических правах цветных народов. Мы будем защищать декреты Национального собрания и ваши до последней капли крови, когда они будут оформлены как полагается. Было бы даже хорошо, если бы вы огласили в постановлении, утвержденном господином генералом, что вы намерены заняться судьбой рабов.
Невольники, узнав через своих вождей, которым вы пришлете это постановление, что вы заботитесь о них, были бы удовлетворены, и нарушенное равновесие восстановилось бы очень скоро.
Однако не рассчитывайте, господа депутаты, что мы согласимся взяться за оружие по воле революционных собраний. Мы подданные трех королей: короля Конго, прирожденного владыки всех черных, короля французского – нашего отца, и короля Испании – нашей матери. Эти три короля – потомки тех, кто, следуя за звездой, пришли поклониться богочеловеку. Если б мы служили революционным собраниям, нас могли бы вовлечь в войну против наших братьев, подданных этих трех королей, которым мы поклялись в верности.
К тому же мы не понимаем, что значит воля народа, потому что с тех пор, как стоит свет, мы выполняли только волю королей. Властитель Франции нас любит, король Испании всегда выручает нас. Мы помогаем им, а они помогают нам; на том стоит человечество. Впрочем, если бы вдруг у нас не стало этих величеств, мы тотчас нашли бы себе короля.
Таковы наши намерения, и на этих условиях мы согласны заключить мир.
Подписали: Жан-Франсуа, генерал; Биасу, генерал-майор; Депре, Манзо, Тусен[104], Обер – комиссары ad hoc[105]».[106]
– Ты видишь, – сказал мне Биасу, прочитав это произведение негритянской дипломатии, запомнившееся мне почти слово в слово, – ты видишь, что мы миролюбивы. Теперь слушай, чего я хочу от тебя. Ни Жан-Франсуа, ни я не занимались в школах для белых, где обучают красивому слогу. Мы умеем драться, но не умеем писать. Однако мы не хотим, чтобы в нашем письме к собранию остались какие-нибудь обороты, которые могли бы вызвать высокомерные насмешки наших бывших господ. Ты, должно быть, изучил эту вздорную науку, которой нам не хватает. Исправь в нашей бумаге ошибки, над которыми будут издеваться белые; такой ценой ты купишь себе жизнь.
В этой роли исправителя орфографических ошибок в дипломатической переписке Биасу было что-то, возмущавшее мою гордость, и я не колебался ни минуты. К тому же, зачем была мне жизнь? Я отверг его предложение.
Он был, видимо, удивлен.
– Как! – вскричал он. – Ты предпочитаешь умереть, чем провести несколько черточек пером по куску пергамента?
– Да, – ответил я.
Мой отказ, по-видимому, привел его в затруднение. Немного подумав, он сказал мне:
– Послушай-ка, юный безумец, я не так упрям, как ты. Даю тебе сроку до завтрашнего вечера; поразмысли и послушайся меня; завтра перед заходом солнца тебя снова приведут ко мне. Смотри, выполни тогда мое приказание. Прощай, утро вечера мудреней. Подумай хорошенько, ведь смерть у нас – не просто смерть.
Смысл его последних слов, сопровождавшихся ужасным смехом, был совершенно ясен: пытки, которые Биасу обычно придумывал для своих жертв, служили тому красноречивым объяснением.
– Канди, уведите пленника, – продолжал Биасу, – отдайте его под охрану воинам Красной Горы; я хочу, чтобы он прожил еще сутки, а у других моих солдат, наверно, не хватит терпения дожидаться, пока пройдет двадцать четыре часа.
Мулат Канди, начальник его охраны, приказал связать мне руки за спиной. Один из солдат взял конец веревки, и мы вышли из пещеры.
XXXIX
Когда необыкновенные события, волнения и катастрофы внезапно обрушиваются на вас среди счастливой и пленительно однообразной жизни, эти неожиданные потрясения, эти удары судьбы сразу пробуждают от сна душу, дремавшую в блаженном спокойствии. Однако налетевшее таким образом несчастье кажется нам не пробуждением, а лишь страшным сном. У человека, который был всегда счастлив, отчаяние начинается с изумления. Неожиданное бедствие похоже на взрыв бомбы; оно потрясает и вместе оглушает; а жуткий свет, который внезапно вспыхивает перед нашими глазами, не может заменить сияние дня. Люди, вещи, события принимают какой-то фантастический вид и проходят перед нами, как в сновидении. Все изменяется на небосклоне жизни – и атмосфера и перспектива; протечет немало времени, пока в наших глазах потухнет светлая картина нашего минувшего счастья, неотступно преследующая нас и постоянно встающая между нами и мрачным настоящим, меняя его краски и придавая какую-то обманчивость реальной жизни. И тогда самая действительность кажется нам невозможной и нелепой; мы верим с трудом в наше собственное существование, ибо, не видя вокруг себя ничего из того, что составляло прежде наше бытие, мы не понимаем, как все это могло исчезнуть, не захватив с собой и нас, и почему от всей нашей жизни сохранились только мы. Когда такое смятение души длится долго, оно омрачает рассудок и переходит в безумие – состояние, быть может, более счастливое, в котором жизнь для несчастного – лишь видение, а сам он – только тень.
XL
Не знаю, господа, зачем я высказал вам эти мысли. Их трудно понять и трудно передать. Это надо перечувствовать. Я испытал это. Таково было мое состояние, когда охрана Биасу сдала меня неграм Красной Горы. Мне казалось, что одни призраки передали меня другим призракам, и я без сопротивления дал привязать себя за пояс к стволу большого дерева.
Они принесли мне несколько вареных картофелин, и я съел их, в силу врожденного инстинкта, который бог, по доброте своей, сохраняет в человеке даже в минуты сильного душевного потрясения.
Между тем наступила ночь; мои сторожа разошлись по шалашам, и только шестеро из них остались около меня; они сидели или лежали, опершись на локоть, вокруг большого костра, который разожгли, чтобы защитить себя от ночной свежести. Через несколько минут все крепко заснули.
Я был разбит от усталости, и это физическое изнеможение способствовало тому, что мысли, как в бреду, мутились у меня в голове. Я вспоминал длинную вереницу безмятежных дней, которые так недавно проводил подле Мари, не предвидя в будущем ничего, кроме вечного счастья. Я сравнивал их с только что прошедшим днем, когда передо мной произошло столько невероятных событий, как будто для того, чтобы заставить меня усомниться в их реальности, – днем, когда я был трижды приговорен к смерти и не был помилован. Я думал о моем близком будущем, об этом одном оставшемся дне, который не сулил мне ничего, кроме горя и смерти, к счастью недалекой. Временами мне казалось, что я борюсь с каким-то ужасным кошмаром. Я спрашивал себя, возможно ли, что все это случилось на самом деле; что меня окружает лагерь кровожадного Биасу; что Мари навсегда потеряна для меня и что пленник, охраняемый шестью дикарями, связанный и обреченный на верную смерть, – этот пленник, который стоит здесь, освещенный слабым пламенем костра разбойников, – и вправду я. И несмотря на все мои усилия, я не мог оторваться от неотступной, самой мучительной мысли, от мысли о Мари. Я стремился к ней всей душой и с мукой спрашивал себя, какая судьба постигла ее; я натягивал свои путы, как будто готовясь лететь ей на помощь, и все еще надеялся, что этот страшный сон рассеется и что бог не допустит, чтобы все ужасы, о которых я боялся даже подумать, стали уделом ангела, данного им мне в супруги. Цепь этих горестных мыслей привела меня к Пьеро, и я обезумел от ярости; жилы у меня на лбу вздулись, я чувствовал, что они готовы лопнуть; я проклинал, я ненавидел, я презирал себя за то, что хоть на минуту соединил свою любовь к Мари с дружбой к Пьеро; и, не стараясь объяснить себе, какая причина могла заставить его броситься в воды Большой реки, я плакал о том, что не убил его. Теперь он умер; я тоже скоро умру; я не жалел ни его жизни, ни моей, я жалел лишь о неудавшейся мести.
От слабости я впал в какое-то полудремотное состояние, а все эти душевные волнения продолжали терзать меня. Не знаю, сколько времени это длилось, но внезапно меня разбудил мужской голос, певший вдалеке, но очень ясно: «Yo que soy contrabandista». Я вздрогнул и открыл глаза; кругом было темно, негры спали, костер догорал. Голос смолк; я решил, что он почудился мне во сне, и снова опустил свои отяжелевшие веки. Но тут же быстро открыл глаза; голос раздался опять, гораздо ближе, и с грустью пропел куплет испанского романса:
En los campos de Ocana
Prisionero cai,
Me llevan a Cotadilla;
Desdichado fui![107]
Теперь это был не сон. Это был голос Пьеро! Через минуту я услышал его рядом со мной, и над моим ухом прозвучал в безмолвии ночи знакомый мотив: «Yo que soy contrabandista». Ко мне подбежала собака и стала радостно тереться у моих ног: это был Раск. Я поднял глаза. Передо мной стоял негр, и свет от костра отбрасывал рядом с собакой его огромную тень: это был Пьеро. Жажда мести помутила мой разум; я замер и онемел от изумления. Я не спал. Значит, мертвые возвращаются! То был уже не сон – то было видение. Я с ужасом отвернулся. Увидев это, он опустил голову на грудь.
– Брат, – сказал он тихо, – ты обещал никогда не сомневаться во мне, если услышишь, что я пою эту песню; скажи, брат, разве ты забыл свое обещание?
Гнев вернул мне дар речи.
– Негодяй! – вскричал я. – Наконец-то я нашел тебя! Палач, убийца моего дяди, похититель Мари, как смеешь ты называть меня братом? Стой, не подходи ко мне!
Я забыл, что я крепко связан и не могу сделать почти ни одного движения. Невольно я опустил глаза на то место у пояса, где прежде висела моя шпага, словно хотел схватить ее. Это желание поразило его. Он был взволнован, но лицо его оставалось кротким.
– Нет, – сказал он, – нет, я не подойду к тебе. Ты несчастлив, я жалею тебя; а ты не жалеешь меня, хоть я еще несчастнее тебя.
Я пожал плечами. Он понял мой молчаливый упрек. Задумчиво посмотрев на меня, он сказал:
– Да, ты много потерял; но, поверь мне, я потерял больше тебя.
Между тем звук наших голосов разбудил стороживших меня негров. Заметив чужого, они быстро вскочили и схватились за оружие; но как только они разглядели Пьеро, они вскрикнули от радости и изумления и пали ниц перед ним, стукнув о землю лбом.
Но ни знаки уважения, которые оказывали Пьеро эти негры, ни Раск, подбегавший приласкаться то ко мне, то к своему хозяину и с беспокойством глядевший на меня, как бы удивляясь моему холодному приему, – ничто не трогало меня в эту минуту. Я был весь во власти своей злобы, бессильной из-за стягивавших меня узлов.
– О, как я несчастлив! – вскричал я, наконец, плача от бешенства в своих путах. – Я жалел, что этот негодяй сам воздал себе по заслугам; я думал, что он умер, и горевал о том, что не могу отомстить. И вот теперь он пришел издеваться надо мной; он стоит здесь живой, около меня, а я не могу доставить себе радость убить его! О! кто освободит меня от этих ненавистных веревок!
Пьеро повернулся к неграм, все еще склоненным перед ним.
– Товарищи, – сказал он, – развяжите пленника!