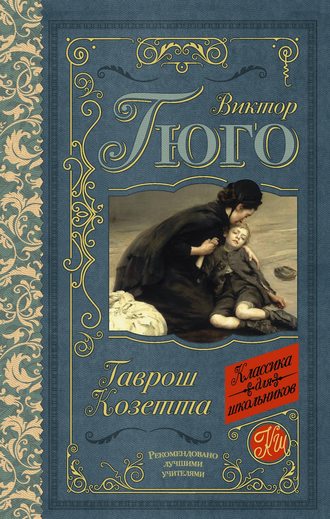
Виктор Мари Гюго
Гаврош. Козетта (сборник)
© Перевод Д.Г. Лившиц, насл., 2017
© Перевод Н.А. Коган, насл., 2017
© Перевод Н.Д. Эфрос, насл., 2017
© Перевод К.Г. Локса, насл., 2017
© Перевод М.В. Вахтеровой, насл., 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Козетта
Часть I
Фантина[1]
Книга четвёртая
Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы
Глава 1,
в которой одна мать встречает другую мать
В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопёков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалёвано что-то похожее на человека, который нёс на спине другого человека, причём на последнем красовались широкие золочёные генеральские эполеты с большими серебряными звёздами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Ватерлооский сержант».
Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.
Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и брёвен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжёлое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Всё вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колёса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо – под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная пленённого Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир – Калибана.
Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того чтобы загородить ее, а во-вторых – чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.
Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на верёвочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»
Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щёчки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – тёмные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окроплёнными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной верёвки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.
Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:
– Так надо, – рыцарь говорил…
Поглощённая пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.
Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошёл к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:
– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.
– Прекрасной, нежной Иможине, —
ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.
Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребёнок; она держала его на руках.
Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжёлый дорожный мешок.
Её ребёнок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у неё был чудесно розовый и здоровый. Щёчки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.
Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным её возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.
Что касается матери, то она казалась печальной. Её убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у неё были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза её, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у неё был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у неё на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребёнка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Её загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.
Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она всё ещё была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на её правой щеке. Что касается её наряда, её воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, – наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звёздочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается чёрная ветка.
Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».
Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.
Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для неё уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец её ребёнка уехал – увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, причём привычка её к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к её скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для неё закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне её научили только подписывать своё имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по её поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на её ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьёз таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своём ребёнке и не принимал всерьёз это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдётся кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у неё возникло неясное предчувствие новой разлуки, ещё более тяжкой, чем первая. Сердце её сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь – единственный оставшийся у неё повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала всё, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у неё осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках своё дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребёнка, а у этого ребёнка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.
Нам не придётся больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.
К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трёх до четырёх су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопёков.
Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили её, и она остановилась перед этим радостным видением.
Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.
Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что, когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:
– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.
Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детёнышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.
– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.
И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:
– Так надо, – рыцарь повторил, —
Я уезжаю в Палестину.
Мамаша Тенардье была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь – на лице её лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишёнными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была ещё молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то её высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы её доверие, и тогда не случилось бы того, о чём нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.
Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив её.
Она работница; муж её умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идёт искать её в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребёнка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало – она ведь ещё такая крошка. Пришлось снова взять её на руки, и её сокровище уснуло.
Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила её. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть… На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то что мать удерживала её, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.
Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:
– Поиграйте втроем.
В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.
Эта гостья оказалась очень весёлой; весёлость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив её в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится весёлым, когда за него берется ребёнок.
Женщины продолжали беседу.
– Как зовут вашу крошку?
– Козетта…
Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.
– Сколько ей?
– Скоро три.
– Как моей старшей.
Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк – сколько страха и сколько счастья!
Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.
– Как быстро сходится эта детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!
Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардье за руку, впилась в неё взглядом и сказала:
– Согласны вы оставить у себя моего ребёнка?
Тенардье сделала изумлённое движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.
Мать Козетты продолжала:
– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребёнком не найдёшь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?
– Надо будет подумать, – ответила Тенардье.
– Я стала бы платить по шесть франков в месяц.
Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:
– Не меньше семи франков. И за полгода вперёд.
– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.
– Я заплачу, – согласилась мать.
– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.
– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчёт всё той же песенкой:
– Так надо, – рыцарь говорил…
– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Мне ещё хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.
– Есть у девочки одёжа? – раздался снова мужской голос.
– Это мой муж, – сказала Тенардье.
– Разумеется, есть, у неё целое приданое, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И ещё какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шёлковые платьица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.
– Вам придётся отдать всё это, – снова сказал мужской голос.
– А как же иначе! – удивилась мать. – Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!
Хозяин просунул голову в дверь.
– Ладно, – сказал он.
Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребёнка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаяния.
Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:
– Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.
Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:
– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.
– А ведь я и думать об этом не думала, – ответила жена.
Глава 2
Беглая характеристика двух тёмных личностей
Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.
Что представляли собой эти Тенардье?
Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.
Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.
Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь зловещее пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа – прирождённая подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперёд, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, всё больше развращаясь и всё больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.
Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете тёмные провалы в их прошлом и тёмные тайны в их будущем.
Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом – сержантом, как он говорил, – по-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В своё время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал её сам, так как с грехом пополам умел делать всё, – и намалевал скверно.
То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но всё более опошляясь и переходя от м-ль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартелеми-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял своё разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были её пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости, за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сантиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда её романтически спускающиеся локоны начали седеть, когда в Памеле проглянула мегера, Тенардье превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему её старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в её судьбе, произведённому появлением романа Дюкре-Дюминиля, она отделалась именем Азельма.
Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идёт речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если ещё существуют виконты – зовут Тома€, Пьером или Жаком. Это перемещение имён, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.







