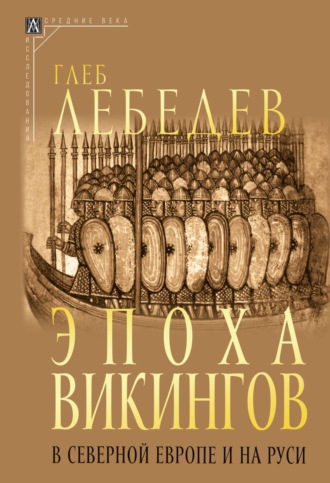
Глеб Сергеевич Лебедев
Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
Плотное заселение в конце предримского времени прослеживается в Южной Скандинавии до Ослофьорда, однако сравнительно ослаблена заселенность Сконе и других областей, аккультурованных в эпоху поздней бронзы, как и Зеландия (по сравнению с Ютландией). Локальные колебания могут быть связаны как с внутрискандинавскими перемещениями, так и с миграциями населения на континент, за пределы Скандинавского полуострова.
Миграции на южный берег Балтики – важный компонент общей картины развития Скандинавии в эпоху поздней бронзы – раннего железа. Наиболее ярко процессы, дополняющие представления о месте северных германцев поры германского этногенеза в мире «Барбарикума» Европы, раскрываются в судьбах культур, формировавшихся в это время в Восточном Поморье Польском, между Одером и Вислой, в Нижнем Повисленье и далее на восток и юго-восток.
Побережье Балтики между Одером и Вислой – контактная зона ясторфской и лужицкой культур; в конце бронзового века здесь формируется поморско-кашубская ветвь лужицкой культуры, и на ее основе – восточнопоморская культура, с каменными курганами, под насыпями – каменные ящики, погребальные урны иногда накрывают большие перевернутые горшки «клоши» («колпаки», «колокола»). Обособление этой культурной группы происходит в VII в. до н. э., в следующем столетии начинается ее экспансия за пределы исходного ареала в Восточном Поморье, между Кашубской возвышенностью и низовьями Вислы. При этом прослеживается динамичное накопление южноскандинавских и эльбогерманских элементов (домковые урны, лицевые урны, подобные кимврским в Дании), маркирующей чертой обряда становятся не столь распространенные в соседних культурах каменные курганы и ящики.
В VII–VI вв. до н. э. особенности поморской культуры становятся столь яркими и концентрированными, что можно определить ее в это время как особую культуру лицевых урн (Gesichtsurnenkultur) Восточного Поморья и Нижней Вислы. Определяющие ее черты – каменные ящики с коллективными захоронениями (до двух-трех десятков погребальных урн) и прежде всего собственно лицевые урны, чернолощеные сосуды с высоким кеглевидным горлом, скульптурно проработанными (до портретности) изображениями лица и другими признаками безусловной «антропоморфности» (La Baume, 1964). Кеглевидное горло антропоморфных округлых урн накрыто глиняными коническими крышками (часто – в форме остроконечных шляп, иногда – маленьких шлемов, с тщательно переданными деталями, через 2500 лет скопированными в парадном вооружении офицеров кайзеровской Германии Гогенцоллернов). Декор лицевых урн составляет не только «портретное» изображение на горле сосуда (когда переданы черты лица, нередко – усы, борода, прическа, различная для мужских и женских урн). Не менее тщательно на тулове сосуда изображали детали одежды и убранства – плащи, воротничковые и спиральные гривны, серьги, пояса, фибулы, а также оружие – щиты, копья, мечи. Храповатая керамика, известная и ранее в восточнопоморской группе лужицкой культуры и собственно Восточнопоморской культуре, дополняет ясторфский и лужицкий компонент, формируя своеобразный и устойчивый керамический комплекс.
«Горшок – кувшин – миска», основные компоненты этого комплекса, становятся с этой поры устойчивой характеристикой среднеевропейских культур к западу от Немана; далее на восток, в лесной зоне Восточной Европы преобладают горшечные культуры раннего железного века с более простым керамическим набором, небольшими укрепленными городищами балтского или славяно-балтского круга (Щукин, 1994: 20–21). Под поморско-лужицким воздействием формируется культура балтийских курганов между Вислой и Неманом, с погребальными насыпями, основанными на каменной конструкции: каменные венцы, ящики, керамика и металл – те же, что в поморской культуре, но без лицевых урн. Такие памятники, как Мишейкяй (у Клайпеды), Башки (Лиепая, Латвия), Дарзниеки, маркируют экспансию балтийской курганной культуры на восток, в зону штрихованной керамики и других городищенских культур лесной зоны Восточной Европы, и по мере ее распространения и распада на племенные культуры балтов в VI–IV вв. до н. э. проходит, видимо, ключевой этап этногенеза собственно балтских, летто-литовских народов (Ушинскас, 1988).
Поморская культура лицевых урн обрисовывает сходный, но иной процесс. Коллективные захоронения в больших каменных ящиках (до нескольких десятков классических лицевых урн) указывают на весьма высокую степень консолидации и организации, первоначально, видимо, неоднородного по происхождению населения.
«Идея», консолидирующая это население, неясным для нас, но определенным образом выражена в антропоморфности лицевых урн. Обычай этот в Европе представлен изолированными, отдаленными друг от друга, но несомненно связанными между собой (хотя бы самим распространением и тождеством принципа выражения) культурными очагами. Исходный – в Этрурии, где в Италии эта идея, ритуал и тип лицевых урн могли появиться вместе с другими миграционными компонентами этрусской культуры, малоазийскими по происхождению (и древнейшие образцы лицевых урн известны в Трое бронзового века). В Италии этрусские лицевые урны, в конечном счете, дали начало изображениям предков в римской культуре, то есть в итоге – скульптурному жанру римского портрета.
Домковые и лицевые урны известны в VII–VI вв. до н. э. в так называемой Hausurnenkultur (культуре домковых урн) междуречья Эльбы – Заале в Восточной Германии (Peshel, 1972: Е 1, Е 2); оттуда этот культурный импульс мог в равной мере распространиться и на север, в ясторфско-ютландский ареал урн кимврского типа, и в Восточное Поморье, также связанное с этим же северным ареалом. Нельзя не заметить, что распространение идеи лицевых урн в VII–VI вв. до н. э. (не столь уж отдаленное от времени основания Рима – 753 г. до н. э.) словно прокладывает с юга на север, за полтысячелетия разведывая для следующих поколений, маршруты странствований тевтонов и кимвров. Первопроходцы этих путей в Северную и Среднюю Европу дали неясные, но действенные импульсы консолидации населения формирующегося Барбарикума.
Не столько вещевой инвентарь, сколько иконография лицевых урн, с четким разделением на мужские и женские, обязательным «вооружением» первых и устойчивым «этнографическим убором» вторых (изображаются шейные гривны, особенно тщательно – воротничковые, Halskragen, тутулы и булавки, фибулы, серьги в «натуральном» виде часто гроздьями продеты в отверстия ручек-«ушек» урны), свидетельствует об обособлении и росте большой массы организованного и вооруженного населения. Сосредоточенный в Поморье, этот «вооруженный народ», «люд» – очередной ljod, tjod отдаленной периферии будущей Germania Libera (между Кельтикой и Сарматией античных географов) – вскоре переходит в Средней Европе, между Одером, Вислой и Неманом, к энергичной и широкой экспансии, поглощая ближайшие группы, прежде всего лужицкой культуры, и распространяясь по всему восточному ареалу позднелужицких групп до Силезии на юге и Белоруссии на востоке.
По мере этой экспансии происходит, однако, весьма показательная эволюция, проявляющаяся в погребальном обряде и типологии лицевых урн. Основной, максимальный ареал поморской культуры характеризуется в V в. до н. э. на территории Великопольши, Куявии, Мазовии, до Полесья, сокращением коллективных захоронений и переходом к индивидуальным погребениям в небольших каменных ящиках, грунтовыми могильниками (иногда продолжающими прежние, лужицкие). Лицевые урны сохраняют упрощенное изображение черт лица (нос, глаза) и прежнюю антропоморфность, но пропорции сосудов изменяются, округлые тулова с коротким горлом отличаются от классических поморских Gesichtsurnen. В керамическом комплексе обязательны округлобокие сосуды с прямой, низкой и широкой шейкой, налепным валиком, хроповатой нижней частью. Распространяются яйцевидные хроповатые горшки, двуручные сосуды (ясторфские по облику). Инвентарь прежний: туалетные наборы, ножи, иглы, пряслица, шилья, изредка копья и украшения кельто-германских форм: прежде всего фибулы (в мужском уборе по две, в женском – одна), пояса с металлическими застежками (Кухаренко, 1969; La Baume, 1964).
Поморскую культуру на этой фазе максимального распространения в южной и основной части ее ареала дополняет сосуществующая с нею, и во многом производная от нее, культура подклошевых погребений IV–III вв. до н. э. Главные ее отличия – массивные клоши (перевернутые горшки, накрывающие урну), каменные кладки и ящики, оскудение форм керамического набора, отсутствие металла.
Фазы экспансии и эволюции – от культуры лицевых урн к поморской культуре и культуре подклошевых погребений, при устойчивых исходных импульсах ясторфского (нижнеэльбского и ютландско-сконского) и скандинавского происхождения в давний и устойчивый ареал древней лужицкой культуры (развивавшейся в Польше – Германии в течение предшествующей тысячи лет), – обрисовывают картину «незавершенного этногенеза». Нордический компонент мигрантов, консолидированный в Поморье, поглощает основную часть лужицкого ареала, вместе с его населением, и постепенно как бы размывается устойчивым лужицким субстратом, теряя собственные исходные и обретая исконные лужицкие черты (наряду с распространяющимися ясторфскими и общеевропейскими кельтскими, раннелатенскими). Упрощенная структура культуры подклошевых погребений подготавливает неясный следующий этап эволюции, однако он остается в значительной мере нереализованным.
Если культура лицевых урн представляла собою «ядро» складывающегося народа, то можно допустить, что первоначальный германский его компонент в «этническом состязании» был размыт местной этнокультурной основой; возможно, с этого времени этноним венеты/венеды, ассоциирующийся с лужицкой культурой прежде всего, наследуется ее преемниками и одновременно получает более широкое распространение и значение: топонимия vend- (Vendsissel, Vendel) выявляется от Ютландии до Уппланда, в основном ареале – наследована вандалами (лутиями) первых веков, но с носителями культур поморского круга распространяется и далее на восток, где «между германцами, сарматами и феннами» помещает своих венедов I в. Корнелий Тацит (Тацит, 1969: 372–373).
Именно туда, на восток направлена экспансия части поморского и ясторфского населения (губинской группы ясторфской культуры), формирующая новую, самую восточную из латенизированных культур железного века, зарубинецкую культуру полей погребений, которая сыграла значительную роль в славянском этногенезе (Щукин, 1994: 107–136, 227–243; Еременко, 1997: 87–165). Наиболее корректна идентификация этой культуры с бастарнами (певкинами Тацита). Распространение зарубинецкой культуры в обширном ареале, несколькими группами – от Полесья до Подесенья и Молдавии (группа Поянешты-Лукашевка), ее взаимодействия с германскими и сарматскими группами привели к глубоким изменениям в мире протославяно-балтских культур лесной зоны Восточной Европы. В постзарубинецкое время (III–IV вв.) можно проследить форсированное развитие и экспансию по крайней мере южной части населения этих культур, в результате формирующих, видимо, исходную для последующих раннеславянских культуру киевского типа, синхронную черняховской культуре полей погребений, но, в отличие от нее, переходящую в достоверно славянские культуры – пражско-корчакскую, пеньковскую и колочинскую, причем две последние осложнены воздействием степных тюркских (болгарских) и иранских (аланских) народов и культур, а пражско-корчакская позволяет отчетливее других проследить, после эпохи Великого переселения народов V–VI вв., последовательное распространение славянского этноса и культуры по всему основному его европейскому ареалу от Адриатики до Балтики (Шевченко, 2002: 120–152, ср.: Лебедев, 1989: 105–115).
Восточное Поморье и Нижнее Повисленье, исходные для поморской культуры лицевых урн VII–VI вв. до н. э., четыре-пять столетий спустя вновь становятся «плацдармом» для новых групп северных мигрантов и очагом формирования культур, маркирующих широкую волну германских миграций от Балтики до Черного моря. Оксывская культура предримского времени в Нижнем Повисленье, с многочисленными грунтовыми могильниками, каменными кругами и стелами (bautastenar), господством обряда сожжения, германской керамикой, связана прежде всего с Южной Скандинавией. Вполне правомерно отождествить ее с готонами Тацита, прямыми предшественниками или первой волной готов. Основой ареал поморской культуры занимает сложившаяся на основе и синхронно с оксывской пшеворская культура, в позднем предримском времени распространяющаяся по всей территории Польши, а затем и далее на восток и на запад, от Эльбы до Полесья. Типичная для германских культур римского времени, пшеворская в I в. до н. э. – V в.н. э. широко представлена грунтовыми могильниками, ямными (безурновыми) сожжениями с оружием, устойчивым набором украшений (женских, включающих три фибулы, две парные наплечные и третью нагрудную; в мужском уборе одна фибула – застежка плаща). Гончарный набор «культуры мисок» составляет разнообразная латеноидная керамика, выработанная под кельтским воздействием и вписывающаяся в обширный керамический ассортимент германских культур позднего предримского времени. При возможной этнической неоднородности в разных частях пшеворского ареала, в целом культура характеризует прежде всего германский союз племен, известных как лугии (вандалы) и бургунды. Новый этнополитический организм в Средней Европе зарождается начиная с появления в период между 230-ми и 160-ми гг. до н. э. «небольших групп выходцев с севера Дании и с о. Борнхольм» (Щукин, 1994: 106).
Горизонт Гроссромштедт среднеевропейских древностей (Hachmann, 1971) охватывает интервал с середины I в. до н. э. и до середины I в., в рамках которого европейская археология прослеживает переход от последних ступеней латенского периода (Латен D3) к начальной ступени раннеримского времени (Al, А2). Столетний период перестройки культурной композиции во всем пространстве между Балтикой и Причерноморьем (Еременко, 1997: 188–189) следует рассматривать как переход от кельтского доминирования к германскому, окрашенному усиливающимся воздействием на Барбарикум римской культуры. Процесс, начинающийся со странствований по Средней Европе, Галлии и Италии тевтонов и кимвров и их разгрома, завершился становлением «Янтарного пути» римлян в Прибалтику; на сто лет, с 14 по 114 г., XV легион Империи был расквартирован в Карнунтуме на Дунае (предшественнике Вены), обеспечивая безопасность узлового центра трассы, дальнейшей протяженностью 888 км (600 тыс. шагов), до обильных янтарных пляжей Вислинского и Куршского заливов, эпицентра Янтарного берега, протянувшегося от Ютландии до Эстонии (Щукин, 1994: 166, 224–225, 252). В это время в германских культурах к востоку от Рейна и северу от Дуная повсеместно распространяется обычай погребений с оружием (уложенным на погребальный костер, в любом случае найденным при остатках кремации), чернолощеная керамика с меандровым узором, фибулы римских типов (начиная с простейших проволочных воинских фибул римских легионеров). Инновации сочетаются с сохранением и переработкой латенских традиций. Сохраняется и общее движение германских племен из Ютландии и Южной Скандинавии в Нижнее Повисленье и далее на юго-восток. Римско-эллинистический мир с этих пор ощущает непрерывное действие Скандзы, «утробы народов», vagina nationes.
Балто-причерноморская трасса отсекает южную часть этнокультурного массива лесной зоны, подготавливая кристаллизацию славянства, одновременно и во взаимосвязи с движением готов из Скандинавии. Гото-гепидская, Вельбаркско-цецельская, восточнопоморско-мазовецкая культура, под любым из наименований, обозначает один процесс: накопление новых южноскандинавских элементов в Нижнем Повисленье и движение их на юго-восток, завершающееся становлением Волынской группы полей погребений II–III вв. – исходной для черняховской культуры III–IV в. – археологического эквивалента Готской державы Северного Причерноморья (Артамонов, 1962: 46–47; Кухаренко, 1980: 64–76; Щукин, 1994: 244–277).
Странствия кимвров и тевтонов, равно как их более ранних предшественников, таинственного «народа лицевых урн», и преемников – готонов, готов, гепидов, герулов (эрулов) первых веков нашей эры, развернули на суше сеть коммуникационных трасс, основой которой стал древний «диагональный» «Янтарный путь», с юго-запада на северо-восток, из Паннонии к Самбии (Восточная Пруссия), соединивший римские провинции, а значит, и столицу Империи, с Балтийским морем, Свебским морем, как именовал его Тацит по крупнейшему в Свободной Германии племенному союзу свебов (швабов). Союзы свебов, маркоманов, вандалов, готов соперничали за господство на этом пути. Рим искусно манипулировал интересами пограничных «варваров», усмиряя ближних – крепостями, выросшими на месте лагерей легионов Лимеса (пограничного укрепленного рубежа Империи), и посылая дипломатические дары, миссии и товары к «дальним», во‑первых, ближе расположенным к источникам янтаря (поступавшего в Рим тоннами; со времен Нерона экзотический «солнечный камень» стал изысканным, дорогим и массовым материалом декора, например, публичных гладиаторских игр в римских цирках, когда даже сети, отделявшие арену от публики, в каждом узелке украшали куском янтаря); во‑вторых, эти «дальние варвары» всегда могли ударить в спину соплеменникам, угрожавшим безопасности римских границ. Сухопутные трассы Барбарика соединялись с морскими, для него прежде всего внутренними, достаточно древними и привычными, как средство локальных связей циркумбалтийских племен. Мореплаватели бронзового века заложили архаическую традицию трансбалтийских коммуникаций и судоходства, и, безусловно, традиция эта развивалась и в эпоху железа (середина I тыс. до н. э. – рубеж н. э.), когда первые сведения о таинственных северных землях, прекрасном острове Ultima Thule (Фула крайняя), достигли Древней Греции, а затем Рима.
Симметричные сдвоенные штевни на носу и корме ладьи из Хьортшпринга сближают ее, с одной стороны, с изображениями южноскандинавских петроглифов, с другой – с описанием скандинавских кораблей в «Германии» Тацита: «Их суда примечательны тем, что могут подходить к месту причала любою из своих оконечностей, так как и та и другая имеют у них форму носа. Парусами свионы не пользуются и весел вдоль бортов не закрепляют в ряд одно за другим; они у них, как принято на некоторых реках, съемные, и они гребут ими по мере надобности то в ту, то в другую сторону». При этом именно свионы, которыми «безо всяких ограничений повелевает царь», «помимо воинов и оружия… сильны также флотом» (Тацит, 1969: Т. 1, 371).
Свионы (свеи, предки шведов) – единственное из племен Скандинавии, известное Тациту на западном берегу Балтийского моря. В юго-западной части Балтики, на территории Ютландского полуострова и датских островов он отмечает англиев (англов) и другие мелкие племена. С юга к ним примыкал племенной массив свебов, хорошо известных римлянам: Балтику, лежащую за Свебией, Тацит потому и называет mare Svebicum (Тацит, 1969: 371–372), хотя свебы не выходили к берегу этого моря, где обитали «готоны, которыми правят цари… ругии и лемовии, отличительная особенность всех этих племен – круглые щиты, короткие мечи и покорность царям» (Тацит, 1969: 371). Первые две особенности соответствуют археологическим материалам; древняя «военная королевская власть» у готов документирована позднеантичной, в основе – эпической готской, традицией (Селицкий, 2002: 55).
Юго-восточное, «правое побережье Свебского моря», по Тациту, занимали эстии (предки пруссов и других балтских племен): «они обшаривают в море и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезом» (германское слово, ср. нем. Glas, как и название эстии – «восточные», указывает, что сведения о населении Янтарного берега римляне получили от германцев; Тацит при этом говорит, что язык эстиев отличен от германских и «ближе к британскому», т. е. языку кельтских племен, непосредственно знакомых римскому историку).
За Свебией Тацит помещал племена венедов, в которых обычно видят предков славян. С юго-запада соседями венедов были певкины (бастарны), с юго-востока – воинственные кочевники сарматы, родственные древним скифам иранские племена, с III в. до н. э. господствовавшие в Причерноморье. С севера за венедами жили племена феннов. В этнографически точном описании культуры лесных охотников у Тацита (Тацит, 1969: Т. 1, 372–373) угадываются характеристики саамов-лопарей (германские соседи именно их первоначально именовали финнами, а с саамов этот этноним был перенесен на более южные племена, финнов-суоми, емь, карел и другие финно-угорские народы).
«Германия» Тацита, таким образом, дает первое и довольно точное и подробное описание основных народов и племен, сформировавших целостную систему историко-культурных зон вокруг Балтики на рубеже нашей эры, в эпоху архаического мореплавания. Не позднее 60–80 гг. эти земли соединил с Римской империей «Янтарный путь». Римские товары в I–IV вв. достигали по нему Балтийского моря и распространялись от Дании до Финляндии. Римские изделия (металлическая и стеклянная посуда, украшения), монеты широко представлены в погребениях и кладах римской эпохи (I—І V вв.) на Балтике.
Дания в конце предримского времени, так же как в течение раннего и позднего римского времени, по культуре принадлежит северогерманско-польскому пространству. Погребальный обряд и керамика представляют собою локальные вариации прежних традиций. Общегерманские формы оружия, орудий, украшений господствуют при постоянно растущем римском влиянии. Наиболее ярко оно проявляется в импорте римской посуды (серебро, бронза, стекло), поступавшей в обиход вождей не столько как товары, сколько – как «дипломатические дары»: как проследил польский археолог Р. Волянгевич, территория и время поступления «волн импорта» довольно жестко связаны с этапами римской политики в Барбарикуме. Наиболее ранние импорты «чешской» (10–40 гг.) и «словацкой» (40–70 гг.) волн связаны с «государством Маробода» и стремлением Рима при Августе и Юлиях Клавдиях закрепиться на «Янтарном пути»; в 70–170 гг. «словацкой волне» равноценна «датская», что объясняется сформировавшейся римской организацией «германского предполья» (Wolangievicz, 1970). Наиболее ранние датские серебряные кубки римского происхождения найдены в Хобю, характеризующем памятники «гроссромштедского горизонта» (Becker, 1966: 267).
Локальные варианты погребального обряда в Южной Ютландии – частично урновые могилы, часто в грунтовых («плоских») могильниках, частью же узкие деревянные цисты с трупоположениями. Похожая ситуация на островах Фюнен и Зеландия, однако здесь выделяются княжеские могилы с богатым инвентарем. На о. Борнхольм – сравнительно немного трупоположений, продолжают использоваться большие могильники с ямными сожжениями (такие как Store Kannikegard). В Восточной и Средней Ютландии прослеживается переход от сожжений к ингумациям в широких брусчатых гробах, в грунтовых могильниках на естественных возвышениях. Для Северной Ютландии характерны в этой время трупоположения в тяжелых каменных цистах, многократно использованных.
В Дании изучено большое число поселений римского времени, особенно в Ютландии. Деревни, пути, поля позволяют восстановить полную картину расселения и проследить определенную динамику. Плотное заселение в конце предримского времени охватывает Южную Скандинавию до Ослофьорда, однако при этом значительно ослаблена заселенность Сконе и других областей, обжитых в эпоху поздней бронзы, или Зеландии (по сравнению с Ютландией). Эти различия могут быть связаны с миграциями части населения на южное побережье Балтики. В среде оставшихся происходит стирание локальных различий, в течение римского времени в Дании повсеместно распространяются трупоположения в маленьких деревянных гробах, за исключением Фюнена (урновые сожжения) и Борнхольма (ямные сожжения сменяются трупоположениями в каменных цистах).
Жертвенные находки оружия в болотах, при смене погребального обряда, свидетельствующей об определенных изменениях языческой идеологии, однако, противоречат такому представлению непрерывностью и развитием прежней языческой традиции скандинавских германцев. Одно из самых известных святилищ римского времени в Дании, Вимозе («святое болото», Vimose), исследовано в 1867 г. близ Оденсе («Озеро Одина») на Фюнене, это – жертвенное место с оружием II–III вв. (найдены мечи и кольчуга, самая ранняя из известных в Скандинавии). В Торсбьерге (Thorsbjerg) в Шлезвиге (также с выразительным скандинавским топонимом – Гора Тора), в болоте у подножья кургана в древности также было «жертвенное место», исследованное в 1856 г., когда при торфяных работах были обнаружены деревянная мостовая и слой с находками мощностью до 1,8 м. Древнейшие приношения относятся к эпохе камня и бронзы, есть керамика среднелатенского времени (400 г. до н. э.), наибольшее число находок относится к периоду 100 г. до н. э. – 400 г.н. э., полностью охватывая римское время. Особо ценные вещи – оружие (дротики, копья, мечи), шлем всадника, шлем-маска из позолоченного серебра (германское подражание римскому образцу), римские монеты, обкладка ножен меча с рунами, фрагменты кольчуги. Среди находок рубежа раннеримского и позднеримского времени (ок. 200 г.) много золотых украшений, «датская волна римского импорта», по Волянгевичу (Wolangievicz, 1970: 170–210). В Торсбьерге также сохранилась одежда: мужские штаны и куртка, плащ, деревянные предметы (все вещи еще до погружения были сильно повреждены).
Нюдам (Nydam) в Юго-Западной Ютландии – одна из самых знаменитых находок следующего по возрасту после Хьортшпринга скандинавского боевого морского корабля. В заболоченной луговой местности, известной находками оружия, в 1863 г. были проведены раскопки, и в результате раскрыта дубовая ладья (рядом была утраченная в дальнейшем лодка из сосны). Нюдамская ладья – клинкерной конструкции, длиной 22,84 м, шириной 3,26 м, вместимостью 45 человек, по бортам места для 18 гребцов. Этот корабль, безусловно пригодный для перемещений солидного боевого отряда, сопровождали находки свыше 100 мечей (многие среди них – с высококачественными «дамасцированными» клинками или со штемпелями мастерских), 550 копий, деревянные палицы, луки, стрелы, железные наконечники стрел, уздечки, ременные пряжки, гребни, подвески, деревянные и глиняные сосуды, рыбачья сеть, 34 римские монеты; кости животных, особенно много останков лошади. Основные находки сосредоточены в 80 м от ладьи, которая датируется 300–350 гг. Победная жертва, оставленная в эпоху готских завоеваний и после прекращения «финальной волны римского импорта» (ок. 210 г.), дополнена позднее небольшим кладом серебряных вещей V в. (найден в 1888 г.). Такого же рода жертвенные находки оружия III–IV вв. в Ютландии имеются в болотах Шеруп, Эйсболь, дополняя картину «повсеместной мобилизации», по-видимому, родственных готам ютов (диалектные вариации одного племенного имени), обрушившихся на римский лимес и увлекших за собою другие германские племена накануне и, с не меньшей силой, после крушения Готской державы Причерноморья в 375 г.
Руны – одно из бесспорных и наиболее значимых завоеваний этой эпохи, наряду с военными успехами, в долгосрочной перспективе – на тысячу лет определившее самостоятельность и своеобразие скандинавской культуры, включая эпоху викингов (Moltke, 1985). Наиболее достоверные и ранние находки рунических надписей – именно те же «болотные святилища», где запечатлелись и неизвестные нам события истории древних ютландцев римской эпохи, – Нюдам, Торсбьерг, Вимозе, Иллеруп, Овре Стабю. Утрачены, к сожалению, в эпоху наполеоновских войн, в 1802 г., найденные в 1639 и 1734 гг. роскошные рога из Галлехуса (Gallehus) в Южной Ютландии, хотя и сохранились их тщательные прорисовки, вполне надежные по документированности.
Рог 1, с семью поясами фигуративных композиций (верхний – двойной), изображения которых составляют своего рода мост между мелкой пластикой (и петроглифами) эпохи бронзы, изображениями Гундеструпа и мифологией «Эдды». «Заклинатели Змея» верхнего (удвоенного) яруса, Лучник (Бог-Громовержец?), единоборствующий с чудовищами, в одном ряду со всадником, приветствуемым валькирией (в Царстве Мертвых?), звероголовые воители следующих ярусов, сражающиеся с кентаврами, Псом (Волком) и Змеями Рагнарок, сменяются Игроками в тавлеи, как через века обещает, после Крушения Мира, уцелевшим асам вёльва Völuspá:
Очутятся снова чудо-доски
тавлеи златые в траве у асов;
ими в раннее время асы играли.
(Прорицание вёльвы, 61.)
Рог 2 в пяти поясах несет композиции примерно того же образного ряда: Двурогий Бог (как кельтский Цернуннос Гундеструпа) вооружен круглым германским щитом и копьем (Одина?), как и сопутствующие ему воины. Среди сражающихся с чудовищами, тем же кентавром, всадниками, змеями и волками, снова – Лучник, и с ним – Трехголовый Бог, вооруженный топором и стреноживший козла (атрибуты Тора). Главное, однако, то, что этот рог по краю горла опоясывает руническая надпись:
Ek Hlewagastir
Holtejar horna tavido
Я Хлевагаст Холтесович
(сын Холтеса) рог сделал.
Первый автограф первого скандинавского мастера, вообще – ютландского германца, известного нам по имени, нанесен сложившимся алфавитом V в. Судя по находкам за пределами Скандинавии (фибула из Мельдорфа), самая ранняя надпись относится к 50 г. На основе капитального римского алфавита времен империи руны были созданы, видимо, в предримское время (150–100 гг. до н. э.), вероятнее всего в Дании (Moltke, 1985: 64).
Старший футарк (рунический алфавит, названный по звукам первых шести знаков) состоял из 24 рун (в эпоху викингов он был сокращен до 16 знаков младшего футарка). Каждый из них имел имя собственное (Moltke, 1985: 37).
F → fe → скот, добро, богатство, имущество
U → ûrr → зубр
Th → thurs → турс, великан, исполин, предшественник богов и людей
A, o → ass → ас, из поколения младших богов
R → reid → поход, езда, колесница
K → kaun → язва, нарыв
H → hagall → привет, здравие, счастье, удача
N → naud → нужда, несчастье
I → isaz → лед
A → jara → год, урожай
S → sol → солнце
T → Tyr → Тюр, один из немногих богов, названный по имени
B → bjarkan → береза
M → madr → человек, муж
L → logr → закон, право (также: вода)


