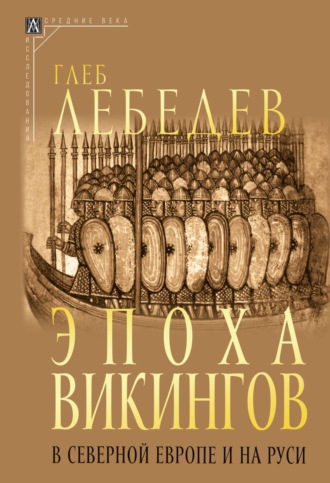
Глеб Сергеевич Лебедев
Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
С периода III распространяется и в последующие периоды господствует обычай сожжения.
Шведские курганы из камня и земли – прямое продолжение поздненеолитических традиций – в периоды ранней бронзы достигают монументальных размеров, располагаясь на высоких открытых местах. Акценты в мягких ландшафтах Дании, Сконе, Южного Халланда или на скальных вершинах севернее Сконе, вдоль побережья Бохуслена, сохраняли «топохроническое» значение для всех последующих поколений, организуя земледельческие ландшафты. Иногда курганы составляют ряды (в Сконе). Каменные курганы поставлены в эту эпоху по побережью Готланда.
Климат наступавшего, современного субатлантического периода был на 2–3 градуса теплее нынешнего; сравнительно благоприятные природные условия, в сочетании с достижениями металлургии, обмена, трансъевропейских внешних связей способствовали стабильному подъему и процветанию общества. Мощные монументальные насыпи с могилами племенной элиты, многочисленные и дорогие ритуальные клады, наскальные изображения формируют образ культуры с развитым культом мертвых, однако при этом она базировалась на прочном жизнеобеспечении. Социальные различия бесспорны, хотя и не создают видимого внутреннего напряжения. Век за веком, период за периодом укрепляет свои позиции богатый высший класс, весьма вероятна самостоятельная и значительная позиция жречества, низший класс составляли достаточно многочисленные и организованные свободные общинники, вероятно, имелись и рабы. Особым был статус специализированных ремесленников, прежде всего литейщиков. Прагерманский нордический этнос был, видимо, организован в племенные союзы или малые государства, неизвестные нам по именам и названиям, но возглавлявшиеся династиями авторитетных вождей. Большое значение имели религиозно-культовые связи, вероятно замыкавшиеся на почитание богов-покровителей, различавшихся по местностям и по функциям в пантеоне.
Кивик (Kivik) в шведском Сконе, один из крупнейших курганов Скандинавии бронзового века, известен науке с 1748 г. Каменная насыпь диаметром 75 м достигала значительной высоты (сохранившаяся – 3,5 м), в центре был устроен огромный каменный ящик (циста), 3,25 × 1 × 1,1 м. Длинные стороны выстроены из квадратных плит, покрытых изображениями симметрично сгруппированных фигур. Курган был в древности разграблен, содержимое неизвестно, реставрирован он в 1932–1933 гг. В XVIII в. петроглифы стен гробницы Кивика считали изображением римского триумфа в Сконе, позднее – финикийским памятником первых средиземноморских мореплавателей, добиравшихся до Британии, «Оловянных островов» (Кассидерид эллинской традиции). Между тем весь строй этих образов, с многочиленными параллелями в наскальных петроглифах, безусловно нордический: симметричные «солнечные колеса», два корабля, два топора, две лошади, ритуальная процессия, трубачи с лурами, барабанщики, восемь фигур вокруг котла, люди вокруг лошадей (которых ведут?) и огромной птицеобразной фигуры. Двухколесная боевая колесница напоминает греческие и южноевропейские изображения. Датировка памятника затруднена, но, безусловно, он относится не к раннему, а к среднему или позднему бронзовому веку Скандинавии.
Холм короля Карла (Kung Karls backe), Сконе (близ Мальмё), также один из крупнейших исследованных каменных курганов эпохи бронзы, 3 м высоты, 25 м диаметром. Примерно в центре – древнейшая могила из бревен длиною 1,5 м, перекрытых каменной кладкой, среди остатков кремации на дне могилы найдена двуспиральная фибула и два спиральных перстня ранней эпохи бронзы. Позднее на вершине кургана поставили деревянный гроб 2,8 м, и курган был досыпан. В этом верхнем погребении – только сожженные кости.
От Сконе до Уппсалы, распространяясь вдоль побережья, утверждается в Швеции эта нордическая традиция с обилием золота (в аппликациях бронзовых изделий, а позднее и в виде золотых вещей), погребениями могущественных вождей под монументальными курганами. Оружие – по-прежнему длинный бронзовый меч и копье. В типологии, стилистике, орнаментации (циркульным и линейным узором) видно устойчивое датское влияние. Того же круга – единственный в Швеции бронзовый щит (Nackhalle, болотная находка в Халланде).
Весьма показательный артефакт нордического круга бронзы – так называемые «кельты меларского типа», получившие название по первым находкам и, безусловно, производившиеся в долине озера Меларен в Средней Швеции, но распространенные от Финляндии до Урала. Исходные формы этих изделий – лужицкие, общее направление связей: Средняя Европа – Скандинавия – север Восточной Европы, где по их трассе прослеживается так называемая «аландо-камская труба» древних коммуникаций внутри формирующегося финно-угорского миpa (Tallgren, 1928). Столь же характерны нордические плоские бритвы со спиральной ручкой или фибулы «борнхольмского типа» с листовидно-ромбической спинкой, типично скандинавские массивные многорядные «воротничковые гривны» (halskragen).
Поздняя бронза, периоды IV–VI нордической культуры в Швеции, характеризуется последовательным распространением, а затем господством сожжений. Вторичные захоронения урн и остатков кремации помещаются в старых курганах и каменных насыпях или под низкими земляными насыпями, которые в конечном счете сменяются классическими грунтовыми полями погребений. Об устойчивости общественной структуры при этой смене обряда свидетельствует рост западноевропейского импорта: привозные бронзовые сосуды, золотые чаши из Boberg и Mjovik (Халланд и Блекинге). Если в Дании найдено около 40 золотых сосудов, в Швеции известны всего два, южного проихождения (исходный адрес этого импорта возможен вплоть до Италии), в Германии – 20 таких сосудов (клад Эберсвальде), по происхождению, скорее всего, все они среднеевропейские, хотя в древностях Европы и неизвестны такие сосуды нордического типа. Не исключено, что уже в эту эпоху чужеземные мастера работали «на заказ» северной знати, сообразуясь с ее вкусами и стилистическими требованиями, как примерно в эти же столетия греческие ремесленники работали для кельтов (серебряный кратер из Викса во Франции) или скифов Северного Причерноморья (классические курганы «Царской Скифии» Чертомлык, Солоха и др. с «золотом скифских царей» и серебряной торевтикой со сценами скифского эпоса и мифологии).
Этим временем поздней бронзы датируется крупнейшая из монументальных насыпей Швеции, Курган конунга Бьёрна (Kung Bjorn Hog) в Хага (Haga) близ Уппсалы, сакральной столицы свеев; именно по нему получил свое прозвище конунг Бьёрн Курганный (Bjorn vid Haugen), современник Ансгара. Курган, на котором в эпоху викингов восседал и отправлял суды и обряды конунг, имел высоту 9 м, диаметр 50 м и долгие века служил водным навигационным ориентиром. Под насыпью скрывалось богатое погребение по обряду сожжения, датирующееся IV периодом шведской эпохи бронзы: в камере из дубовых бревен, перекрытой внутренней каменной насыпью, находилось гробовище длиной 2,5 м и в нем – останки и вещи, бронзовый меч с золотой обкладкой, позолоченные украшения и туалетный набор (Almgren, 1981).
Переход к традиции полей погребений охватывает 800–400 гг. до н. э., одновременно маркируя границу эпохи бронзы и железного века (при безусловной этнокультурной непрерывности, как в лужицкой культуре Средней Европы, в недальнем соседстве на территории Скандобалтики, к югу от Балтийского моря). Расцвет нордической культуры этого времени, при смене обряда, понятен по кладам и жертвенным находкам с преемственно изменяющимся составом вещей. Развиваются, на предшествующей типологической основе, усложненные «барочные» формы вещей, распространяется новый стиль орнаментации, линеарный или «волнисто-ленточный».
Могильники традиции полей погребений закладываются обычно в стороне от старых, но иногда и поблизости. В областях севернее Сконе распространенный вид могилы – урны под низкими земляными или каменными насыпями (как позднее в ютландской группе культуры Ясторф, бесспорно германской в этноязыковом отношении). В Сконе и прилегающих с запада и юга областях для этого времени типичны классические поля погребальных урн (иногда с каменными обкладками погребального сосуда, помещенного в неглубокую ямку могилы).
Асбю (Asby) в Средней Швеции – крупнейшее из исследованных ранних полей погребений (около 50 могил). Низкие насыпи с каменными венцами обычно отмечены в центре невысокой стелой bautasten («воздвигнутый камень» из необработанного, узкого и высокого куска гранита), с южной ее стороны под насыпью лежат сожженные кости и вещи кучкой.
Симрис (Simris) в Сконе – один из важнейших могильников Южной Швеции, действовавший в течение ряда веков, начиная с эпохи бронзы. Начальная фаза представляет собой поле погребальных урн, окруженных каменными венцами. Инвентарь сравнительно скромный, включает только так называемые «туалетные наборы» (пинцеты, бритвы, булавки), зато обилие оружия этого времени отмечено в кладах (как и для следующего периода). Поля погребальных урн эпохи бронзы – раннего железа характеризуют переходный период начальной истории Скандинавии, по завершении которого первые имена северных племен появляются в исторических источниках и на арене античного греко-римского мира.
Этим же временем в Швеции датируется свыше 15 домковых урн, погребальных сосудов, имитирующих круглую хижину (10 из них – на Готланде, 4 – в Сконе, 1 – в Смоланде), интересных тем, что подобный обряд известен в Польском Поморье, в Средней Европе и этрусской Италии, указывая еще на одну линию «трансконтинентальных связей» северных племен Скандобалтики. В следующий период вместе с домковыми появляются еще более своеобразные и характерные лицевые урны той же традиции, распространяющиеся по линии Этрурия – Гарц – Дания / Сконе – Борнхольм / Готланд (в Дании – лицевые урны кимврского типа) – Восточное Поморье Польское (поморская культура лицевых урн).
Ладьевидные выкладки как типичный памятник нордической бронзы в особо высокой концентрации сосредоточены на о. Готланд (из 300–350 кладок исследовано 30, т. е. не более 10 %), традиция развивается от средней бронзы к переходному периоду из бронзового в железный век. Эти сооружения достигают длины до 45 м, обычно – от 6 до 20 м. Распространение вдоль побережья – в Сконе, но равным образом и на о. Эланд, и через море – в Прибалтику, начиная с о. Сааремаа, – подтверждает не только семантическую, но и функциональную связь этих сооружений с началом нордического мореплавания.
Клады и сокровища нордической культуры Швеции делятся на «мужские» с мечами и ансамбли украшений, сосудов, туалетных вещей («женские»), как в Биллеберга (Billeberga) в Сконе. Известнейшее из «жертвенных мест» Средней Швеции (в провинции Нэрке) – обнаруженный в Хассле (Hassle) клад у ручья, где в 1936 г. были найдены греческий бронзовый котел, два италийских рифленых бронзовых ведра, 12 больших бронзовых пластин (обкладок) и два гальштатских меча (изогнутых, может быть, в ритуальных целях). Общенордический облик элитарной культуры дополняют находки массивных горнов – лур (семь экземпляров, против датских 20 целых и 30 фрагментированных), первые детали снаряжения всадников (бронзовая узда в Annelov, Сконе), равно как первые изображения человека верхом. В кладе на Готланде Eskelhelm вместе с солярным диском лежала узда с железными псалиями, то есть упряжь для повозки, и в целом, видимо, клад составляли детали церемониальной колесницы (на пару лошадей). Позднее традиция использования таких ритуальных повозок эффектно проявится и в археологических, и в письменных античных источниках (Тацит). Наряду с ритуальными сокровищами широко представлены были заготовки сырья ремесленников, своего рода «клады металлолома», как и литейных форм, инструментов, заготовок и полуфабрикатов изделий.
По сравнению с Южной Скандинавией и даже Средней Швецией Норвегия бедна находками бронзового века, 600–700 предметов нордической культуры характеризуют в то время страну как отдаленную периферию северного мира. Вещи в погребениях и кладах встречаются в области неолитической земледельческой оседлости. Развитие и смена типов идет в тех же формах и темпах, что и в остальной Скандинавии. Среди находок есть первоклассные. Много импорта, но есть и определенно местные изделия. Западная Норвегия тяготеет к Дании, Трёнделаг – к южноскандинавской области, причем в Восточной Норвегии наиболее эффектны находки поздней бронзы.
Петроглифы – наиболее характерная черта норвежского бронзового века. Стилистически и территориально они близки шведским, сосредоточены в сельскохозяйственной области восточнее Ослофьорда и южнее (Lista – Rogaland). Кроме того, давняя концентрация петроглифов наблюдается в Трёнделаге, контактной зоне с субнеолитическими культурами (то же прослеживается и в Восточной Норвегии, а также по побережью Западной Норвегии). Основным очагом петроглифического искусства эпохи бронзы является Южная, отчасти Средняя, Швеция, прежде всего – Сконе и Бохуслен (прибрежная полоса юго-запада Скандинавского полуострова).
Петроглифические композиции образуют многометровые ленты с сотнями и тысячами изображений; за десятилетие деятельности специализированной службы охраны наскальных изображений как объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1990-х гг. количество выявленных местонахождений только в Бохуслене выросло на два порядка и исчислялось тысячами; обработка скальной поверхности береговых склонов речных и прибрежных долин, видимо, была устойчивой и значимой культурной нормой нордического бронзового века (Melander, 1976).
Простейшие из изображений, чашечные углубления («мельницы эльфов»), известны не только на скальных «полотнах», но и на отдельных валунах, их наносили как в предшествующие, так и в последующие времена. Образы петроглифических композиций неолита, лесные и морские животные, ранние формы лодок в эпоху бронзы дополняются и сменяются более сложными и емкими, выражающими реалии и представления высокоразвитой во всех отношениях культуры. Среди наиболее значимых – сцены пахоты упряжкой пары волов или быков, запряженных в сложносоставное деревянное рало. Одна из таких композиций включает «Священного Пахаря» с поднятой в руке цветущей «Золотой ветвью» (Фрэзер, 1980) и церемониальным оружием; акцентированная эрекция ассоциирует это изображение с более поздними скульптурами и описаниями Фрейра, бога плодородия в пантеоне эпохи викингов. Он или его высокоавторитетный предшественник (смена поколений богов, ванов и асов выразительно описана позднее в «Эдде») – один из центральных персонажей петроглифических композиций.
Бог Копья, обычно акцентированный также эрекцией и особо высоким ростом по сравнению с окружающими персонажами, может ассоциироваться с позднейшим Одином (вооруженным копьем Гунгнир). Иногда копьеносец поднимает над головой два копья, в обеих руках. Точно так же, двумя руками, вздымает свой атрибут – гигантскую палицу – Бог Топора, иногда изображены целые процессии «секироносцев», причем топоры в два раза превышают размеры людей, вздымающих это оружие, принадлежащее или посвящаемое Громовержцу, Тору «Эдды». Сцены «Священного брака» (единственные, в которых фигурируют женщины), горнисты с огромными «лурами», воители в «рогатых шлемах», двухколесные колесницы (обычно в горизонтальной проекции, при том что упряжные лошади изображены в профиль) с «невидимым ездоком», очевидно божественного характера (не подлежавшего изображению), – в целом, бесспорно, иерархически организованные ритуалы и пантеон достаточно часто ассоциируются с образами, мифами и именами «Эдды». Однако крýгом мифологем, известных по поэзии эпохи викингов, ассортимент северных петроглифов не ограничен. Солнечный диск, иногда – всего с двумя лучами-руками, может обрести аналогии и интерпретации в шиваистской символике индуизма. Спиральные диски вздымает в руках неведомый Солнечный Бог. Полулунные рога ассоциируются с культом Священного Быка, Минотавра Крита.
Батальные сцены в равной мере могут относиться и к мифологии, и к эпосу нордических племен. Вооружение соответствует артефактам, а воинские процессии и единоборства выстроены с обрядовой торжественностью. Еще более многозначным и самым массовым, подчиняя своей ритмике размещения, порою, всю композицию «полотнища» петроглифов, в разнообразии вариаций и сочетаний развертывается самый распространенный мотив шведско-норвежских наскальных изображений, образ корабля.
В развитой норме это – корабль с командой, от трех человек до двух-трех десятков (дюжин) и более воинов-гребцов. При разноформатности изображений корабли однотипны; конструкция, наметившаяся еще в неолитических петроглифах, развернута во множестве вариаций, но непременно имеются симметричные «сдвоенные штевни», где нижние фиксируют конструкцию килевого бруса, а верхние, круто вздымаясь ввысь, могут быть увенчаны головами животных (и не только рогатых лосей). Шпангоуты и другие детали говорят о глубоком знании и внимании к судостроительному делу. Также реалистичными кажутся и отношения экипажа; от пары-тройки рыбаков (напоминающих об эддической «Ловле Мирового Змея Тором») до многочисленной команды, где нередко выделен ростом Stóre Maðr, дословно «большой человек», stóremaðr эпохи викингов, сторманн (штурман). На гребном корабле (а парус, бесспорно, неизвестен и много веков после «эпохи петроглифов»), когда весь экипаж сидит спиной к форштевню, только кормщик не просто рулит, но и видит маршрут движения, и задает ритм работы гребцов.
Суда выстраиваются порой в боевом порядке флотилий, сходящихся для сражения, нередко – вытянуты караванами, подчиненными движению флагмана. Наряду с композициями, не вызывающими сомнения в «милитаристическом реализме», есть и безусловно ритуализированные сцены, с мифологическими персонажами, поднимающимися над командой, со своими божественными атрибутами. Иконография некоторых сцен не вызывает сомнения в том, что изображен Корабль Мертвых, так же как в других случаях имеет место Солнечная Ладья Божества.
В системе внешних связей Северного мира Скандобалтики в пору расцвета нордической культуры эпохи бронзы истоки многих из этих образов петроглифики правомерно искать в отдаленных культурах, вплоть до Древнего Египта (где отдельные соответствия, безусловно, имеют место), с еще большими основаниями – в этрусской Италии, источнике многих новаций северной культуры, проявившихся и в металле, и в погребальном обряде археологических памятников Скандинавии.
Трассы связей, на юг – из Повисленья в Гарц, зону Альп и с любого из перекрестков – в Италию или Подунавье, равно как выходы с «Янтарного пути» по Висле на Дунай, Балканы, в эгейскую Грецию, морские связи Северным морем (вполне доступным для каботажного плавания) от Норвегии до Британии и Галлии в богатый и динамичный мир кельтских племен Западной Европы были определяющими для нордических культур Северного круга. Кроме того, они располагали и опытом контактов, направленных на Восток, не только вдоль тундровой зоны Финмаркена, но и по налаженной в ареалах таежных племен «аландо-камской трубе» сухопутных коммуникаций. Потенциальная роль Балтики как «Средиземного моря Севера» определяется именно в эпоху бронзы. Вполне возможны, и даже достаточно документированы (нордическими артефактами, ладьевидными кладками, каменными курганами, петроглифами Карелии-Беломорья) и первые опыты реализации этого потенциала, стабильного мореплавания через Балтику, по крайней мере, к ближайшим островам и побережьям Финляндии и Эстонии, через Аланды и Моонзунд (с берегов «островной земли» Сааремаа в ясную погоду виден Готланд).
Типологически именно к этому времени относится форма организации морского дела, когда экипажи гребных судов впервые объединяются в собирательном термине *ruth (rotaz), от др. – сев. roar – грести. Более того, именно в это время и в этих условиях, при достаточно постоянных контактах нордических прагерманцев с прямыми предками прибалтийских финнов, возможен и закономерен переход ruth – ruotsi, с постепенным закреплением сохраняющегося доныне значения финского ruotsi – шведы, ближайшие скандоязычные соседи (Лебедев, 1999а: 202–204).
Гребное мореплавание эпохи бронзы не только типологически связано со «свионами» первых веков нашей эры в «Германии» Тацита. Петроглифика указывает на непрерывность этой традиции со времени ее зарождения. Самое монументальное изображение корабля, Брандског (Brandskog, Boglosa), Уппланд, – четырехметровое судно с шестью гребцами, «врученное» (или водимое) сверхъестественным персонажем, семантически ближе всего к термину ruth (в этой форме известного на рунических камнях Уппланда эпохи викингов), а иконографически – соединяет «двуштевневые» корабли петроглифов с увенчанными главами хищников «драконами» викингов; тем более примечательна спорная датировка этого изображения, с большей вероятностью относящегося к железному веку (Stenberger, 1977: 187–189).
Безусловно, многого мы еще не знаем, и вряд ли сможем узнать в обозримом будущем об этих походах и битвах первых мореплавателей Севера, современников ахейской «корабельной рати» Троянской войны Гомера. Безымянными остаются вожди, погребенные в монументальных курганах, возглавляемые ими племена и почитаемые боги. Однако только в Швеции сохранилось до 700 укрепленных каменными валам городищ, недатированных или относимых началом своей постройки к бронзовому веку. Эти «борги» жрецов, воинов и вождей хранят еще свои тайны, изучение таких памятников, как Тролльбергет возле Сигтуны, трудоемко и неблагодарно: скальный материк «не держит» культурного слоя, а развалы валунов, из которых сложены некогда мощные стены, порой неотличимы от естественной осыпи (Floderus, 1953: 35–39). Однако методы XXI в., может быть, позволят исследовать трасологию обработки гранитных склонов и площадок, вернуть на место упавшие валуны кладки, а то и выявить потаенные «закладные сокровища» и теми ли, иными средствами ввести в обращение этот «археологический источник», как и другие, еще незадействованные средства познания бронзового века Севера. Несомненно, в эту эпоху не просто сложились базовые архетипы, но произошли и многие ключевые, неведомые нам события в Скандинавии, предопределившие дальнейшие судьбы северных народов и роль их в ранней истории Европы.


