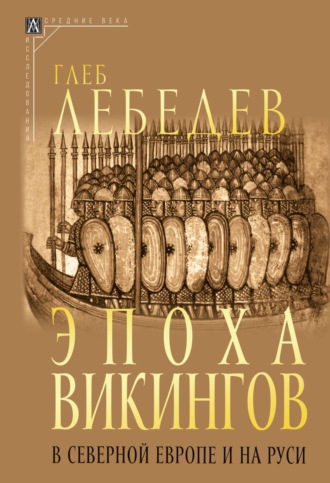
Глеб Сергеевич Лебедев
Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
1.4. Кимвры и тевтоны, готы и эрулы
Европа «железного века» с X по I в. до н. э. стала очагом рождения и ареной торжества греко-римской цивилизации и Римской империи, впервые интегрировавшей в едином политическом организме древние цивилизации Средиземноморья. Около 1000 г. до н. э. раннегреческие дорийские племена из ареала культур полей погребальных урн в Подунавье и на Балканах вторгаются с севера в Грецию, эффективно вмешиваясь в междоусобные войны ахейских государств, созданных родственным им по языку этносом на основе крито-микенской цивилизации эпохи бронзы.
Мощные «циклопические» крепости Микен, Тиринфа и других ахейских столиц, как и воспетый Гомером военно-морской флот парусно-гребных кораблей многочисленных басилевсов (царей, вечно враждующих между собою), оказались бессильными перед массами северных пришельцев с новым, железным вооружением. Дорийские и ионийские племена расселились по всей Элладе до Пелопоннеса, островов Эгейского моря и побережья Малой Азии. Смешиваясь с ахейцами приходивших в упадок городов микенской эпохи, они распространили новый хозяйственный уклад, основанный на пашенном земледелии, с тяжелым железным плугом, влекомым парой волов. Земли тесных равнин, зажатых между горами и морем Греции, были поделены на «клеры»-жребии эллинов и возделаны под пашни, виноградники, плантации оливы; горные склоны служили пастбищами и выпасами, а горные рудники обеспечивали «демиургов», мастеров-ремесленников греческих сельских общин, золотом, серебром, медью и железом.
Басилевсы «гомеровской Греции» IX–VIII вв., как Одиссей, пахари, воины и мореходы, возделывающие свое маленькое царство, словно собственный, вполне крестьянский двор, управляли этим аграрным, вооруженным военно-демократическим обществом Эллады. Нехватка сельскохозяйственных земель вызывала быстрое возрождение, на новой основе, городской жизни греческих «полисов», торгово-ремесленно-землевладельческих демократических городов-государств, ограничивших или вовсе упразднивших царскую власть. Однако весьма высокой оставалась зависимость жизни новых политических организмов, а с ними в конечном счете всего Средиземноморья, от колебаний и климаксов аграрного хозяйства, динамично развивавшегося в условиях очередного климатического потепления VIII–V вв. до н. э. (Randsborg, 1991: 27, 30).
Полисы быстро накапливали не только торговый капитал, но и растущий контингент свободных и безземельных граждан; как и в ранних аграрных обществах, выходом из положения стала экспансия, принявшая форму морской колонизации ближних и дальних островов и прибрежных земель Европы и Азии. Греческие «аргонавты» прокладывают морские пути в Понт Эвксинский (Черное море), с VIII в. возникают колонии эллинов в Северном Причерноморье, Италии и на Сицилии. Потеснив мореходов-финикийцев, они делят с ними Средиземное море, уступая могущественной финикийской колонии – Карфагену – Северную Африку и пиренейские побережья, до Геракловых столпов Мелькарта (так греки и финикийцы по-своему именовали скалы Гибралтарского пролива) и заселяя «Великую Грецию» Сицилии и Южной Италии, где италийские племена долгое время живут под давлением с юга – эллинов, с севера – этрусков Двенадцатиградья, могущественного союза царей еще одного из «морских народов» древности.
Модель крестьянского общества железного века, основанная на индивидуальном пашенном земледелии свободных общинников-воинов, впервые реализованная в Греции эллинов, а затем и в Италии латинян, в условиях Средиземноморья с давней цивилизационной основой великих древневосточных государств Египта, Месопотамии, Передней и Малой Азии, устоявшейся системой морских экономических и политических связей, путей и портов способствовала переходу к урбанизованому обществу, политии (букв. «гражданству», от полис – город, град), располагавшему новым и очень высоким экономико-политическим потенциалом.
Полития Эллады, военный союз греческих городов-государств выстоял в VI–V вв. до н. э. в противоборстве с Персидской державой Ахеменидов, последней из великих империй Древнего Востока, а в 334–323 гг. до н. э. победоносные фаланги Александра Македонского от Малой Азии до Согдианы, от Боспора Киммерийского в Причерноморье до Египта перекроили карту Древнего мира. Азия, от берегов Средиземного моря до долины Инда, вступила, по сути дела, в новую культурно-историческую эпоху «греко-восточного синтеза» эллинизма III–I вв. до н. э., представлявшего собой новую и высшую ступень развития мировой цивилизации.
Именно тогда культурные достижения «классической» Греции обрели законченное выражение в системе культурных норм, кодификацию, иерархию культурных центров и средоточие высших ценностей культурного фонда в Библиотеке и Музейоне Александрии Птолемеев, последней эллинской династии фараонов Древнего Египта. Эллинистический мир, западной частью своей, территориями Эллады, Великой Греции, Сирии, Палестины, Египта войдя в состав Римской державы, в синтезе с религиями культур Древнего Востока и монотеизмом ветхозаветной религии Иудеи, свободной «как от язычества, так и от пантеизма, смешения Бога с природой» (Мень, 1992: 10), финальным и высшим своим достижением создал тексты эллинистического «койне» Нового Завета Евангелия Христа. И после разрушения легионами Тита Флавия в 70 г. иудейского Храма Бога Единого Израиля в Иерусалиме христианство, рожденное в этом эллинистическом мире и подтвержденное в своей истинности свершением самых грозных пророчеств Ветхого Завета, распространилось в пределах всей созданной римлянами Империи, превращаясь в первую из мировых религий. Перевод «70 толковников» Библии с иврита израильтян на греческий язык Книги Книг этого эллинистическо-римского мира, сделанный ранее, до римских завоеваний, в птолемеевской столице средиземноморской культуры, Александрии, подготовил становление монотеистической христианской религии в формах, вступивших ныне в третье тысячелетие своего существования.
Рим поднялся, по сути дела, на той же крестьянско-урбанистической основе античного полиса; но эллинскому «союзу равных» и соперничающих полисов была противопоставлена монополия «римского гражданства» и римского права, объединявшего многообразие Древнего мира в невиданной доселе, по мере своей унифицированности, социально-политической и культурно-языковой романизации. С III по I в. до н. э. территория этой унификации вырастает с 0,3 до 1,0 млн кв. км, в следующем столетии она достигает 5 млн кв. км провинций и владений Римской империи (Randsborg, 1991: 2). Пять столетий последующей мировой истории в Европе и значительной части Азии с Северной Африкой – это история Рах Romanorum, римского мира античности и раннего христианства.
Римская держава, как и Европейская Греция эллинистической эпохи, были авангардом, антиподом и партнером окружающего и противостоящего античному миру «Барбарикума», европейского мира к северу от Альп и Балкан. Индоевропейские этносы, в бронзовом веке безальтернативно доминировавшие в Европе, вступали в «эпоху железа», прежде всего в Греции и Италии в начале I тыс. до н. э. (X–VIII вв.), спустя пять столетий после того, как металлурги-халибы Малой Азии открыли для хеттов этот новый металл, основу стратегического оружия Хеттской державы в борьбе с фараонами Нового Царства Египта.
Железо с XV в. до н. э. было известно малоазийским металлургам, прежде всего преимуществами получения металла в результате сравнительно несложного «сыродутного процесса» при температуре 1150–1350 °C (температура плавления железа 1528 °C требовала высококвалифицированной металлургии). До XIII в. до н. э. новый металл выступал как новая ценность (превосходившая золото), прежде всего в материально-ценностной, сакральной, метафорической функции («твердый как железо», «железное сердце» – эпитеты в похвалах царей древневосточных надписей). В XII–XI вв. до н. э. железо становится основным материалом для изготовления орудий труда, а в первую очередь – оружия у народов и государств Малой Азии, Закавказья; в IX–VII вв. до н. э. Древний Восток и Европа переживают «железную революцию». Резко возросла милитаризация племенных обществ и древних держав, таких как грозная Ассирия, а затем Держава Ахеменидов. Наступила «эпоха железного меча, плуга и топора» (Энгельс, 1961: 162–163).
Плужное земледелие и соответствующая ему «парцеллизация» крестьянского хозяйства (от лат. parcella, аналог греч. клера) становятся основой социально-экономического уклада европейских народов по мере освоения металлургии железа и перехода к его массовому применению, от «раннего» к «развитому железному веку», и эти ступени последовательно проходят все европейские народы: греки времен Гесиода (VIII в. до н. э.), за ними – италики, освоившие новый уклад у греков Кампаньи; заальпийские кельты, пиренейские иберы, балканские иллирийцы – в середине I тыс. до н. э. (V–IV вв.); спустя столетия наступает черед германцев, славян, балтов. По сравнению с медью и бронзой, тесно связанными с монополиями древних горно-металлургических областей, железо обильно и повсеместно представлено в виде «болотных» и «луговых» руд, доступных для простейшей обработки. Однако качественный металл требует развитой индустрии горного и кузнечного дела, поэтому переход от «раннего» к «развитому» железному веку порою отделен рядом столетий у разных народов древней Европы.
Железный век Европы делят на два периода – гальштатский и латенский (названные по лидирующим в VIII–VI и V–I вв. до н. э. археологическим культурам). Периоды делятся на этапы и ступени (общеевропейские – А, В, С и т. п., с более дробными и локальными подразделениями); дробная археологическая хронология и тесная связь судеб этносов гальштатской и латенской эпохи с античным миром позволяют рассматривать их как полноправных участников «европейского процесса», в итоге которого большинство народов Европы, от берегов Средиземного моря и Атлантического океана до Рейна и Дуная, вошли в состав этого мира, подданными или гражданами Римской империи.
Этому объединению предшествовал период фактического господства в заальпийской Европе, отделенной горными массивами Альп и Балкан от Италии и Греции, кельтов, создавших на основе латенской культуры, по существу, самостоятельную кельтскую цивилизацию Средней и Западной Европы, в IV–I вв. до н. э. успешно соперничавшую с античной (Филип, 1961). Государства кельтов по границам греко-римского мира состязались с ним в могуществе. Вторжения галлов в Италию, галатов и скордисков – в Элладу и Малую Азию доставляли немало хлопот римским консулам и эллинистическим басилевсам. Фаланги и легионы с трудом отражали неудержимый натиск огромных толп отчаянной и бесшабашной кельтской пехоты, бросавшейся в бой – нагими, но в боевой раскраске, со вздыбленной щетиной закрепленных известью воинских причесок и с достаточно эффективным вооружением: тонкими, но большими щитами, длинными «галльскими мечами» и тяжелыми копьями.
Элитарная культура кельтской знати, с боевыми колесницами, аристократической конницей, вычурным наступательным и защитным оружием, дорогой металлической посудой для пиршеств, пышным убором – золотыми, серебряными и бронзовыми шейными, ручными и ножными обручами, гривнами-торквесами, браслетами и кольцами, металлическими поясами, нарядными и сложными фибулами, – становилась эталоном и образцом для подражания у знати соседних племен. Верования и ритуалы, разработанные общекельтским жреческим сословием друидов, погребальные обряды кельтов и различные вариации латенского художественного стиля изделий ремесленников, распространявшиеся из кельтских раннегородских центров-оппидов (oppidum – укрепление, обнесенное стеною в технике «галльской кладки» сухим камнем, без раствора сложенным в деревянный бревенчатый каркас стены), во многом определили облик латенизированных культур некельтских народов от Рейна до Вислы и далее на восток до Днепра. Эти народы, предки и ранние объединения германцев, фракийцев, славян, сарматов, балтов, соотносились с кельтской цивилизацией как ее «варварская периферия», и ближние из них также беспокоили кельтский мир нарастающими вторжениями, как кельты – греков и римлян (Еременко, 1997).
Во II в. до н. э. легионы Римской республики, объединив Италию, оккупировав Грецию и Македонию, сокрушив Карфаген и овладев его африканскими и пиренейскими провинциями, все увереннее действовали в Европе за Альпами. Консул Марк Фульвий Флакк, союзник реформатора Гая Гракха, в 125 г. (629-й г. от основания Рима), первым из римских полководцев приступил к заальпийским завоеваниям. Через несколько лет была основана первая в заальпийской Европе провинция Рима, Нарбоннская Галлия. В 115 г. до н. э. консул Марк Эмилий Скавр пересек Восточные Альпы и начал борьбу с кельтским царством скордисков, тридцатилетняя война завершилась оттеснением их за Дунай войсками Луция Сципиона. Однако вскоре после первых сражений римлян со скордисками через опустошенные войной земли к восточным перевалам Карнийских Альп вышли толпы новых пришельцев с Севера, неведомые до той поры кимвры.
«Мы имеем ряд вполне определенных фактов, свидетельствующих, что кимвры, равно как и присоединившиеся к ним позднее скопища тевтонов, принадлежали в своем ядре не к кельтам, как думали сначала римляне, а к германцам», – писал в 1850-х гг. великий историк Древнего Рима Теодор Моммзен (Моммзен, II, 1994: 122–128). Имя кимвров хотя и связывалось позднее с местностями Ютландии, Peninsula Cimbrica античных географов, как исходной их территорией, происходит, вероятно, от прагерманского chevno, борцы (Kampen Моммзена, нем. Kämpfer), обозначая разноплеменный контингент отборных воинов. Соплеменники и союзники кимвров, тевтоны, вероятно, также себя вручили древнегерманскому Богу Победы Тиу (Tiu – teutoni, возможно от др. – герм. tjod – народ-войско, вооруженный народ, ополчение; вариации имени «изначального бога неба» Tiwaz, Тіwaþ, Tiw, Ziu/Zio – см.: Селицкий, 2002: 32). Варвары поразили римлян своей многочисленностью, перемещением, вместе с семьями и скотом, на повозках, сопровождавших огромное, грозное и плохо управляемое войско, кровожадным энтузиазмом седовласых жриц, руководивших жертвоприношениями пленных (их могли и немедленно повесить, на месте сражения, в честь Бога Павших). Это был не просто неведомый народ, но «чудовищный клубок разноплеменного люда, приставшего к ядру германских выходцев с берегов Балтийского моря» (Моммзен, II, 1994: 129).
Поражения римских армий в битвах с кимврами и тевтонами в 113 г., 109 г., 105 г. (когда погибло до 80 000 солдат проконсула Цепиона) заставили римлян в 104 г. до н. э. вручить главнокомандование заальпийскими армиями, с невиданными ранее полномочиями, консулу республики Гаю Марию. Германцы в то время сражались в Испании и Белгике, а в 102 г. тевтонское войско короля Тевтобода вернулось к римским границам, перейдя Рону в Нарбоннской Галлии. Близ столицы провинции Аквы Секстиевы Марий наголову разбил тевтонов, и Тевтобод был взят в плен, чтобы стать главным живым трофеем римского триумфа. Однако кимвры в то же время разбили легионы второго римского консула, Квинта Лутация Катула, охранявшие альпийские перевалы. Варвары обошли их по ледниковым склонам, откуда «подложив под себя широкие щиты, стремительно неслись по скользкой крутизне, имеющей головокружительно гладкие склоны» (Плутарх, 1994: Т. 1, 470), как, спустя восемнадцать веков, суворовские чудо-богатыри в 1799 г. Полагают, что кимвры пользовались при этом «бобслее» большими щитами кельтского типа, прямоугольными с продольным ребром (Щукин, 1994: 149).
Орды варваров беспрепятственно вторглись в Северную Италию. 30 июля 101 г. до н. э. (653 г. от основания Рима) Марий, отказавшийся в Риме от триумфа в честь разгрома тевтонов, на Раудийских полях в долине реки По разгромил кимвров с их кельтскими союзниками. В битве вместе со своими воинами пал кимврский король Бойорикс, избежавший участи Тевтобода; 60 тыс. варваров были взяты в плен, вдвое больше – перебиты (Плутарх, 1994: Т. 1, 472), и, как пишет Моммзен, «человеческая лавина, в течение 13 лет наводившая ужас на народы от Дуная до Эбро и от Сены до По, покоилась теперь в сырой земле или томилась в оковах рабства. Обреченный на гибель передовой отряд германцев выполнил свою миссию. Бездомный кимврский народ вместе со своими союзниками исчез с лица земли» (Моммзен, II, 1994: 139).
Гай Марий использовал свои полномочия не только для блистательных и сокрушительных побед над германскими варварами. В ходе кампании он начал свои знаменитые военные реформы, превратившие римские легионы из ополчения граждан в профессиональную армию. Отныне эта армия на пять с лишним столетий стала главным орудием и одновременно – конечной целью строительства невиданной в мире по своим масштабам и могуществу империи, и созидателями ее были удачливые и талантливые полководцы – императоры. В республиканские времена imperator – почетный титул полководца-триумфатора. Со времен Юлия Цезаря и преемника его Октавиана Августа это воинское звание становится однозначным и главным титулом могущественного монарха.
Цезарь следующим из римлян столкнулся с германцами как военным противником, превосходящим по силе кельтов, галлов (покорение которых и сделало его владыкой Рима, положив одновременно конец «кельтской цивилизации» в Галлии, со времен войн Цезаря – главной из римских провинций в Европе). Август в 9 г. пережил тяжелое поражение войска Квинтилия Вара, наместника новооснованной провинции Германия, между Рейном и Эльбой: три легиона были истреблены в Тевтобургском лесу херусками Арминия, и император в Риме горестно восклицал: «Вар, Вар, верни мои легионы!» Войска были оттянуты за Рейн, с тех пор долгое время считавшийся надежной границей Империи и Германии.
Впрочем, носившие имя germani народы в низовьях Рейна этническими германцами, видимо, не были, занимая своеобразное и неясное в языковом отношении до сих пор положение «между германцами и кельтами» (Hachmann et al., 1962). Очевидно, в большей мере германскому этносу принадлежали истребленные римскими легионами кимвры и тевтоны, и если следы и потомки первых еще удерживались на островах или в Ютландии, то от вторых осталось лишь имя, правда, надолго их пережившее именно в германском самосознании как основное из самоназваний: *tiut-, teutoni – teutsehen – Deutschen, так стал именовать себя самый большой из германских народов, немцы Средних веков. Синоним названия страны – Германия, именно Deutschland, в Новое время вдохновляющее свой народ: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in die Welt! Самосознание уничтоженного римлянами «авангарда» в конечном счете пережило долгие века грозную для германцев Империю.
Движение кимвров с тевтонами было «пенным гребнем» волны, медленно и неудержимо разворачивавшейся в Северной и Средней Европе при переходе от эпохи бронзы к железному веку. В V–VI периодах северной бронзы нордическая культура последовательно включается в круг культур полей погребений, сохраняя свою местную основу, но все более вовлекаясь в процессы кристаллизации новой, германской в точном смысле слова, этнокультурной общности. Основной очаг этой кристаллизации – низовья Рейна и Эльбы, ближайший к Скандобалтике с юго-запада регион Европы и «датско-сконский эпицентр» нордической культуры, в первую очередь втягивается в этот процесс германского этногенеза, археологически отображенный самой северо-западной из культур полей погребений, Ясторфской культурой Североморского побережья и прилегающих районов Европы.
Культура получила свое название, периодизацию и этнокультурную атрибуцию как древнейшая «достоверно германская» после раскопок Георга Швантеса в 1896–1909 гг. в Нижней Саксонии, на р. Ильменау в Люнебургской пустоши, между нижним течением р. Эльбы и Аллер (в восточной части пустоши в эпоху раннего Средневековья жили славяне, дравено-полабы, венеды, Wenden, позже полностью онемеченные). Г. Швантес открыл и исследовал на Ильменау, среди множества памятников разных эпох, городищ и курганов, серию полей погребений. Они были изучены первоначально близ деревень Бельдорф, Вессенштедт, Ясторф, Рипдорф, Зеедорф; круг этих памятников затем был очерчен в пространстве от морского побережья и Ганновера, по Средней Эльбе, в Шлезвиг-Голштейне и Ютландии. На восток от Эльбы располагалась биллендорфская группа лужицкой культуры раннего железного века.
Таблица 3
Периодизация ясторфской культуры

Кристаллизация новой культурной общности, по материалам полей погребальных урн Ильменау, начинается около 600 г. до н. э. Индикатор ясторфской культуры – погребальный обряд: урновые сожжения в маленьких каменных ящиках под низкой насыпью (иногда с оградкой), булавки и мелкие вещи в традициях поздней бронзы Северного круга, сосуды удлиненных пропорций, «храповатые» (ошершавленные) в нижней части «задымленные горшки» (Rauchtopf), пролощенные полосы и чернолощеная верхняя часть округлых сосудов (подражание чернолаковой греческой и этрусской, графитной кельтской керамике), металлические поясные крючки (подражание «цепным поясам» кельтов), разнообразные по форме, крупные металлические булавки (заменявшие фибулы).
Ранний Ясторф характеризуется ростом населения, проявившимся в повсеместном распространении урн в грунтовых могильниках, встречаются невысокие курганы, наряду с урнами появляются ямные сожжения, могильные ямы с остатками кострища (Brandgruben- und Brandschüttungsgräber), по-прежнему, в отличие от кельтских культур гальштата, нет фибул (они появляются только в стадии рипдорф, фибулы «среднелатенской схемы»).
Ступень рипдорф – в целом, начало «латенизации», распространяются фибулы, спиральные серьги, при устойчивости традиционных черт культуры в керамике и погребальном обряде.
Ступень зеедорф отмечена нарастанием новаций, под воздействием кельтского гончарства меняются пропорции сосудов, появляются урны без крышек, оружие, латенские вещи, массивные «голштинские пояса».
Локальные группы при общекультурном единстве проявляются в ряде черт могильников и прежде всего поселений. Североморское побережье, где к 500 г. до н. э. море отступило, освободив из-под лагун Фрисландии великолепные луга, появились так называемые «терпы», terpen (Wuerten, Wierden), жилые холмы, своего рода «телли» (как в Малой Азии или на островах Эгейского моря). С похолоданием во II в. до н. э. наводнения возобновились (в этом видели одну из причин переселения кимвров), и терпы укрепляли небольшими валами и дамбами (начальная фаза ирригации «нижних земель» Нидерландов, век за веком отвоевывавшей для фризов, голландцев, фламандцев новые участки территории у Северного моря), так что напластования к первым векам нашей эры достигают высоты 6–7 м. Здесь поколение за поколением возводили столбовые трехнефные в плане дома, размером 6 × 13 м, с делением на две части (жилье и стойла), с глиняной обмазкой стен. Исследованы терпы в Эзинге (Фрисландия), тот же тип застройки в Федерзен Вирде (у Бремерсхафена в Германии), где он сохраняется с рубежа эр до конца римского времени. Трехнефные дома того же типа, что в Нидерландах, достигали длины 10–30 м при ширине 4,5–7,5 м. Люди и животные жили под одной крышей, но жилая часть была отделена стеной, и пол в ней был обмазан глиной. Именно в терпах можно видеть прямые истоки «длинного дома» германцев, ставшего базовым стереотипом культуры Скандинавии с этого времени вплоть до эпохи викингов (Хлевов, 2002: 86–87).
Ясторфская культура Ютландии и датских островов отличается частым использованием для погребений маленьких каменных ящиков или каменных обкладок урн (Steinpackung und Steinkisten). Формируется «эталонный» набор керамики: высокие горшки-зерновики (Vorratstöpfe), горшки харпштедского типа S-видного профиля, с узким дном и отогнутым венчиком, столовые миски. Сохраняется нордическая традиция захоронения обильных «кладов» бронзовых топоров, браслетов, копий и гривен.
Группа Ниенбург – Харпштедт, распространившаяся до Рейна, к пограничью с «негерманскими германцами» (Völker zwischen Germanen und Kelten), отличается в наборе сосудов – присутствием ошершавленной керамики S-видного профиля, на юге активно впитывала гальштатские элементы, а затем и латенское воздействие; ко времени появления германцев на европейской арене последних веков до нашей эры это одна из наиболее латенизированных культур.
Варнов-группа в Восточном Мекленбурге и бассейне Одера, Зеен-группа в Южном Мекленбурге, Эльба – Хавель группа, далее на восток, Подмоклы-Кобыльская группа в Чехии, Губинская – на Нижнем Одере, в пределах Польши распространясь на восток от исходного ареала германского этногенеза, активно поглощали, включая в свой состав, население биллендорфской и других групп лужицкой и сменявших ее культур; за Одером, в Восточном Поморье, с ясторфской соседствовала поморская культура, также впитавшая в себя значительные нордические и эльбско-германские компоненты и активно распространявшаяся в бассейне Вислы на юг и юго-восток; ареал ее с последнего века до н. э. перекрывает пшеворская культура, развивавшаяся в основном в римское время.
Тацит в «Германии» делит многочисленные германские народы и племена на три большие группы, возводимые к «прародителю» Манну, сыну «порожденного землею бога» Туистона (Тиу: Mannus, герм. mann – человек), ингевонов, истевонов и гермионов. Последние, видимо, были ближайшими соседями галлов, а затем – римлян: имя Арминия – от Эрмина (одно из имен Тиу), ставшего родовым названием для германцев в целом (der Heruskerfürst der Hermann, der edle Recke – «Герман, храбрый херуский князь…» в «Германии» Гейне – Haine, Deutschland, ein Wintermärchen, XI). Гермионы в наибольшей мере соответствуют Ниенбург-Харпштедской и близким группам. Истевоны, видимо, восточные германцы, расселявшиеся за Эльбой к Висле. Ингевоны, «обитающие близ Океана» (Тацит, 1969: Т. 1, 354) связаны своим племенным именем с Ингве-Фрейром, древним богом плодородия и верховным богом скандинавов, а мифологической генеалогией – и с возводимой к Ингве королевской династией Инглингов в Свеаланде V–VII вв. Ингевонам с наибольшей определенностью соотвествует первоначальная ясторфская культура и ее скандинавские варианты (Becker, 1966: 268–269; Hagen, 1969: 928–930; Stenberger, 1969: 1259–1260).
Железный век Дании, в Ютландии, представлен локальными группами ясторфской культуры, с урновыми и ямными сожжениями; на о. Борнхольм в раннем железном веке сохраняются курганы над кострищем, продолжающие традиции поздней эпохи бронзы; в последних столетиях до нашей эры различия стираются, оформляется унифицированная культура Ютландии, островов Фюнен и Борнхольм. Деревни окружены аккультурованными угодьями: огражденными низкими межевыми валиками или стенками так называемыми «кельтскими полями» (прямоугольными наделами, принципиально аналогичными греческим клерам и римским парцеллам), селитьба основывалась на стабильном земледелии и скотоводстве, постройки – «большие дома» длиной 12–15 м, шириной до 5 м, поселенческая традиция непрерывна до конца «римской эпохи» (I–IV вв.).
Среднеютландская группа ясторфской культуры ранних этапов отличается большими яйцевидными сосудами с ручками (иногда обломанными), используемыми как зерновики и в качестве урн; погребения окружают каменные венцы и перекрывают маленькие насыпи, круглые, овальные, квадратные в плане. Здесь известны наиболее ранние находки в скандинавском ясторфе фибул, архаичные «очковые фибулы» и так называемые «лучковые фибулы» италийского происхождения (тип «чертоза», освоенный гальштатской культурой). С этими «импортами» сочетаются характерные местные типы украшений, массивные зубчатые короновидные гривны (разъемные, шарнирной конструкции), «пластинчатые фибулы», массивные «колесовидные серьги» (так археологи первоначально определили ранние формы поясных застежек). На ступени рипдорф появляются отмеченные кельтским стилистическим влиянием шейные гривны с шаровидными завершениями (Kugelhalsringen), с рельефным латенским орнаментом, а также кельтские фибулы «среднелатенской схемы» и выработанные на их основе местные «фибулы с шариками», словно нанизанными на проволочную «спинку» фибулы (Kugelfibeln), с которых начинается развитие собственно германских форм лучковых фибул.
Крупнейший памятник этого времени – Арре (Аrrе) в Западной Ютландии, могильник, насчитывающий до 800 погребений. Урны перекрыты низкими насыпями – «могилками» (tue, до 0,5 м высотой, диаметром 5–6 м), встречаются меморативные погребения с пустыми урнами, созданные, видимо, в честь соплеменников, погибших в дальних походах. Характерен устойчивый набор керамики (заглаженной до блеска), украшенной линейным нарезным орнаментом и декоративными вертикальными полосами «храповатой» поверхности. Инвентарь погребений – булавки, серьги, застежки.
В позднелатенское время (ступень зеедорф) в Ютландии господствуют урновые сожжения, безурновые ямные кострища известны только на островах (Фюнен, Борнхольм, Вендсиссель). Многочисленный, по сравнению с предыдущим временем, инвентарь отличается обилием оружия – согнутые мечи, копья, умбоны щитов. Мечи кельтские (латенские) либо однолезвийные (так называемые «восточногерманские», развивающиеся от изогнутой однолезвийной кельто-греческой «махейры», подобной «хукри» гималайских гурков, к прямому германскому «скрамасаксу», оружию, давшему племенное имя саксам – ‘ножи’, и остававшемуся в употреблении до конца эпохи викингов). Щиты, в отличие от латенских кельтских, видимо, круглые (судя по формам конических щитовых наверший, умбонов). В могилах встречаются кости жертвенных животных (овца, свинья). В могильнике Kraghede (Вендсиссель) отмечены континентальные элементы раннепшеворской культуры Польши и кельтской культуры, кельтским влиянием объясняют остатки боевой колесницы в одном из сожжений (кельтская знать хоронила своих мертвых на колесницах с начала латенской эпохи). В Langa (Ютландия) открыто два погребения с колесницами на кострище, там же бронзовая кельтская посуда, оружие (меч, копье, щит).
Поселения этой поры известны благодаря великолепным раскопкам, проведенным Й. Брендстедом и П. Глобом в Борремозе (Borremose) в Восточной Ютландии. Укрепленную деревню на низком болотном острове, 100 (80) × 150 м, защищали вал и ров, мощенная камнем дорога соединяла островок с берегом болота (заболоченного водоема), вал с внутренней стороны укреплен частоколом (ряды вертикальных дубовых бревен в полуметре друг от друга), и служил он, скорее всего, в первую очередь как дамба от высокой воды. В двухслойном поселении выявлено до полутора десятков больших домов, длиной до 23 м, шириной около 6 м. Все дома строго ориентированы с востока на запад, стены были сложены из дерна, внутри вдоль стен пространство делили на три «нефа» – два ряда столбов, несущих крышу, крытую вереском. Большой дом в каждом случае делится еще на две поперечные части: западная – жилая, с очагом, обмазанным глиной, в центре помещения; восточная – стойла для скота. Зимнее содержание низкорослого скота, «главного богатства германцев», по Тациту, в стойлах под крышей жилых домов, существенно увеличивало прочность хозяйства обитателей деревни. Орудием пахоты был деревянный плуг (в латенский период распространяется колесный плуг с железным лемехом).


