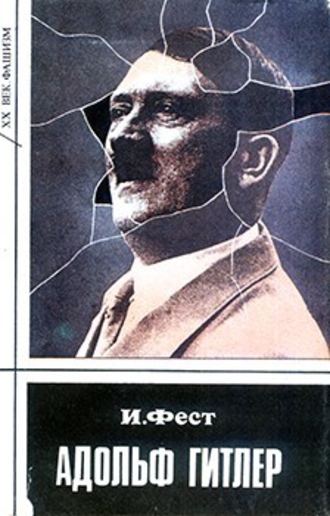
Иоахим Фест
Адольф Гитлер (Том 1)
С появлением Гитлера соединились энергии, обладавшие, в условиях кризиса, перспективой огромного политического эффекта. Дело в том, что фашистские движения в своей социальной субстанции опирались в общем на три элемента: мелкобуржуазный с его моральным, экономическим и антиреволюционным протестом, военно-рационалистический, а также харизматический – в лице единственного в своём роде вождя-фюрера. Этот вождь есть преисполненный решимости голос порядка, возвещающий конец смуте, стихии хаоса, он и смотрит дальше и мыслит глубже, ему знакомы чувства отчаяния, но он знает и средства спасения. Этот сверхъестественный тип создан не только многочисленными литературными предвестиями, уходящими своими корнями в немецкую народную сагу. Подобно мифологии многих других, невезучих в своей истории народов, ей знакомо появление охваченных вековым сном где-то далеко в горах фигур вождей, фюреров, которые когда-нибудь воспрянут ото сна, выведут на верный путь свой народ и накажут виновный мир, и именно пессимистическая литература, в том числе и в 20-е годы, в своих тысячекратных заклинаниях напоминала об этих страстных чаяниях, что и нашло выражение в знаменитых строках Стефана Георге: «Он сорвёт кандалы и вернёт на руины/ Порядок, заблудившихся он возвратит к очагу/ К вечному праву, где великое снова станет великим/ Господин – господином. Повиновение – повиновеньем. Он начертит/ Истинный символ на знамя народа. / Он поведёт через бурю и под литавр громыханье/ С ранней зарёй своих воинов верных на дело/ Светлого дня и Новое Царство воздвигнет»[250]. Примерно в это же время и Макс Вебер создал образ личности вождя-фюрера с его плебисцитарной легитимностью и правом на «слепое» подчинение ему, но в этом автор усматривал в первую очередь определённый элемент сопротивления бесчеловечным бюрократическим организационным структурам будущего. В целом же эпоха была подготовлена к явлению вождя-фюрера разными, далеко отстоящими друг от друга источниками и самыми различными мотивами – идея одинаково получает поддержку из необразованных, в большей степени подверженных эмоциям слоёв, и из поэзии, и из доводов науки.
Мысль о фюрере в том виде, как она развивалась в фашистских движениях, обрела свою актуальность вновь благодаря войне. Дело в том, что все эти движения поголовно считали себя не партиями в привычном смысле, а группами с воинствующим мировоззрением, «партиями над партиями», и борьба, которую они начинали под мрачными символами и с решительным выражением лиц, была не чем иным, как перенесением войны, – причём с помощью почти не изменившихся средств, – в сферу политики: «В настоящий момент мы находимся в состоянии продолжения войны», – неоднократно будет провозглашать Гитлер, а итальянский министр иностранных дел граф Чиано как-то скажет о фашистской «ностальгии по войне»[251]. Культом вождя было в условиях «фикции перманентной войны» не в последнюю очередь и перенесение принципов военной иерархии на внутреннюю организацию этих движений, а само явление фюрера представляло собой не что иное, как поднятую на сверхчеловеческую высоту, магически вознесённую потребностью в вере и стремлением к преданности фигуру офицера-командира. Маршировка по всем мостовым Европы демонстрировала убеждение, будто бы и проблемы общества эффективнее всего могут быть решены моделями наподобие военных. Именно их ригоризм и обладал мощной притягательной силой – прежде всего для ориентирующейся на будущее молодёжи, которая в войне, революции и хаосе открыла для себя веру в «геометричность» порядка.
Названные мотивы лежали в основе полумилитаризованных внешних форм этих движений, их обмундирования, ритуала приветствия и доклада, стойки «смирно», а также пёстрой, хотя и сводившейся к немногим элементам символики – преимущественно это крест (от креста Святого Олафа в норвежском «нашонал самлинг» до красного андреевского креста у национал-синдикалистов Португалии), либо стрелы, ликторские пучки, косы, – и все это непременно воспроизводилось как символ принадлежности на флагах, значках, штандартах и нарукавных повязках. Значение этих элементов состояло не только в отказе от старой буржуазной традиции ношения сюртуков и стоячих воротничков – скорее, они казались более точно отвечавшими строгому, техническому, наделённому чертой анонимности духу времени. Одновременно же обмундирование и военная атрибутика позволяли затушёвывать общественные антагонизмы и подниматься над серостью и эмоциональной нищетой цивильного быта.
Соединение мелкобуржуазных и военных элементов, столь характерное именно для национал-социализма, с самого начала придаёт НСДАП весьма своеобразный, двойственный характер. Он выражается не только в организационном размежевании между штурмовыми отрядами (СА) и Политической организацией (ПО), но и проявляется в вводящей в заблуждение разнородности её состава. Убеждённые идеалисты стоят тут в одном строю с оступившимися в социальном плане, с полууголовными и оппортунистами, образуя пёструю смесь из жажды дела, стремление выстоять, нежелания трудиться, поиска выгоды и иррационального активизма. Отсюда же родом и присущая большинству фашистских организаций подавленная консервативность. Ведь хотя они и заявляли, что служат разрушенному и оскорблённому миропорядку, но там, где это было в их власти, они демонстрировали лишённую традиций охоту к переменам. Характерной для них была единственная в своём роде мешанина из средневековья и нового времени, авангардистское восприятие, обращённое спиной к будущему и поселившее своё пристрастие к фольклору в заасфальтированных эмпиреях тоталитарного государства принуждения. В очередной раз снились им выцветшие сны их предков, и они славили то прошлое, в размытых контурах которого являлись им надежды на славное, ориентированное на территориальную экспансию будущее – в образе Римской империи, Испании его католического величества, Великой Бельгии, Великой Венгрии, Великой Финляндии. Вступление Гитлера на путь борьбы за гегемонию – наиболее планомерное, хладнокровное и реалистическое предприятие при поддержке целого арсенала современных технических средств – развёртывалось в обрамлении витиеватых реквизитов и символов, это была попытка завоевания мирового господства под знаком соломенной крыши и передававшегося по наследству крестьянского двора, под знаком народного танца, праздника солнцеворота и материнского креста. Томас Манн назвал это «взрывающейся архаичностью».[252]
И всё же за всем этим всегда стояло нечто большее, нежели какая-то лишённая рефлексов реакционная воля. То, на что претендовал Гитлер, было не больше и не меньше как исцеление всего мира. Он отнюдь не собирался просто вернуть добрые старые времена, а ещё меньше – их феодальные структуры, как это полагали сентиментальные реакционеры, которые в течение долгого времени будут сопровождать и поддерживать его на пути. То, что он взялся преодолеть, было не чем иным, как самоотчуждением человека, вызванным процессом развития цивилизации.
Правда, ставку при этом он делал не на экономические или социальные средства, которые презирал; подобно одному из апологетов итальянского фашизма, он считал социализм «омерзительным возбуждением предъявляющего свои права желудка»[253]. Скорее, его намерение нацеливалось на некое внутреннее обновление, где компонентами были кровь и потёмки души, т. е. не на политику, а на высвобождение инстинкта, – по своим замыслам и лозунгам фашизм представлял собой не классовую, а культурную революцию, и претендовал он на то, чтобы служить не освобождению, а избавлению людей. И вызванный им мощный резонанс, конечно же, объясняется ещё и тем, что он искал Утопию там, где, если следовать естественному движению человеческого духа, только и мог находиться во всех его ипостасях тот самый утерянный рай, – в архаичной, мифической первобытности. Доминирующий страх перед будущим усиливал тягу к перенесению всех апофеозов в прошлое. Во всяком случае, в фашистской «консервативности» проявлялось желание революционным путём повернуть историческое развитие вспять и ещё раз вернуться к отправной точке, в те лучшие, определяющиеся природой, гармоничные времена до начала вступления на ложный путь. В одном из писем 1941 года Гитлер напишет Муссолини, что последние пятнадцать столетий были не чем иным, как паузой, а теперь история собирается «вернуться на прежние пути». И если даже в его задачу не входило восстановление допотопных порядков, то восстановить их систему ценностей, их мораль перед лицом врывавшихся со всех сторон сил распада ему хотелось: «Наконец-то плотина против надвигающегося хаоса!» – так провозглашал Гитлер.[254]
Так что, вопреки всей революционной выразительности, национал-социализм никогда не был в состоянии скрыть свой оборонительный характер, являющийся его сутью и находящийся в очевидном противоречии с той смелой гладиаторской позой, которую он любил принимать. Конрад Хайден назвал фашистские идеологии «хвастовством во время бегства», «страхом перед восхождением, перед новыми ветрами и незнакомыми звёздами, протестом жаждущей покоя плоти против не знающего покоя духа»[255]. И именно этим оборонительным настроем было продиктовано высказывание самого Гитлера вскоре после начала войны против Советского Союза, что теперь он понимает, почему китайцы решили отгородить себя стеной, и у него вот тоже возникло искушение «помечтать о таком гигантском вале, который отгородит новый восток от среднеазиатских масс. Вопреки всей истории которая учит, что в огороженном пространстве наступает упадок сил».
Превосходство фашизма по отношению ко многим его конкурентам объясняется поэтому не в последнюю очередь тем, что он острее осознал суть кризиса времени, чьим симптомом был и он сам. Все другие партии приветствовали процесс индустриализации и эмансипации, в то время как он со всей очевидностью разделял страхи людей и пытался заглушить эти страхи, превращая их в бурное действо и драматизм и привнося в прозаические, скупые будни магию романтических ритуалов – факельные шествия, штандарты, черепа со скрещёнными костями, боевые призывы и возгласы «хайль!», «новую помолвку жизни с опасностью», идею «величественной смерти». Современные задачи он ставил людям в окружении маскарадных аксессуаров, напоминающих о прошлом. Но его успех объясняется ещё и тем, что он выказывал пренебрежение к материальным интересам и рассматривал «политику как сферу самоотречения и жертвы индивидуума ради идеи»[256]. Тем самым он полагал, что отвечает более глубоким потребностям, нежели те, кто обещал массам более высокую почасовую оплату. Кажется, он раньше всех своих соперников уяснил, что руководствующийся будто бы только разумом и своими материальными интересами человек, как это считали марксисты и либералы, был некой чудовищной абстракцией.
Вопреки всем своим однозначно реакционным чертам, он тем самым куда более действенно, нежели его антагонисты, стал соответствовать страстной тоске времени по коренному повороту; казалось, только он один и выражал ощущение эпохи, что все идёт совсем не так и что мир оказался на великом ложном пути. Меньшая притягательная сила коммунизма объяснялась не только его репутацией классовой партии и вспомогательного отряда чужеземной державы – скорее, тот навлекал на себя и смутное подозрение в том, что и сам-то был одним из элементов этого ложного пути и одним из возбудителей той болезни, за рецепт от которой он себя выдавал, – не радикальный отказ от буржуазного материализма, а лишь его инверсия, не слом несправедливого и неспособного строя, а обезьянье подражание ему и его зеркальное отражение, только вверх ногами.
Непоколебимая, порою кажущаяся экзальтированной уверенность Гитлера в своей победе и была ведь всегда в немалой степени продиктована его убеждённостью в том, что он – единственный истинный революционер, ибо он вырвался из тисков существующего строя и восстановил в правах человеческие инстинкты. В союзе с ними Гитлер и видел свою непобедимость, ибо они, в конечном счёте, всегда прорываются «сквозь экономические интересы, сквозь давление общественного мнения и даже сквозь разум». Конечно, обращение к инстинкту повлекло за собой немало проявлений неполноценности и человеческой слабости, да и традиция, честь которой хотел восстановить фашизм, была во многом только искажённым отражением оной, как и прославлявшийся им порядок – всего лишь театром порядка. Но когда Троцкий презрительно называл приверженцев фашизма «человеческой пылью»[257], он только демонстрировал этим характерную беспомощность левых в понимании людей, их потребностей и побуждений, что и имело своим следствием столь многочисленные заблуждения при оценке эпохи у тех, кто полагал, что лучше других понимает её дух и назначение.
И дело тут не только в потребности в романтике, которую удовлетворял фашизм. Порождённый страхом эпохи, он был стихийным восстанием за авторитет, мятежом за порядок, и противоречие, содержащееся в такого рода формулах, как раз и составляло его суть. Он был бунтом и субординацией, разрывом со всеми традициями и их освящением, народной общностью и строжайшей иерархией, частной собственностью и социальной справедливостью. Но все постулаты, которые он сделал своими, непременно включали в себя всевластный авторитет сильного государства. «Больше, чем когда бы то ни было, народы испытывают сегодня тягу к авторитету, управлению и порядку», – заявлял Муссолини.[258]
С презрением говорил он о «более или менее истлевшем трупе богини Свободы» и считал, что либерализм уже собирается «закрыть врата своих храмов, покинутых народом», потому что «весь политический опыт современности – антилиберальный». И в самом деле, по всей Европе, и прежде всего в странах, перешедших к системе либерального парламентаризма только в конце мировой войны, наблюдались растущие сомнения в способности этой системы к функционированию. Они проявлялись тем сильнее, чем решительнее эти государства устремляли свой шаг к современности. Ощущение, что средств либеральной демократии во взрывной и в силу обстоятельств кризисной обстановке переходной фазы недостаточно, а её возможности вести за собой обретшие самосознание массы слишком малы, распространялось с огромной быстротой. На фоне мелочных парламентских споров, игр и беспомощных вожделений многопартийного правления у людей пробуждалось старое желание оказаться перед fait accompli (свершившимся фактом), а не стоять перед выбором[259]. За исключением Чехословакии, в период между двумя мировыми войнами во всех государствах Восточной и Центральной Европы, а также во многих государствах Южной Европы система парламентаризма потерпела крах – в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Австрии, Италии, Греции, Турции, Испании, Португалии и, наконец, в Германии. К 1939 году осталось всего лишь девять государств с парламентской формой правления, причём многие из них, как Третья республика во Франции, находились в drole d'etat (странном положении), а некоторым другим придавала стабильность монархия, так что «фашистская Европа (была уже) в сфере возможного».[260]
Поэтому дело тут было не в агрессивной злобе какой-то одной нации, стремившейся перевернуть ситуацию в мире. Широкое настроение усталости, презрения и разочарования предвещало, поверх всех границ, расставание с веком либерализма. Оно происходило под знаком реакции и прогресса, тщеславия и бескорыстия. В Германии уже начиная с 1921 года не было в рейхстаге большинства, которое было бы по убеждению привержено парламентской системе. Либеральная мысль почти не имела поборников, но зато много потенциальных противников; им нужен был только толчок, зажигательный лозунг, вождь-фюрер.
Книга вторая
Путь в политику
Глава I
Часть немецкого будущего
Государство свихнулось. Если бы кто-то явился с Луны, он не узнал бы Германию, сказал бы: «И это прежняя Германия?»
Адольф Гитлер
Я высмеял бы любого, кто стал бы мне пророчить, что это – начало новой эпохи всемирной истории.
Конрад Хайден, вспоминая о годах учёбы в Мюнхене.
Эйснер и попытка революции в Мюнхене. – Организация контрреволюции. – Добровольческие отряды и группы самозащиты граждан. – Поручение войсковой команды рейхсвера. – Письмо Гитлера Адольфу Гемлиху. – Общество «Туле» и Немецкая рабочая партия. – «Самое главное решение моей жизни». – 16 октября 1919 г.: истинное пробуждение. – Шаг в люди. – Провозглашение 25 пунктов. – Решение стать политиком.
Сцена, на которую вступил Гитлер весной 1919 года, имела своим задником особые баварские условия. Из мельтешащей череды фигур, на мгновение выталкивающей под яркий свет рампы то одного, то другого актёра из их великого множества, постепенно начинает выделяться его бледное, невыразительное лицо. В этой суматохе революции и контрреволюции, среди всех этих эйснеров, никишей, людендорфов, лоссовых, росбахов и каров, никто не казался столь мало подходящим на роль избранника истории, на которую все они претендовали, нежели он, ни у кого не было столь ничтожно мало средств и более анонимной исходной позиции, и никто не казался таким беспомощным, нежели «один из тех, кто вечно торчал в казарме, не зная, куда себя деть»[261]. Потом он охотно назовёт себя «неизвестным ефрейтором первой мировой войны», пытаясь засвидетельствовать тем самым неожиданную для него самого, улавливаемую только в мифологизированных взаимосвязях природу своего восхождения, ибо три года спустя он был уже хозяином сцены, на которую вступил в первой половине 1919 года, если и не против своей воли, то все же поначалу весьма неуверенной походкой.
Ни один город в Германии не был так охвачен и потрясён революционными событиями, аффектами и противодействиями первых послевоенных недель, как Мюнхен. На два дня раньше, чем в Берлине, 7 ноября 1918 года, стремление нескольких леваков-одиночек улучшить мир свергло тысячелетнюю виттельсбахскую династию и внезапно вознесло их на вершину власти. Под руководством бородатого представителя богемы, театрального критика газеты «Мюнхен пост» Курта Эйснера они попытались – совсем в духе буквального прочтения ноты Вудро Вильсона – путём революционной смены ситуации «подготовить Германию к Лиге наций» и добиться для страны «мира, который избавит её от самого худшего».[262]
Однако слабость и непоследовательность американского президента, а также ненависть правых, сказывающаяся ещё и сегодня в отказе почитать память пришлых «бродяг без рода и племени» и швабингских большевиков, сорвали все планы Эйснера[263]. Уже сам факт, что ни он сам и ни один из этих новых людей не были баварцами, а, напротив, являли собой яркий тип антибуржуазного интеллигента, да притом нередко еврея, обрекал революционное правительство в этой пронизанной сословным духом земле на неудачу. К тому же режим наивного спектакля, установленный Эйснером, все эти беспрерывные демонстрации, публичные концерты, шествия с флагами и пламенные речи о «царстве света, красоты и разума» отнюдь не способствовали укреплению его позиций. Такое ведение государственных дел вызывало скорее столько же смеха, сколько и озлобления, но никак не симпатию, на которую рассчитывал Эйснер своим «правлением доброты», – утопические порядки, обладавшие на бумаге, из далёкой философской перспективы, такой силой воздействия, при соприкосновении с действительностью рассыпались в прах. И в то время как сам он с иронией именовал себя «Куртом I», как бы связывая себя с традицией свергнутого правящего дома, повсюду распевали песенку с издевательским припевом: «Революцья-люцья – во! Нам не надо ничего. Все заботы об одном – чтоб всё было кверху дном. Все перевернём!»
Даже критическое отношение Эйснера к экстремистским вождям Союза «Спартака» и таким агентам мировой революции как Левин, Левине и Аксельрод, его возражения анархистским фантазиям писателя Эриха Мюзама и пусть даже словесные уступки, которые он делал распространённым сепаратистским настроениям, распространённым в Баварии, никак не могли в этой ситуации улучшить его положение. После выступления на социалистическом конгрессе в Берне с признанием вины Германии в развязывании войны он сразу же оказался в эпицентре организованной кампании безудержных нападок, требовавшей его устранения и заявившей, что его время истекло. Сокрушительное поражение на выборах вынудило его вскоре вслед за этим принять решение об уходе. 21 февраля, когда он в сопровождении двух сотрудников направился в ландтаг, чтобы заявить о своей отставке, его застрелил двадцатидвухлетний граф Антон фон Арко-Валлей. Это был бессмысленный, ненужный и чреватый катастрофическими последствиями поступок.
Уже несколько часов спустя, во время панихиды по убитому, в здании ландтага ворвался левак Алоис Линднер, бывший мясником и кельнером в пивной, и, открыв дикую пальбу, застрелил министра Ауэра и ещё двух человек. Все собрание в панике разбежалось. Однако, вопреки тому, чего ожидал Арко-Валлей, общественное мнение в своём большинстве стало склоняться влево. У всех ещё в памяти было убийство Розы, Люксембург и Карла Либкнехта, и в новом преступлении увидели выражение стремления реакции вновь объединится и вернуть утраченную власть. В Баварии объявляется чрезвычайное положение и раздаётся призыв ко всеобщей забастовке. Когда часть студентов выступила в поддержку Арко-Валлея, считая его поступок героическим, университет был закрыт и начались многочисленные аресты – брали заложников, была введена беспощадная цензура, банки и общественные здания захватили отряды Красной армии, на улицах появились броневики и грузовики с солдатами, которые через громкоговорители кричали: «Отомстим за Эйснера!». В течение целого месяца вся исполнительная власть была сосредоточена в руках некоего Центрального совета во главе с Эрнстом Никишем, и только затем был сформирован парламентский кабинет. Но когда в начале апреля из Венгрии пришло известие о захвате там власти Белой Куном и провозглашении диктатуры пролетариата, что говорило о распространении советской системы уже и за пределы России, только что стабилизировавшаяся ситуация снова заколебалась. Под лозунгом «Германия идёт вслед!» меньшинство, состоявшее из леворадикальных утопистов и не имевшее массовой опоры, провозгласило в Баварии, вопреки очевидной воле граждан и вопреки её традициям и эмоциям, республику Советов. Поэты Эрнст Толлер и Эрих Мюзам опубликовали свидетельствовавший об их романтической оторванности от жизни и неспособности к руководству указ, в котором говорилось о превращении мира в «луг, усеянный цветами», где «каждый может срывать свою долю», упразднялись труд, субординация и правовая мысль, а газетам предписывалось публиковать на первых страницах рядом с последними революционными декретами стихотворения Гёльдерлина или Шиллера[264] Когда же Эрнст Никиш и большинство министров правительства, перебравшегося к тому времени в Бамберг, ушли в отставку, то государство оказалось вообще без руля и без ветрил, и не оставалось ничего, кроме путаного евангелия поэтов, хаоса и перепуганных обывателей. И тут власть захватила группа беспощадных профессиональных революционеров.
То, что происходило далее, забыть уже невозможно: комиссии по конфискации имущества, практика взятия заложников, поражение буржуазных элементов в правах, революционный произвол и растущий голод вызвали в памяти столь недавние страшные картины Октябрьской революции в России и оставили такой след, что их не вытеснили потом и кровавые преступления ворвавшихся в начале мая в Мюнхен соединений рейхсвера и добровольческих отрядов, когда были убиты в Пуххайме пятьдесят выпущенных на свободу русских военнопленных, безжалостно уничтожена на железнодорожной насыпи у Штарнберга санитарная колонна армии Советов, захвачен в своём мюнхенском помещении двадцать один ни в чём не повинный член союза подмастерьев-католиков (их бросили в тюрьму на Каролиненплац и там расстреляли по приговору полевого суда), а также безвинно ликвидированы двенадцать рабочих из Перлаха, причисленных потом следствием к числу ста восьмидесяти четырех лиц, погибших «по собственному легкомыслию и роковому стечению обстоятельств», и, наконец, зверски убиты или расстреляны вожди советского эксперимента Курт Эглхофер, Густав Ландауэр и Евгений Левине – все они вскоре оказались забытыми, потому что была заинтересованность в этом забвении. А вот восемь заложников, членов общества праворадикальных заговорщиков «Туле», содержавшихся в подвале гимназии Луитпольда и ликвидированных в ответ на эти бесчинства какой-то мелкой сошкой, остались в общественном сознании ещё на много лет одной из тщательно пестовавшихся устрашающих картин. Где бы ни появились вступившие войска, читаем мы в одном дневнике того времени, повсюду «люди машут платками, высовываются из окон, аплодируют, восторг царит неописуемый… все торжествуют»[265]. Из земли революции Бавария стала землёй контрреволюции.
В более трезвых и стойких буржуазных кругах этот опыт первых послевоенных месяцев пробудил новое самосознание. Растерянная и в общем-то весьма и весьма маломощная воля революции продемонстрировала бессилие и концептуальное замешательство левого крыла, явно имевшего в своём распоряжении больше революционного пафоса, нежели революционного мужества. И если в мире социал-демократии оно показало себя энергичным фактором порядка, то в попытке правления Советов в Баварии обернулось прямо-таки фантастической стихией, не имевшей никакого представления ни о власти, ни о народе. Впервые в те месяцы буржуазия, или хотя бы её наиболее уравновешенная часть, осознала, что она нисколько не слабее хвалёного, окружённого аурой непобедимости, но, собственно говоря, простодушного рабочего класса.
И это новое самосознание стремились привить буржуазии главным образом вчерашние фронтовики-офицеры среднего звена – все эти жаждавшие дела капитаны и майоры. Говоря словами Эрнста Юнгера, они наслаждались войной, как вином, и были все ещё опьянены ею. Несмотря на многократное превосходство противника, они не чувствовали себя побеждёнными. Призванные правительством на помощь, они укротили бунтовщиков и строптивые солдатские советы и подавили советский эксперимент в Баварии; они выполняли функции по охране незащищённых восточных границ Германии, и в первую очередь с Польшей и Чехословакией, до того как Версальский договор и положения о стотысячной армии не перечеркнули их будущего; теперь они чувствовали себя обманутыми, социально приниженными и уязвлёнными в национальном плане. Своеобразное сочетание самоосознания и чувства потерянности толкает их отныне в политику. К тому же многие уже не хотят или не могут расстаться с прекрасной беспорядочностью солдатской жизни, военным ремеслом и мужским товариществом. Обладая превосходным опытом и принесённой с войны практикой планомерного применения силы, они организовывают отпор революции – давно уже подавленной и утонувшей в страхе и потребности нации в порядке.
Частные милитаризованные отряды, возникавшие повсюду, вскоре превратили отдельные регионы в военные лагеря ландскнехтов, драпированные национальными цветами, и окружённые ореолом политических сражений. Опираясь на реальную силу пулемётов, ручных гранат и пушек, бывших в их распоряжении и вскоре рассредоточенных в состоянии боевой готовности на тайных складах оружия по всей стране, они, пользуясь бессилием политических институтов, обеспечивали себе в некоторых регионах весьма значительную долю власти. В частности, в Баварии они могли – в качестве реакции на злополучный опыт времени Советов – разворачивать свою деятельность почти беспрепятственно: «Организовать всеми средствами противодействие революции», – так гласило одно из указаний социал-демократического правительства в период правления Советов[266], Рядом с рейхсвером, а порою и незаметно срастаясь с ним, действовали, опираясь на такого рода поощрения, добровольческий отряд барона фон Эппа, затем союз «Оберланд», объединение офицеров «Железный кулак», «Организация Эшериха», Немецкий народный союз защиты и борьбы, объединение «Флаг старого рейха», добровольческие отряды Байрейт, Вюрцбург и Вольф, отряды особого назначения Богендерфера и Пробстмайра, а также многочисленные другие организации тщеславного и одновременно боящегося политической и военной нормализации своеволия.[267]
Однако все эти союзы находили поддержку не только правительства и государственной бюрократии, но и в настроении широких народных слоёв. Одной из поразительных странностей общества, воспитанного на солдатских традициях, является то, что носители индивидуальных аффектов могут обрести особые национальные и моральные полномочия, коль скоро они облачают своё негодование в форму и пускают его маршировать по улицам. На фоне хаотической сумятицы революции и Советов военное формирование уже само по себе казалось образцовым антиподом всему этому, антиподом, выражающим идею жизни и порядка и заслуживающим всемерной поддержки. В строгом равнении, чётко отбивая шаг, проходят по Людвигштрассе части добровольческого отряда Эппа, а вот и подразделения бригады Эрхардта, принёсшие из сражений в Прибалтике эмблему, упоминаемую в походной песне этой части: «Свастикой украшен шлем стальной…». Всей своей примечательной силой они олицетворяли в глазах общественного сознания нечто такое, что говорило о славных и спокойных временах, ставших ныне лишь предметом ностальгических воспоминаний. И это было лишь отражением господствовавшего мнения, когда в одной из основополагающих директив Баварской четвёртой войсковой команды в июне 1919 года рейхсвер именовался «краеугольным камнем», на котором следовало строить «разумную новую основу всех внутригосударственных отношений», а отсюда делался вывод о необходимости активной и широко разветвлённой пропагандистской деятельности. В то время как партии левого крыла в своей наивности переносили своё негативное отношение к войне и бойне народов и на солдат, переживших все её ужасы и жертвы на своей шкуре[268], правый фланг в своей обработке тех же солдат апеллировал к их уязвлённой гордости и потребности в достоверном объяснении того, почему многие их надежды так и не сбылись.
В ряду разнообразных мероприятий, которые организовывались, в частности, разведывательно-пропагандистским отделом войсковой команды под начальством энергичного капитана Майра, были и курсы «гражданственности»; именно на них и откомандировали Гитлера после успешного выполнения им задания по выявлению сторонников Республики Советов. Целью читавшихся на этих курсах в аудиториях университета известными и благонадёжными в плане национальных убеждений преподавателями лекций с тщательно отработанной тематикой было просвещение слушателей главным образом в области истории, экономики и политики.



