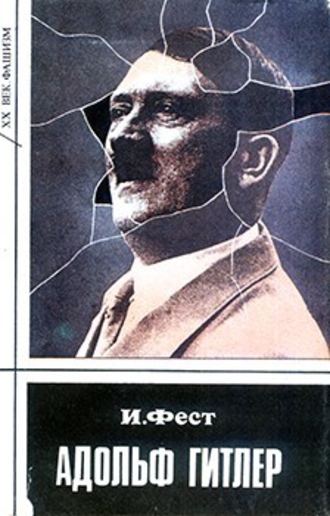
Иоахим Фест
Адольф Гитлер (Том 1)
Этой защитной реакции на угрозу марксистской революции национал-социализм и будет в значительной степени обязан своим пафосом, агрессивностью и внутренней сплочённостью. Цель НСДАП, как неустанно будет повторять Гитлер, «формулируется абсолютно коротко: уничтожение и истребление марксистского мировоззрения», а именно – путём пропаганды и просвещения», а также с помощью движения, обладающего «беспощадной силой и свирепой решимостью, готового противопоставить террору марксизма в десятки раз больший террор»[223]. Сходного рода соображения побудили примерно в то же время и Муссолини создать свои «Fasci di combafttimento» (боевые отряды), по которым эти новые движения и стали называть «фашистами».
И всё же один только страх перед революцией был бы не в состоянии развить ту огромную и все возраставшую тенденцию, которая сумела поставить под сомнение названную всемирную тенденцию, – тем более, что для многих революция несла и определённую надежду. Было нужно появление более сильного, действующего с большой стихийностью импульса. Марксизм действительно внушал страх, но лишь как революционный авангард куда более широкого и направленного против традиционных представлений наступления, – актуального, политического проявления некой прямо-таки метафизической идеи переворота, «объявления войны европейской… культурной мысли»[224]. Сам же марксизм являлся только драматическим полотном, на котором наглядно проступал страх эпохи.
Этот страх и был, возвышаясь над идеями просто политического переворота, доминирующим и главным ощущением времени. В нём таилось предчувствие того, что с окончанием войны пришло расставание не только с довоенной Европой с присущими ей величием, интимностью, монархиями и гарантированными закладными, но и с целой эпохой; с кончиной старых форм господства наступил конец и привычному образу жизни. Волнение, радикализм политизированных масс, революционные беспорядки воспринимались в подавляющей степени уже не только как послеродовые боли войны, но и как провозвестие подобного незваному гостю и хаосом вторгающегося в жизнь времени, где потеряет авторитет все то, что сделало Европу великой и надёжной: «Поэтому у нас такое чувство, будто земля уходит из-под наших ног».[225]
Действительно, редко какая эпоха ощущала так отчётливо свою собственную гибель. Война значительно ускорила этот процесс и одновременно породила это всеобщее ощущение. Впервые получила Европа представление о том, как будет выглядеть форма жизни будущего. Пессимизм, который столь долгое время был доминирующим чувством меньшинства, нежданно-негаданно стал главным настроением всего времени. Оно обнаружило себя, как гласило название одной известной книги, «В тени завтрашнего дня».
Отбрасываемая этой тенью темнота сгущалась. Война привела к появлению в экономике новых гигантских форм её организации, благодаря которым капиталистический строй осознал свои возможности. Рационализация и конвейер, тресты и корпорации делали как никогда очевидной структурную слабость всех малых образований. Уже в течение тридцатилетия, предшествовавшего мировой войне, число самостоятельных хозяев уменьшилось в крупных городах примерно вдвое, теперь же их доля сокращается ещё быстрее, тем более, что их материальная база была подорвана войной и инфляцией. Жупелы общества анонимной конкуренции, засасывающего, высасывающего и выбрасывающего одиночку, воспринимаются теперь во всей их наглядности и выливаются в многочисленных анализах современной ситуации в страх перед гибелью возможности индивидуального существования вообще: индивидуум растворяется в функции, человек включается как «бессознательная машина» в некие необозримые процессы – все это проходит красной нитью через получившую широкое распространение литературу неприятия происходящего: «Кажется, кроме страха, не существует больше ничего».[226]
Этот страх перед нормированными, подобными жизни термитов формами существования нашёл своё выражение и в протесте против усиливающейся урбанизации, против ущелий домов и «стен серых городов», а также в жалобах на разрастающуюся, как плесень, промышленность, заслонившую фабричными трубами тихие долины, – перед лицом безжалостно проводимого «превращения всей планеты в единую фабрику по использованию её сырья и энергии» впервые в широких Массах была поколеблена вера в прогресс; цивилизация разрушает мир, – гласит протест, – земля превращается «в разбавленное сельским хозяйством Чикаго»[227]. И именно страницы «Фелькишер беобахтер» первых лет её издания кишмя кишат яркими свидетельствами этого страха перед гибелью того, что было таким своим и близким. «До какой же величины дойдут наши города, – говорится в одной из статей, – прежде чем начнётся противоположное движение, когда снесут казармы, разрушат каменные громады, проветрят пещеры и… насадят сады между стенами и дадут человеку вздохнуть?» Строения из готовых деталей, машины жилья Ле Корбюзье, стиль «Баухауза», мебель из стальных трубок, весь этот, как гласил девиз времени, «технический конструктивизм» вызывал сопротивление приверженного традициям сознания, способного увидеть тут только своего рода «тюремный стиль»[228]. Эмоциональная отрицательная реакция на современный мир сказалась в 20-е годы и в широком движении за поселения, и в первую очередь в создании «союзов артаманов», противопоставлявших счастье простой жизни на лоне земли «цивилизации асфальта», а естественные связи людей – потерянности человека в массовом мире городов. Наиболее же чувствительно задевал резкий и вызывающий разрыв с существующими нормами в сфере морали. Брак, говорилось в некой «Социальной этике коммунизма», есть не что иное, как «дурное отродье капитализма», революция ликвидирует его точно так же, как и аборты, гомосексуализм, бигамию и кровосмешение[229]. Но для восприятия самых широких буржуазных средних слоёв, всегда рассматривавших себя как «представителей и хранителей нормальной морали» и видевших в покушении на неё личную угрозу самим себе, брак как простой акт регистрации – а именно так понимался он первоначально в Советском Союзе – был столь же неприемлем, как и «теория стакана воды», согласно которой сексуальная потребность является такой же элементарной потребностью, как и жажда, и удовлетворяется без всяких церемоний. Фокстрот и короткие юбки, погоня за наслаждениями в этой «клоаке рейха – Берлине», «похабные картинки» сексопатолога Магнуса Хиршфельда и мужские типы того времени («резиновый кавалер на креповых подошвах в брюках „чарльстон“ и с причёской „шимми“ – гладким зачёсом назад») были для широкого сознания безнравственными, что, правда, весьма трудно понять вне исторического контекста. Пользовавшиеся широчайшей популярностью театральные постановки 20-х годов провокационно увлекались такими темами как отцеубийство, кровосмешение и преступление; глубоким симптомом времени было высмеивание самих себя. Так, в заключительной сцене оперы Брехта и Вайля «Махагони» исполнители выходили к рампе и демонстрировали на плакатах лозунги «За хаос в наших городах!», «За продажную любовь!», «Честь и слава убийцам!», «За бессмертие пошлости!»[230]
В изобразительном искусстве революционный прорыв произошёл ещё до первой мировой войны, и сам Гитлер был нейтральным свидетелем этого сначала в Вене, а затем в Мюнхене. Но то, что первоначально воспринималось как оригинальничанье кучки фантазёров, видится теперь, на фоне потока полотен о перевороте, революции и избавлении, объявлением войны традиционной европейской картине человека. Фове, «Голубой всадник», «Брюкке», «Дада» – все это кажется столь же радикальной угрозой, как и революция; это ощущение внутренней связи зафиксировано в популярном термине «культур-большевизм». Соответственно и защитная реакция была не только такой же страстной, но и пронизанной все той же нотой страха перед анархией, произволом и бесформенностью; как гласил тогдашний характерный вердикт, современное искусство – это «царство хаоса»[231], и все эти симптомы выливаются в единое в своём многообразии полотно страха, для которого модный пессимизм того времени нашёл формулировку «Закат Европы». И можно ли было не ожидать в страхе того дня, когда все эти чувства неприятия выльются в акт отчаянного сопротивления?
Радость разрушения устарелых или скомпрометированных социальных и культурных форм спровоцирует консервативный темперамент немцев в особой степени – ведь быстро проявлявшее себя сопротивление этому могло здесь сильнее, чем где бы то ни было, опираться на настроения и аргументы конца XIX века. Процесс технической и экономической модернизации произошёл в Германии позднее, быстрее и радикальнее, чем в других странах, а решимость, с которой Германия проводила промышленную революцию, была, по формулировке Торстейна Веблена, «среди европейских стран беспримерной»[232]. По той же причине этот процесс вызвал тут дикую боязнь поражения и породил мощнейшие ответные реакции. Вопреки широко распространённому мнению Германия, превратившаяся в прямо-таки неразрывный сплав достижений и упущений, в коем соединились элементы феодализма и прогресса, авторитарности и социального государства, могла в канун первой мировой войны, пожалуй, по праву претендовать на звание самого современного в промышленном отношении государства Европы.
Только за последнюю четверть века её валовой национальный доход увеличился более чем вдвое, а доля населения с подлежащим налогообложению минимумом доходов выросла с тридцати до шестидесяти процентов, и выплавка стали, к примеру, ещё в 1887 году составлявшая только половину того, что выплавлялось в Англии, возросла почти в два раза. Покорялись колонии, строились города, создавались промышленные империи, число акционерных обществ увеличилось с 2143 до 5340, а товарооборот гамбургской гавани вышел, по мировой статистике, на третье место – позади Нью-Йорка и Амстердама, но впереди Лондона. В то же время управление страной было достаточно корректным и экономным и обеспечивало, вопреки всем антилиберальным вкраплениям, в немалой степени внутреннюю свободу, соблюдение законности и социальную защищённость.
Так что печать анахронизма на портрете кайзеровской Германии в целом объясняется отнюдь не экономическими явлениями, равно как и не её многоликими феодальными структурами. Над этой занятой своими делами и, казалось бы, так уверенной в своём завтрашнем дне страной, над её растущими крупными городами и промышленными районами довлел некий своеобразный романтический небосвод, тёмный купол которого населяли мистические образы, древние герои и боги, – отсталость Германии имела идеологическую природу. Конечно, в немалой степени к этому приложили свою руку академический обскурантизм, фольклор германистов, а также потребности в украшательстве со стороны того слоя буржуазии, которому так хотелось поверх материальных целей; кои он преследовал с такой неугомонностью и динамизмом, увидеть более высокие ориентиры. Но в то же время за всеми этими пристрастиями постоянно ощущалась бюргерская строптивость в культурной сфере по отношению как раз к тому современному миру, возведению которого помогали столь энергично и успешно, – это была своего рода оборонительная жестикуляция в адрес новой, лишённой поэзии реальности, имевшая своим истоком не дух скептицизма, а дух пессимистического романтизма, и позволявшая распознавать в себе латентную готовность к контрреволюционному протесту.
Это противодействие проявит себя в первую очередь в настроениях критики в адрес цивилизации и найдёт своих апологетов в таких авторах как Пауль де Лагард, Юлиус Лангбен и Ойген Дюринг. Конечно, обличавшееся ими недомогание относилось к симптомам общецивилизационного кризисного настроения, представлявшего собой реакцию на лишённый фантазии, прагматический оптимизм эпохи. На рубеже веков оно наделало немало шума как в Соединённых Штатах, так и во Франции, привлекло внимание к делу Дрейфуса, к «Аксьон франсэз», к манифестам Морраса и Барреса. Габриеле д'Аннунцио, Энрико Коррадини, Мигель Унамуно, Дмитрий Мережковский и Владимир Соловьёв, Кнут Гамсун, Якоб Буркхардт и Дэвид Герберт Лоуренс стали, при всех их индивидуальных различиях, выразителями сходных страхов и противодействий. Однако в Германии этот, подобный вторжению и чрезвычайно глубокий перелом, так внезапно перебросивший страну из её бидермайера[233] в модерн и требовавший при этом все новых разрывов и расставаний, придал здешнему протесту несравнимую с остальной Европой экзальтированную окраску, где страх и отвращение по отношению к действительности сочетались с романтической тоской по канувшим в Лету идиллическим порядкам.
И эта традиция тоже пришла издалека. Страдание по поводу «опустошений», приносимых процессом цивилизации, можно было проследить до Руссо или «Вильгельма Майстера» Гёте. Апологеты этого неприятия презирали процесс и не без гордости признавались в своей – не от мира сего – отсталости; все они были наблюдателями вне своего времени, стремившимися, как писал Лагард, увидеть такую Германию, которой никогда не было и, может быть, никогда и не будет. Ко всем фактам-возражениям они относились с высокомерным пренебрежением и горько сетовали на «одноглазый разум». Свой порою весьма остроумный иррационализм они обращали против биржевого дела и урбанизации, принудительных прививок, мирового хозяйства и позитивистской науки, против «коммунизации» и первых аэропланов – короче говоря, против всего процесса эмансипации современного мира, того процесса, из проявлений которого они рисовали общее полотно катастрофического «заката души».
Будучи «пророками озлобленной традиции», они жаждали прихода дня, когда будет положен конец опустошению и «старые боги вновь выйдут из вод».
Противопоставлявшиеся ими новому времени представления о ценностях, включали в себя естественность, искусство, прошлое, аристократию и любовь к смерти, а также право сильной цезаристской личности. Бросается в глаза, что этот протест, содержавший сетования по поводу упадка немецкой культуры, нередко был пронизан идеями империалистического мессианства, в которых страх обращался в агрессию, а отчаяние искало утешения в величии. Самая известная книга, выразившая эту тенденцию времени, принадлежала перу Юлиуса Лангбена и называлась «Рембрандт-воспитатель». Вышедшая в свет в 1890 году, она пользовалась невероятным успехом и уже за полтора-два года насчитывала до сорока переизданий. Такая широкая популярность этого эксцентричного свидетельства паники, антисовременности и националистического мессианского бреда приводит к мысли, что сама книга была выражением того кризиса, который она изгоняла своими заклинаниями с такой страстью и ожесточением.
Чуть ли не ещё более чреватым последствиями нежели соединение враждебного отношения к цивилизации с национализмом эпохи явилась – как это уже имело место с социал-дарвинистскими и расистскими теориями – смычка этих чувств с антидемократическими идеями. И это было диагнозом, свидетельствовавшим о болезни того либерального западного общества, которое основало свой политический строй на принципах Просвещения и Великой французской революции. Этот поворот носил общеевропейский характер, так, «в частности, во Франции и в Италии», как писал позднее Жюльен Бенда, около 1890 года писатели «с поразительной проницательностью осознали, что доктрины абсолютного авторитета, дисциплины, традиции, отрицания духа свободы, утверждения нравственной оправданности войны и рабства дали возможность занять гордые и несгибаемые позиции, и в то же время они в значительно большей степени отвечали представлениям простых людей, нежели сентиментальные либерализм и гуманизм»[234]. И хотя страдание по поводу модерна, было, несмотря на все литературные успехи, все ещё делом лишь какого-то исключительного меньшинства, эти настроения – снова говоря о Германии – постепенно станут, и в первую очередь через молодёжное движение, которое было не просто ими охвачено, а стало прямо-таки фанатическим и чистым их выражением, сказываться всё сильнее и сильнее. «Вся великая тяга немцев, – опишет эту позицию Фридрих Ницше, – направлялась против Просвещения и против революции в обществе, которая с грубым непониманием принималась за следствие первого: пиетет по отношению ко всему ещё существующему пытался обратиться в пиетет по отношению ко всему, что существовало, только чтобы вновь наполнились сердце и дух и не оставили в себе места для будущих и обновляющих целей. На месте культа разума был воздвигнут культ чувства…»[235]
И, наконец, враждебные цивилизации настроения времени сомкнутся и с антисемитизмом. «Немецкий антисемитизм реакционен, – такой вывод сделает в 1894 году из обширных, проводившихся по всей Европе исследований Герман Бар, – это бунт маленьких бюргеров против промышленного развития»[236]. Постановка знака равенства между евреями и модерном и впрямь не была лишена оснований, равно как и утверждение об их особой приспособляемости к условиям капиталистической экономики, построенной на конкуренции. Вот это и являлось двумя сильнейшими мотивами всех страхов за будущее. Вернер Зомбарт напишет даже, что «еврейская миссия» заключается в том, чтобы «ускорить переход к капитализму… (и) устранить пока ещё сегодня законсервированные остатки докапиталистической организации, разлагая последние ремесла и ремесленного толка торговлю»[237] (193). На фоне этого развития традиционно мотивировавшаяся религиозными причинами ненависть к евреям становится во второй половине XIX века антисемитизмом, обосновывающимся уже причинами биологическими или социальными. В Германии для популяризации этой тенденции особенно много сделают философ Ойген Дюринг и неудавшийся журналист Вильгельм Марр (в своём труде под характерным заголовком «Победа иудеев над германцами, рассмотренная с неконфессиональной точки зрения. Via Victis![238]), но те же рефлексы были характерны и для Европы в целом. Антисемитизм в Германии был, несомненно, не более интенсивен, чем во Франции, и, уж конечно же, куда слабее, чем в России или в Австро-Венгрии, в антисемитских публикациях того времени то и дело встречаются сетования на то, что их идеи при столь широком распространении не могут все же похвастаться успехом. Но в ту пору, когда иррациональные ожидания бродили повсюду, как бездомные собаки, антисемитизм именно по причине содержавшейся в нём полуправды представлял собой питательную среду для распространения дурных настроений, хотя он и не был ничем иным, как возведённым в мифологическую степень проявлением страха. Воздействие и резонанс творчества Рихарда Вагнера как раз и состоят в том, что он, как никто другой, мобилизовал магию искусства против явственно просматривавшегося во всех этих явлениях процесса снятия чар и что это настроение времени, переведённое на язык мифа, обрело в его творчестве всепокоряющий эффект – тут и пессимизм по отношению к будущему, и осознание наступающего господства золота, и расовый страх, и трепет перед грядущим веком плебейской свободы и уравниловки, и предчувствие близящегося заката.
Многообразные самоуничижительные аффекты буржуазного времени будут, наконец, выпущены на свободу и одновременно радикализованы войной; она вернёт бытию утерянную в безрадостных буднях цивилизации возможность неслыханного самовозвышения, узаконит насилие и уготовит триумфы разрушению, явится, как писал Эрнст Юнгер, с помощью огнемётов «великим очищением через ничто»[239]. Война и была как раз отрицанием либеральной и гуманистической идеи цивилизации. Чуть ли не магическая сила военных впечатлений, тоже освещённых соответствующей литературой европейского покроя и ставших опорными пунктами разнообразнейших концепций обновления, имела своим истоком именно этот опыт. Одновременно война научила тех, кто назовёт потом себя её наследниками, смыслу и преимуществу быстрых и единоличных решений, абсолютного подчинения и одинакового образа мыслей. Компромиссный характер парламентских режимов, их слабость в принятии решений и их частый паралич не обладали притягательной силой для поколения, вынесшего с войны миф об отлично слаженном боевом коллективе.
Только с учётом всех этих взаимосвязей можно понять, почему провозглашение демократической республики и включение Германии в систему послеверсальского мира было воспринято отнюдь не просто и не только как результат поражения. Для сохранивших свою силу настроений неприятия цивилизации и то, и другое означало не просто изменение политического положения, а грехопадение, некий акт метафизического предательства и глубокой измены самому себе, ибо в жертву сложившимся в данный момент обстоятельствам приносилась Германия, романтичная, погруженная в раздумья и чуждая политике Германия, которую теперь отдавали на заклание той самой идее западной цивилизации, что несла угрозу уже самой её сути. Примечательно, что «Фелькишер беобахтер» назвала Версальский договор «сифилитическим миром», который, как и эта болезнь, «рождается от короткого запретного удовольствия, начавшись с маленькой твёрдой опухоли, поражает постепенно все члены и суставы, да и всю плоть, включая сердце и мозг согрешившего»[240]. Страстное, принципиальное неприятие «этой системы» вытекало именно из нежелания оказаться в составе ненавистной «империи цивилизации» со всеми её правами человека, демагогией насчёт прогресса и страстью просвещать, с её тривиальностью, испорченностью и тупыми апофеозами благосостояния. Немецкие же идеалы верности, божьего милосердия, любви к отечеству оказались, как это сказано в одном из многочисленных жалобных писаний того времени, «безжалостно выкорчеванными в бурях революционных и послереволюционных времён», а на их место пришли «демократия, движение нудистов, безудержный натурализм, товарищеский брак».[241]
И во все годы существования республики наблюдается – в том числе и среди правой интеллигенции, продолжавшей враждебную традицию вильгельмовской эры по отношению к цивилизации, – тяга к союзу с Советским Союзом, вернее, с Россией, бывшей, как материнское чрево, сердцевина, «четвёртое измерение», предметом эмфатических ожиданий. В то время как Освальд Шпенглер призывает к борьбе против «внутренней Англии», Эрнст Никиш, другой апологет сопротивления во имя духовной идентичности нации, пишет: «Пора немецкому пробуждению обратить взоры на восток… ход на запад был немецким нисхождением; поворот на восток будет снова восхождением к немецкому величию». «Мелкотравчатому либерализму» противопоставляется «прусско-славянский принцип», а столице Лиги наций Женеве – «ось Потсдам – Москва». Страх засилья над немецким духом материалистического и демифологизированного западного мира оказывается тут сильнее страха перед угрозой всемирного коммунистического господства.
Первая послевоенная фаза явилась катализатором не только страха перед революцией, но и чувства отрицания цивилизации, а они, в свою очередь, породили синдром необычайного динамизма. Тот же слился с комплексами страха и обороны потрясённого до самых основ общества, утратившего своё национальное самосознание, благополучие, авторитеты, а также всю систему сверху донизу, и в слепом ожесточении жаждавшего получить назад то, что, казалось, было отнято несправедливо. Эти всеобщие чувства недовольства ещё более усугублялись и обретали дополнительный радикализм наличием множества неудовлетворённых групповых интересов. Подверженность великой мании тотального критиканства проявляет в первую очередь непрерывно растущий слой служащих, ибо промышленная революция перекинулась теперь уже и на конторы и сделала вчерашних «унтер-офицеров капитализма» последними жертвами «современного рабства»[242], к тому же у них, в отличие от рабочих, никогда не было собственной классовой гордости и уж тем более какого-то рода утопии, которая бы выводила из катастроф существующего строя благие предзнаменования для них самих. Не менее восприимчивыми оказываются и ремесленники из среднего сословия с их страхом перед засильем крупных предприятий, универсальных магазинов и конкурирующей рационализацией; то же самое касается и широких слоёв сельскохозяйственного населения, привязанных традиционной неповоротливостью и отсутствием средств к давно уже изжившим себя структурам, а также многих людей с высшим образованием и вчера ещё солидных, разорившихся буржуа, оказавшихся сегодня затянутыми в омут пролетаризации. Без средств к существованию «тут же становишься изгоем, деклассированным элементом; быть безработным – это все равно, что быть коммунистом», – так заявил один такой потерпевший крушение во время одного из проводившихся в те времена опросов[243]. Никакая статистика, никакие данные об уровне инфляции, о количестве самоубийств и числе пошедших с молотка хозяйств не могут передать чувства тех, кто оказался под угрозой безработицы, нищеты, потери места, или же выразить опасения другой стороны – тех, кто ещё чем-то владел и страшился взрыва накапливающегося недовольства. Общественные учреждения с их вечной беспомощностью были не в силах застраховать от коллективного чувства злобы, подспудно бродившего повсюду, тем более, что со времени Лагарда и Лангбена страх вышел за рамки заклинаний и проповедей – война дала ему в руки оружие.
В дружинах самообороны и добровольческих отрядах, создававшихся в большом числе, частично по личной, частично по скрытой государственной инициативе, преимущественно для отпора угрозе коммунистической революции, сорганизовался один из тех элементов, которые с угрюмым, но решительным настроем были готовы сопротивляться при всех обстоятельствах и высматривали ту волю, которая повела бы их в новый порядок. Поначалу была ещё, помимо этого, и огромная масса вчерашних фронтовиков, тоже представлявших собой резервуар воинственной энергии. Многие из них влачили бесцельное солдатское существование в казармах, что создавало впечатление их растерянного, затянувшегося прощания с амбициозными мечтами военной молодости. В окопах на фронте и те, и другие приблизились к очертаниям какого-то нового, ещё до конца не ясного смысла жизни, который они тщетно пытались теперь обрести вновь в налаживающейся с трудом нормальности послевоенного времени. Не ради же этого немощного, опрокинутого последним из вчерашних врагов режима с его заёмными идеалами сражались и страдали они четыре года. И ещё они страшились, имея за плечами более взыскательный опыт существования на войне, деклассирующей силы бюргерской обыденности.
Гитлер придаст этим чувствам недовольства, как среди гражданских, так и среди военных, единение, руководство и движущую силу. Его появление и впрямь кажется синтезированным продуктом всех этих страхов, пессимистических настроений, чувств расставания и защитных реакций, и для него война была могучим избавителем и учителем, и если и есть некий «фашистский тип», то именно в нём он и нашёл своё олицетворение. Ни один из его приверженцев, которых он после несколько затянувшегося старта быстро начнёт собирать, не выразит все главные психологические, общественные и идейные мотивы движения так, как он; он всегда был не только вождём этого движения, но и его экспонентом.
Уже опыт ранних лет помог ему узнать то всеподавляющее чувство страха, которое сформирует всю систему его мыслей и чувств. И именно оно, это чувство, лежит в основе почти всех его высказываний и поступков – страх, насторожённым зверем притаившийся во всём и имевший столь же будничные, сколь и космические размеры. Многие ранние свидетели, от его крёстного отца в Линце до Августа Кубицека и Грайнера, обрисовали его бледное, «испуганное» естество, представлявшее подходящую почву для проявившейся у него уже в ранние годы тяги к безудержным фантазиям. И его «постоянный страх» перед соприкосновением с чужими людьми является тут вполне объяснимым, равно как и его крайняя недоверчивость или же ставшая потом маниакальной чистоплотность[244]. Тот же комплекс был и источником часто выражавшейся им, как мы знаем, боязни заразиться венерической болезнью, боязни любой инфекции вообще: «Микробы просто набрасываются на меня», – считал он[245]. Он был охвачен привитым австрийским пангерманским движением страхом перед чужим засильем, перед «нашествием подобных саранче русских и польских евреев», перед «превращением немецкого человека в негра», перед «изгнанием немца из Германии» и, наконец, перед «полным истреблением» последнего; он велел напечатать в «Фелькишер беобахтер» одно якобы французское солдатское стихотворение с повторяющейся, как рефрен, строчкой: «Мы поимеем, немцы, ваших дочерей!» Но беспокойство у него вызывали также и американская техника, и цифры растущей рождаемости у славян, и крупные города, и «столь же безудержная, сколь и вредная индустриализация», и «коммерциализация нации», и анонимные акционерные общества, и «трясина культуры удовольствий в крупных городах», равно как и современное искусство, стремящееся голубыми лугами и зелёными небесами «убить душу народа». Куда бы он ни взглянул, он всюду открывал «явления разложения медленно догнивающего мира» – в его представлениях присутствуют буквально все элементы упомянутой пессимистической критики цивилизации.[246]
Что объединяло Гитлера с ведущими фашистскими деятелями других стран, так это решимость, с которой они стремились противостоять этому процессу. А выделяла его та маниакальная исключительность, с которой он сводил все элементы когда-либо испытанного страха к одному-единственному их виновнику – в фокусе его доведённой до исполинских размеров концентрации страха стояла чёрная и волосатая кровосмесительная фигура еврея, дурно пахнущая, плотоядная и охочая до белокурых девиц, но, как с беспокойством говорил сам Гитлер даже летом 1942 года, «в расовом отношении более крепкая»[247]. Поражённый до самого нутра своим гибельным психозом, Гитлер видит Германию объектом некоего всемирного заговора, осаждаемой со всех сторон большевиками, масонами, капиталистами, иезуитами, выступающими в едином союзе и руководимыми в этом истребительном деле стратегом в лице «жаждущего крови и денег, тиранящего народы еврея». Он завладел семьюдесятью пятью процентами мирового капитала, он покорил себе биржи и марксизм, Золотой и Красный Интернационал, он был зачинщиком ограничения рождаемости и идеи эмиграции, он подорвал устои государства, привёл к вырождению расы, воспел братоубийство, организовал гражданскую войну, оправдывал низость и поливал грязью благородство – он, этот «закулисный вершитель судеб человечества»[248]. Всему миру грозит опасность, заклинающе возглашал Гитлер, оказаться «в объятиях этого полипа». Рисуя все новые и новые картины, он пытается как можно нагляднее передать своё отвращение – тут и «ползучая отрава», занятая своим делом, и изображение еврея «личинкой», «опухолью», «жалящей тело народа гадюкой». И если, формулируя свой страх, он допускает иной раз нелепые и смешные обороты, то тот же страх помогает ему создавать впечатляющие или хотя бы запоминающиеся картины. Он находит такие выражения как «объевреивание нашей духовной жизни», «маммонизация нашего полового влечения» или «вытекающее отсюда осифиличивание тела народа»; но ещё он пишет и так: «Если еврей с помощью своего марксистского вероисповедания одержит победу над народами нашего мира, то его корона станет надгробным венком человечеству и наша планета опять, как когда-то, миллионы лет назад, будет необитаемой совершать свой путь в эфире».[249]



