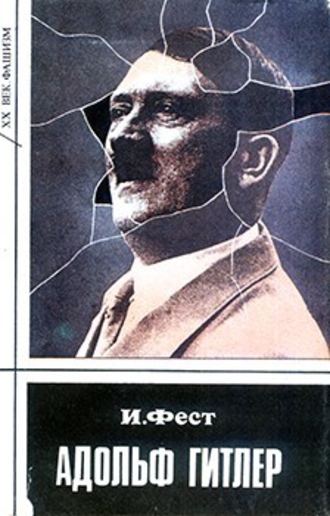
Иоахим Фест
Адольф Гитлер (Том 1)
Условия Версальского мирного договора ещё более усугубили эту неприязнь. Нация чувствовала себя втянутой в оборонительную войну, абстрактная дискуссия во второй половине войны о её цели едва ли была понята национальным сознанием, в то время как ноты американского президента Вильсона породили самые широкие иллюзии, будто крушение монархии и принятие западных конституционных принципов смягчат гнев победителей и настроят их примирительно по отношению к тем, кто, по сути, делал не что иное, как продолжал все так же вершить делами в бозе почившего режима уже после его кончины. Многие верили также, что «мирный мировой порядок», основы которого, как это прокламировалось в самом Версальском договоре, оным договором закладывались, исключал и стремление отомстить, и акты явной несправедливости, да и любые формы диктата вообще. Время этих вполне объяснимых, но всё же несбыточных надежд очень точно было названо «утопией периода прекращения огня»[208]. Тем растеряннее, буквально возгласом возмущения, реагировала страна на то, какими условиями стало обставляться заключение мирного договора в начале мая 1919 года. Это общественное возбуждение нашло своё политическое отражение в отставке канцлера Филиппа Шайдемана и министра иностранных дел графа Брокдорфа-Ранцау.
Сегодня совершенно ясно, что внешнеполитические условия были поставлены державами-победительницами с мстительной и оскорбительной обдуманностью. Конечно, было понятно, почему они открыли конференцию 19 января 1919 года – в день, когда почти за пятьдесят лет до того был провозглашён германский рейх, и выбрали местом подписания договора тот же Зеркальный зал, где проходила церемония этого провозглашения; но тот факт, что датой подписания мирного договора было установлено 28 июня – день годовщины убийства австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в Сараево, – находился в циничном противоречии с помпезными заверениями Вильсона о чистоте намерений победителей.
Вообще накладывавшийся договором груз был не столько материального, сколько психологического характера, и это травмировало всех, и правых, и левых, все лагери и все партии, и порождало чувство несмываемого унижения. Территориальные притязания, возмещение убытков и репарации, вызвавшие поначалу по меньшей мере столь же ожесточённую полемику, конечно же, не были такими «по-карфагенски жестокими», как об этом потом говорили, и, несомненно, вполне выдерживали сравнение с теми условиями, которые рейх ставил в Брест-Литовске России и в Бухаресте Румынии, – невыносимыми же, по-настоящему оскорбительными и воспринимавшимися как «позор» – и это сыграет вскоре весьма агрессивно-стимулирующую роль в агитации правых – были те положения договора, которые затрагивали момент чести, и в первую очередь статья 228, требовавшая выдачи поимённо перечисленных немецких офицеров для предания их военным судам союзников, а также пресловутая статья 231, однозначно приписывавшая моральную вину за развязывание войны Германии. Совершенно очевидными были противоречия и проявления непорядочности во всех 440 статьях этого договора-трактата, которым победители предъявляли свои законные притязания в позе всемирного судьи и взывали к покаянию в грехах, когда на деле-то речь шла об интересах, – вообще всему договору был присущ абсолютно бессмысленный, хотя и вполне объяснимый дух жаждавшего мести морализирования, чем он породил столько ненависти и дешёвых насмешек. Да и в самих странах Антанты договор подвергался ожесточённой критике. Например, право на самоопределение, возведённое в заявлениях американского президента в степень принципа всемирного примирения, отбрасывалось везде там, где оно могло бы проявиться в пользу рейха: такие чисто немецкие территории как Южный Тироль, Судетская область или Данциг отбирались либо получали самостоятельность, а вот на объединение Германии с немецкой частью разгромленной габсбургской монархии был, напротив, просто-напросто наложен запрет; наднациональные государственные образования были в одном случае – Австро-Венгрия – разрушены, а в других – Югославия, Чехословакия – созданы заново, и вообще, национализм получал триумфальное одобрение, но одновременно и – в идее Лиги наций – своё отрицание, – едва ли хоть одна из проблем, являвшихся, собственно говоря, предметом развернувшегося в 1914 году противоборства, нашла своё разрешение в этом трактате-договоре, слишком уж явно игнорировавшем ту мысль, что высшая цель любого мирного договора есть мир.
Вместо этого оказалось в значительной степени разрушенным сознание европейской солидарности и общей судьбы, сохранявшееся на протяжении поколений и продолжавшее жить вопреки войнам и страданиям. Новое миротворчество не проявило особого желания к восстановлению этого сознания. Германия, во всяком случае, была, строго говоря, навсегда отлучена от него, поначалу её даже не допустили в Лигу наций. Такая дискриминация ещё в большей мере, чем когда бы то ни было, отвернула её от европейской общности, и оставалось лишь вопросом времени, когда появится человек, который поймает победителей на слове и вынудит их отнестись к своему лицемерию всерьёз. Гитлер и впрямь обязан немалой долей своих первоначальных внешнеполитических успехов тому факту, что выдавал себя – не без показного простодушия – за самого что ни на есть решительного приверженца Вильсона и версальских максим и не столько за противника, сколько вершителя некоего прежнего утраченного порядка. «Страшные времена начинаются для Европы, – написал один из самых проницательных наблюдателей в тот день, когда в Париже был ратифицирован мирный договор, – духота перед грозой, которая, вероятно, окончится ещё более страшным взрывом, чем мировая война».[209]
Во внутриполитическом плане возмущение положениями мирного договора ещё больше усилило настроение антипатии к республике – ведь она оказалась неспособной оградить страну от тягот и бесчестия этого «позорного диктата». Собственно говоря, только теперь по-настоящему и выяснилось, насколько же непопулярной она была – во всяком случае, в этой форме, – являясь результатом смятения умов, случая, усталости и ожиданий мира. К тем многим сомнениям, которые порождались её бессилием во внутренней политике, добавилась теперь и дурная репутация, которую заработала она слабостью своей внешней политики, и все большему числу людей слово «республика» стало уже представляться вскоре синонимом позора, бесчестия и беспомощности. Так или иначе, но ощущение, будто республика была навязана немецкому народу обманом и принуждением и является чем-то абсолютно чуждым ему, закрепилось и, в общем и целом, уже не менялось. Правильно, конечно, что несмотря на весь этот груз у неё были все же шансы, но даже в немногие счастливые свои годы она «не сумела по-настоящему привлечь к себе ни преданности, ни политической фантазии людей».[210]
Значение всех этих событий состояло в том, что они дали мощный толчок процессу политизации общественного сознания. Широкие слои, находившиеся до того в политическом подполье, оказались вдруг преисполненными политических страстей, надежд и отчаяний, и эти настроения захватили в лазарете в Пазевальке и повлекли за собой и Гитлера, которому было в то время уже около тридцати лет. У него было смутное, но одновременно радикальное ощущение несчастья и предательства. И хотя это ощущение приблизило его на один шаг к политике, но само решение стать политиком, которое он связывает в «Майн кампф» с ноябрьскими событиями, пришло, несомненно, позднее, – скорее всего, в тот поразительный момент примерно год спустя, когда он в чаду маленького помещения выступил в гипнотическом возбуждении перед небольшой аудиторией, открыл в себе талант оратора и увидел вдруг выход из страхов безнадёжно блокированного существования в какое-то будущее.
Это утверждение подкрепляется, во всяком случае, его поведением в течение последующих месяцев. Когда Гитлер в конце ноября, уже выздоровев, был выписан из лазарета в Пазевальке, он тут же направился в Мюнхен и прибыл в запасной батальон своего полка. И хотя этот город, сыгравший в ходе ноябрьских событий немалую роль и положивший начало свержению германских княжеских династий, буквально вибрировал от политического возбуждения, Гитлер остался ко всему этому безучастен и, вопреки его позднейшим заверениям о созревшем решении заняться политикой, ни интереса, ни причастности к этим событиям не проявил. Весьма скупо он заметит, что власть «красных» вызвала у него отвращение; но поскольку такое же отношение к «красным» было у него и после – да и в принципе, по его же собственным словам, на протяжении всего существования республики, – это замечание едва ли можно рассматривать как оправдание его слабого интереса к политике. Не имея никакой цели, но ощущая потребность хоть в каком-то занятии, он в начале февраля записывается, в конце концов, добровольцем в службу охраны лагеря для военнопленных, находившегося близ Траунштайна неподалёку от австрийской границы. Когда же примерно месяц спустя военнопленных – несколько сот французских и русских солдат – выпустили, а лагерь вместе с его охраной расформировали, он вновь оказался не у дел и в растерянности вернулся назад в Мюнхен.
Поскольку он не знал, куда ему деться, то снова занял койку в казарме в Обервизенфельде. Вероятно, это решение далось ему нелегко, потому что оно принуждало его вступить в Красную армию, взявшую к тому времени власть, и носить на рукаве её красную повязку. Но так или иначе, ему пришлось с этим смириться и встать на сторону победивших революционеров, хотя он мог бы вступить в один из добровольческих отрядов, либо в иную воинскую часть, не связанную с «красной» властью. И это едва ли не лучшее доказательство того, насколько слаборазвитым было ещё в то время его политическое сознание и насколько низким – его политическое чутьё, которое потом, как говорят, заставило его впадать в ярость уже при самом упоминании слова «большевизм», – вопреки всему позднейшему украшательству, его политическое безразличие на том этапе явно было сильней унизительного чувства оказаться солдатом армии мировой революции.
Впрочем, у него и не было никакого выбора, кроме армии. Милитаризованный мир был по-прежнему единственной социальной системой, в которой он ощущал себя дома, демобилизоваться означало бы для него вернуться в тот анонимный мир потерпевших крушение, откуда он пришёл. Потом Гитлер сам засвидетельствует, что он отчётливо представлял всю безысходность своего личного положения: «В это время в моей голове роились бесконечные планы. Целыми днями обдумывал я, что же вообще можно сделать, но всякий раз итогом всех размышлений была трезвая констатация того, что я, не имея имени, не имею и ни малейшего условия для какого-нибудь целесообразного дела.»[211] Это замечание демонстрирует, насколько далёк оставался он и теперь от мысли о работе, о хлебе насущном и гражданском ремесле; больше всего его мучило сознание отсутствия имени. Если верить его автобиографии, как раз в это время он навлекает на себя своими политическими выступлениями «недовольство Центрального совета» правительства Баварской советской республики, и в конце апреля будто бы его даже решают арестовать, но он, угрожая карабином, обращает команду, пришедшую взять его, в бегство. На самом деле к указанному времени Центральный совет уже прекратил своё существование.
В большей степени все говорит тут за то, что его поведение в это время было смесью из растерянности, пассивности и оппортунистического приспособленчества. Даже в бурных событиях начала мая, когда добровольческие отряды под командованием Эппа и другие соединения захватили Мюнхен и сбросили власть Советов, он не принимает никакого сколь-нибудь заметного участия. Отто Штрассер, бывший одно время среди его соратников, впоследствии публично задаст такой вопрос: «Где был Гитлер в тот день? В каком уголке Мюнхена прятался солдат, который должен был бы сражаться в наших рядах?» А вместо этого Адольф Гитлер был арестован войсками, вошедшими в город, и оказался на свободе только благодаря заступничеству нескольких офицеров, которые его знали. Рассказ о якобы имевшей место попытке его ареста Центральным советом представляет собой, возможно, ретушированную версию как раз этого события.
Вслед за вступлением Эппа в Мюнхен начались многочисленные расследования того, что происходило в городе в период власти Советов, и существуют разные предположения насчёт роли Гитлера в ходе этих расследований. Точно известно, однако, лишь то, что он предоставил себя в распоряжение следственной комиссии 2-го пехотного полка. Он собирает сведения для развёрнутых допросов, нередко заканчивавшихся чрезвычайно суровыми, нёсшими на себе отпечаток ожесточённости только что утихших боев приговорами, выискивает солдат, служивших коммунистическому советскому режиму и, по всей вероятности, выполняет свои задания в целом так успешно, что вскоре после этого его направляют на курсы, где велось обучение «гражданственности».
Вот тут он впервые и начинает выделяться, выступать из безликой массы, чья анонимность так долго и скрывала, и угнетала его. Сам он назовёт свою службу в следственной комиссии «первой более или менее настоящей политически активной деятельностью»[212]. Он всё ещё продолжает дрейфовать, но та струя, в которую он угодил, быстро принесёт его к финишу периода его формирования, лишь смутно освещаемого удивительной полутьмой из асоциальности и ощущения своей миссии. Если же смотреть на все в совокупности, то бросается в глаза, что Адольф Гитлер, которому суждено будет стать явлением в политике этого столетия, до тридцатилетнего возраста не принимал в ней никакого участия. В том же возрасте Наполеон был уже первым консулом, Ленин находился после ссылки в эмиграции, Муссолини стал главным редактором газеты социалистов «Аванти». Гитлера же, напротив, ни одна из идей, которые в скором времени понесут его к попытке захватить весь мир, пока ещё не подвигла ни на один хотя бы сколько-нибудь достойный упоминания шаг; он не вступил пока ни в какую партию, ни в какой-нибудь из многочисленных союзов своего времени – за исключением венского союза антисемитов – дабы приблизить осуществление своих представлений. Нет ни единого свидетельства того, чтобы хоть как-то проявилось его стремление к действиям, и не единого признака, который бы хоть в чём-то поднимался над косноязычным лепетом банальностей эпохи.
Эта отрешённость от какой бы то ни было политики может – хотя бы частично – объясняться внешними обстоятельствами его становления, его одиночеством в Вене, ранним переездом в Мюнхен, где до того, как началась война и увела его на фронт, он считался иностранцем; можно допустить также, что это впечатление определяется и своеобразием его спутников в те годы, чьи воспоминания о «друге юности» и его политических симпатиях не столь полны, как того заслуживал молодой Адольф Гитлер. Но ведь это может также означать, что политика для него, если судить по гамбургскому счёту, тогда мало что значила.
Он сам, выступая 23 ноября 1939 года, уже в зените сознания собственной власти, перед высшим генералитетом, сделает поразительное признание, что он стал политиком в 1919 году после долгих внутренних баталий с самим собой и что для него это было «самое трудное решение из всех»[213]. И хотя это выражение, разумеется, имеет в виду трудности любого начала, оно всё-таки, помимо всего, явно свидетельствует и о его внутреннем предубеждении по отношению к политической карьере. Вероятно, тут сыграло свою роль и традиционно немецкое пренебрежение к тому, что вкладывалось в понятие «текущая политика» и уже в понятийном плане воспринималось как более низкий уровень по сравнению с любым крупным творческим деянием, особенно же, если иметь в виду его безвозвратно оставленную юношескую мечту стать «одним из лучших, если не лучшим архитектором Германии». Уже в апогее власти он как-то скажет, что куда охотнее скитался бы по Италии «неизвестным художником» и что якобы только смертельная угроза собственной расе толкнула его на, откровенно говоря, чуждый ему путь политики[214]. И тогда становится понятным, почему даже революция не затронула его в политическом плане. Конечно, ноябрьские события, крах всех авторитетов, гибель династии и царивший хаос в значительной степени подорвали его консервативные инстинкты, но все это не подвигло его на действенный протест. Ещё сильнее, чем презрение к политическому гешефту, было у него отвращение к бунту и революционным интригам. Пройдёт двадцать пять лет, и он в одной из своих застольных бесед, говоря о событиях ноябрьской революции, поставит знак равенства между участниками переворота и уголовниками, видя в них лишь «асоциальное отребье», которое следует вовремя уничтожить.[215]
Только личные мотивы, осознание им в дальнейшем силы воздействия собственных выступлений, побудили его отбросить все предубеждения – и предубеждение против политической карьеры, и робость, продиктованную боязнью прослыть нарушителем порядка. И вот только теперь встрял он в политику – фигура революции, хотя и – как скажет он через четыре года, оправдываясь на процессе в мюнхенском народном суде, – революционер против революции. Но был ли он при всём при этом чем-то другим, а не тем растерянным перед жизнью, подавленным человеком искусства, которого перенесли в политику какое-то стремление к тому, чтобы переделать мир, и некий необыкновенный, особый талант? Этот вопрос будет то и дело всплывать на протяжении всей этой жизни, и то и дело будет возникать искушение спросить, означала ли когда-либо политика для него нечто большее, нежели средства, с помощью которых он её проводил, – как например, триумфы риторики, театральность демонстраций, парадов и партсъездов, спектакль применения военной силы в годы войны.
Верно, конечно, что крах старого строя вообще только лишь открыл ему путь в политику. Пока буржуазный мир стоял прочно и политика оставалась карьерой для буржуа, у него было мало шансов на имя и успех – для неустойчивого темперамента Гитлера этот мир с его формальной суровостью и серьёзностью требований не сулил возможностей взлёта. 1918 год открыл ему дорогу. «Я должен был теперь смеяться при мысли о собственном будущем, мысли, которая ещё совсем недавно доставляла мне такие горькие заботы», – писал он.[216]
Он вступил на политическую сцену.
Конец первой книги
Промежуточное размышление великий страх
Нас то и дело упрекают в том, что нам мерещатся призраки
«Фелькишер беобахтер» от 24 марта 1920 г.
Триумф и кризис демократической мысли. – Угроза революции. – Великий страх. – Пессимизм европейской цивилизации. – Великая нелюбовь к Просвещению. – Версальское предательство. – Вооружённый страх. – Гитлер – «фашистский тип». – Идея фюрера. – Средневековье и модернизм. – Фашизм как культурная революция. – Оборонительная позиция. – В союзе с инстинктом. – Бунт ради завоевания авторитета. – Поворот тенденции эпохи
Ничто не казалось после окончания первой мировой войны столь непререкаемым как победа демократической идеи. Над новыми границами, смутой и продолжавшимися распрями народов возвышалась, бесспорно и неопровержимо, как объединяющий принцип эпохи, идея демократии. Ибо война решила не только вопрос о притязании на могущество, но одновременно и вопрос о сферах господства – в результате крушения почти всего средне – и восточноевропейского мира, из революции и столпотворения возникли многочисленные новые государственные образования, и все они стояли под знаком концепций демократического строя. Если в 1914 году в Европе насчитывалось три республики и семнадцать монархий, то четыре года спустя число республиканских и монархических государств сравнялось. Казалось, что дух эпохи недвусмысленно указывал на различные формы народовластия.[217]
И только Германия, первоначально временно задетая и даже охваченная этим духом, казалась теперь сопротивлявшейся ему – среди прямо-таки необозримой толчеи партий и клубов, придерживавшихся идей «фелькише», в стране воинственных орденов и добровольческих отрядов шла организация отпора созданной войною реальности. Революция воспринималась этими группами чужой и навязанной насильно, она была для них синонимом «всего, что противоречит немецкому пониманию государства», а то и просто презрительно именовалась «грабительским институтом капитала Антанты».[218]
Бывшие противники Германии увидят в этих ставших вскоре распространёнными симптомах национального протеста реакцию строптивого и извечно авторитарного народа на демократию и гражданское самоопределение. Конечно, они не упускали тут из виду и беспримерно усилившиеся политические и психологические нагрузки: шок от поражения, Версальский договор с его обвинительными формулировками, территориальными потерями и требованиями по возмещению ущерба, равно как и обнищание и духовную разруху самых широких слоёв. Но за всем этим постоянно стояло представление о некой значительной нравственной дистанции между немцами и большинством их соседей. Последние считали, что эта загадочная страна, упрямо набычившись и не поддаваясь никаким уговорам, упорствует в своей отсталости, превратив её, по сути, в предмет некоего особого претенциозного сознания и противясь не только западному разуму и гуманизму, но и вообще всемирной тенденции. И это представление вот уже на протяжении десятилетий доминирует в полемике относительно причин столь крутого подъёма национал-социализма.
Однако картина победоносной демократии, породившая так много надежд, была обманчивой, и момент, когда уже казалось, что демократия получает своё историческое воплощение, стал одновременно и началом её кризиса. Всего несколько лет спустя демократическая идея в самом её принципе была, как никогда ранее, поставлена под сомнение, и то, что только вчера торжествовало, было затоптано куда более дикими триумфами движения нового рода, либо оказалось в смертельной опасности перед лицом этого движения, обретшего под сходными приметами жизнь почти во всех европейских государствах.
Наиболее крупные успехи этих движений отмечались в тех странах, где война пробудила или заставила осознать мощные комплексы неудовлетворённости и где, в частности, войне сопутствовали революционные восстания левого толка. Одни из этих движений были консервативными и призывали к возврату в те времена, когда люди были более честными, долины – более мирными, а деньги – более ценными; другие же строили из себя революционеров и лезли из кожи вон в охаивании всего существующего; некоторые привлекали на свою сторону главным образом мелкобуржуазные массы, другие – крестьян или отдельные отряды рабочего класса, но сколь бы странной и причудливой не была в их рядах мешанина классов, интересов и симптомов, все они тем не менее черпали свою динамику в глубине малообразованных и более энергичных слоёв общества. Национал-социализм был всего лишь разновидностью этого европейского покроя движения протеста и сопротивления, решившего перевернуть мир.
Национал-социализм возник по-провинциальному, из скучных, мещанских объединений, «компаний», как издевался Гитлер, которые собирались в мюнхенских пивных за столиками со скудной выпивкой и закуской, чтобы поговорить о национальных и семейных горестях. Никто не мог и предположить, что у них будет шанс не только бросить вызов мощным, высокоорганизованным массовым марксистским партиям, но даже и обойти их. Однако последующие годы показали, что в этих компаниях любивших поговорить на политические темы сторонников «фелькише», к которым вскоре стали присоединяться возвращающиеся с обманутыми надеждами фронтовики и пролетаризованная буржуазия, скрывалась немыслимая динамика, только, казалось, и ожидавшая, чтобы её разбудили, организовали и бросили в дело.
Их побудительные мотивы были столь же различными, как и группы, в которые они формировались. Только в одном Мюнхене в 1919 году существовало около пятидесяти объединений более или менее политического характера, в них входили преимущественно разрозненные осколки сбитых с толку и распавшихся в ходе войны и революции партий довоенного времени. Они называли себя «Новым Отечеством», «Советом духовного труда», «Кольцом Зигфрида», «Универсальным союзом», «Nova Vaconia» «Союзом социальных женщин», «Свободным объединением социальных учащихся», «Союзом Остары». Была тут и Немецкая рабочая партия. А то, что всех их объединяло и несмотря на различия сводило – и теоретически, и практически – вместе, было не что иное, как всепокоряющее чувство страха.
Первоначально это был совершенно непосредственный страх перед революцией, тот «grande peur» (великий страх), который со времён Великой французской революции на протяжении всего XIX века врывался во все сны европейцев. Представление о том, что революции – это стихийные явления, действующие независимо от воли и желания их актёров, как бы по законам механики стихий, повинуясь собственной логике и неизбежно выливаясь в господство ужаса, в разрушения, убийства и хаос, стало с той поры неотъемлемой частью общественного сознания – именно это представление, а не та, как считал Кант, все же проявившаяся в революции 1789 года способность человеческой натуры к лучшему, и явилась опытом, уже не давшим больше забыть о себе. Что же касается Германии, то этот опыт на протяжении жизни нескольких поколений сковывал любую волю к революционной практике и породил «фанатизм покоя», который реагировал чуть ли ни на каждый призыв к революции стандартной апелляцией к чувствам спокойствия и порядка.
Этот старый страх усугублялся теперь не только сходными с революцией событиями в собственной стране, но в первую очередь – русской Октябрьской революцией и исходящей от неё угрозой. Ужасы красного террора, раздутые – прежде всего стекавшимися в Мюнхен беженцами и эмигрантами – до проявлений сатанизма, оргий резни и жаждавшего крови варварства, неизгладимо врезались в народную фантазию. Один из мюнхенских листков «фелькише» опубликовал в октябре 1919 года вот такую заметку, дающую представление о мании страха того времени и её конкретном выражении:
«Печальны времена, когда ненавидящие христиан орды диких азиатов простирают повсюду свои окровавленные руки в стремлении задушить нас! Антихристовы бойни, устраиваемые евреем Иссашаром Цедерблумом – он же Ленин, – даже Чингисхана ввели бы в краску. В Венгрии его выкормыш Кон – он же Бела Кун – прошёл по этой несчастной стране с обученной убивать и грабить еврейской сворой террористов, чтобы, усеяв страну виселицами, уничтожать на этом конвейере виселиц её горожан и крестьян. В шикарно обустроенный гарем при его дворце тайно поставляли десятки непорочных христианских девиц, которых подвергали там насилию и растлению. По приказу его подручного лейтенанта Самуэли в одном подземелье были жестоко истреблены шестьдесят священников. Их тела расчленяют, отрубают конечности, а до этого у них все отбирают, оставляя им вместо одежды только кожу, по которой струится кровь. Следствие выявило, что восьмерых священников до того, как их убить, распинали на дверях их церкви! Теперь становится известным, …что точно такие же страшные сцены имели место и в Мюнхене».[219]
Однако ужас, которым был охвачен мир в результате приходивших с востока кошмарных сообщений, имел свои основания, равно как и заслуживавших доверия свидетелей. Один из руководителей Чека, латыш М. Лацис, заявил в конце 1918 года, что для наказания и ликвидации человека определяющим является теперь не его виновность или невиновность, а его социальная принадлежность: «Мы хотим ликвидировать буржуазию как класс. Вы не должны доказывать, что тот или иной действовал против интересов Советской власти. Первое, о чём вы должны спросить арестованного: из какого он класса, каково его происхождение, какое он получил воспитание и кто он по профессии? Эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого. В этом состоит квинтэссенция красного террора»[220]. И словно ответом прозвучит один из ранних призывов руководства НСДАП: «Вы хотите сперва увидеть в каждом городе тысячи людей повешенными на фонарях? Вы хотите сперва дождаться, чтобы, как в России, в каждом городе начала действовать большевистская чрезвычайка?.. Вы хотите сперва пройти по трупам ваших жён и детей?» Угроза революции исходила не от нескольких одержимых заговорщиков, которых травила вся Европа, а из огромной, зловещей России, этого, по словам Гитлера, «колосса брутальной мощи»[221]. Уверенная в своей грядущей победе агитация нового режима, являвшаяся частью синдрома, который Филиппо Турати назовёт «опьянением большевизмом», помимо всего прямо говорила, что захват Германии объединёнными силами международного пролетариата не только явится решающим шагом на пути революции, но и произойдёт вот-вот. Тайные действия советских эмиссаров, непрекращавшиеся организованные беспорядки, советская революция в Баварии, революционное брожение в Рурской области, революционные выступления последующих лет в Центральной Германии, восстания в Гамбурге, а затем снова в Саксонии и Тюрингии создали фон, порождавший страх, и вызвали в ответ на эту перманентную угрозу революцией со стороны советского режима сильнейший импульс защитной реакции.
Эта угроза доминирует и в речах Гитлера – особенно в первые годы, когда он рисовал самыми яркими красками «команды красных мясников», «коммуну убийц», «кровавое болото большевизма». Как-то он заявил, что свыше тридцати миллионов человек в России «шаг за шагом приняли мученическую смерть, частью на эшафотах, частью под пулемётами и сходными средствами, частью на бойнях в буквальном смысле этого слова, а частью – и вновь миллионами – вследствие голода; и мы все знаем, как приближается этот бич, как уже поднимается он над Германией». Интеллигенция Советского Союза, скажет он, истреблена в ходе массовых убийств, экономика разрушена до самых основ, тысячи немецких военнопленных утоплены в Неве или проданы в рабство, а в это время «непрерывным, не знающим устали трудом крота» и в Германии создаются предпосылки для революционной ломки – Россия, как это рефреном повторялось в его выступлениях, предстоит и нам![222] И даже годы спустя, уже придя к власти, Гитлер будет пугать тем «ужасом ненавистной международной коммунистической диктатуры», который овладел им ещё в начале его пути: «Я вздрагиваю при мысли о том, чем стал бы наш старый многонаселённый континент, если бы победил хаос большевистской революции».



