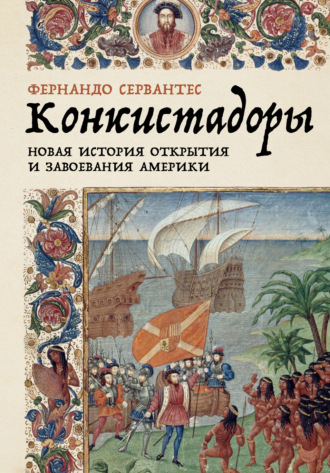
Фернандо Сервантес
Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки
Глава 4
Вопрос справедливости
В то воскресное утро поселенцы, облаченные в свои лучшие наряды, с нетерпением вошли в церковь и с должным почтением заняли свои места. Некоторые из них, возможно, отметили для себя тот парадоксальный факт, что в городе под названием Санто-Доминго (в честь святого Доминика, основателя ордена братьев-проповедников) доминиканская проповедь была пока в новинку. Тем не менее пятнадцать монахов, недавно прибывших из Испании, оказались прекрасными ораторами. Их предводитель, брат Педро де Кордова, был человеком образованным и праведным; вскоре после того, как доминиканцев тепло встретил сам Диего Колон, он произнес замечательную проповедь – «вдохновленную небесами», по словам Бартоломе де Лас Касаса, – перед поселенцами в Консепсьон-де-ла-Вега. Едва закончив, Педро попросил своих слушателей отправить в церковь всех служащих у них туземцев. Колонисты выполнили его просьбу, прислав, по словам Лас Касаса, «мужчин и женщин, старых и молодых», и монах с помощью переводчиков рассказал им о Священной истории «от Сотворения мира до распятия Господа нашего Иисуса Христа» в манере «настолько вдохновляющей, что никто из присутствующих никогда не слышал подобного»[186].
Занимая свои места в церкви в то четвертое воскресенье Рождественского поста, поселенцы предполагали, что услышат от монаха, присланного испанской короной содействовать должному обращению таино в христианство, слова пастырского одобрения. Да и как могло быть иначе? Как гласили многочисленные королевские инструкции, изданные с тех пор, как в Испанию пришли первые новости об открытии Эспаньолы, туземец, должным образом обращенный в христианство, по определению был в должной мере цивилизованным. Монахи прибыли на остров, чтобы помочь поселенцам указать таино на положенное им место верных подданных короны и подчиненных членов иерархически упорядоченной общины. Все конфликты и обиды, которые разделяли различные группы поселенцев – от видавших виды ветеранов, приплывших на Эспаньолу с Колумбом, до тех, кто прибыл с Овандо или совсем недавно с Диего Колоном, – меркли на фоне столь высоких соображений. По крайней мере, таковы были ожидания.
«Ego vox clamantis in deserto, – начал доминиканец Антонио де Монтесинос. – Я глас вопиющего в пустыне». Это слова пророка Исаии, которые в то конкретное воскресенье были цитатой из Евангелия от Матфея (3:3), и прихожане Санто-Доминго, разумеется, слышали их не в первый раз. Но в то утро брат Антонио, дабы избавить свою паству от любого возможного самоуспокоения, решил прибегнуть к тому, что Лас Касас позже назовет его «гневным» стилем»[187]. Брат Антонио объявил себя гласом, вопиющим в пустыне Эспаньолы, и был полон решимости заставить поселенцев «внимать» ему «не как-нибудь, а всем своим существом и всем сердцем». «Сей глас – продолжил он, – будет вам внове; и будет он вам в укор, и в порицание, и в осуждение, и в устрашение, и доселе вы ничего подобного не слышали, да и не чаяли слышать». После драматической паузы, от которой, как пишет Лас Касас, «всех присутствующих дрожь пробирала и им казалось, что они уже на Страшном суде», монах с праведным гневом провозгласил: «Сей глас вещает, что все вы обретаетесь в смертном грехе и в грехе том живете и умираете, обращаясь столь жестоко и беззаконно с этими ни в чем неповинными людьми». Затем он потребовал объяснения, на каком праве или на основании какого ложного понимания справедливости поселенцы держат своих подопечных в таком «жестоком и чудовищном рабстве». На какой авторитет они могут сослаться, чтобы оправдать «столь неправедные войны против миролюбивых и кротких людей»? Почему они смеют «так угнетать и терзать» коренных жителей острова, держа их без должного питания и отдыха, не говоря уже о наставлениях в вере? «Разве они не люди?» – подытожил монах эту череду вопросов, призванных достучаться до совести прихожан. «Разве нет у них души и разума? Разве не должны вы любить их, как самих себя? Ужели вам это невдомек? Ужели вам это непонятно? Ужели ваши души, – гремел его голос, – погрузились в непробудный сон?»[188].
Единственный имеющийся у нас источник, повествующий об этом прославленном эпизоде, – книга Бартоломе де Лас Касаса, в чьем изложении проповедь Антонио де Монтесиноса напоминает его собственную «Кратчайшую реляцию о разрушении Индий», написанную многими годами позже в стремлении шокировать членов Королевского верховного совета по делам Индий и заставить их провести реформы[189]. Несмотря на склонность Лас Касаса к преувеличениям, невозможно отрицать то подлинное чувство негодования, которое вызвала эта проповедь[190]. Не успела служба закончиться, как губернатор Диего Колон и королевский казначей Мигель де Пасамонте в гневе бросились к начальнику брата Антонио, Педро де Кордове, и потребовали от него привести в чувство «монаха, который наговорил в своей проповеди столько несуразностей». Ответ отца Педро был спокойным и одновременно ошеломительным для этих двоих: в проповеди брата Антонио не было сказано ничего, кроме евангельской истины – «вещи, необходимой для спасения всех испанцев этого острова и всех индейцев»[191]. Чтобы яснее донести это до паствы, в следующее воскресенье Монтесинос прочел еще одну проповедь, в которой те же мысли были высказаны в еще более бескомпромиссных выражениях.
Разъяренные тем, что их просьбы были проигнорированы, Колон и Пасамонте написали прямо королю, обвинив монаха в том, что он сеет на острове смуту и раздор. Преисполненные гнева, они решили по-своему истолковать проповедь Монтесиноса, текст которой они приложили к своим письмам. Они утверждали, что атака брата Антонио на них представляла собой непростительный вызов авторитету самого короля: «Монахи-доминиканцы покушаются не более и не менее как на королевскую власть и доходы в этих краях»[192].
Король был до глубины души оскорблен предполагаемой неблагодарностью монахов, посланных на остров его же властью. В своем ответном письме Колону в апреле 1512 г., примерно через четыре месяца после первой проповеди Монтесиноса, Фердинанд упомянул «скандальные» слова монаха, которые его «очень удивили», не в последнюю очередь потому, что они, казалось, не были основаны ни на богословских текстах, ни на законах[193]. Король имел веские основания для такого мнения: несколькими неделями ранее глава доминиканского ордена брат Алонсо де Лоайса прислал Монтесиносу письмо с суровым выговором за то, что он осмелился проповедовать возмутительные «новшества», которые явно расходились с позицией бесчисленных «прелатов науки и веры», а также самого папы. Такие воззрения, продолжал Лоайса, Монтесиносу мог внушить только сам дьявол, чтобы поставить под угрозу все добрые дела, совершенные от имени короны. «Из-за ваших слов, – заключал он, – все это могло быть потеряно» и «все Индии могли взбунтоваться, так что ни вы, ни другие христиане не смогли бы там оставаться»[194].
Горячая дискуссия между Лоайсой и Монтесиносом указывает на трения в среде братьев-проповедников, которые возникли еще на излете Средневековья в контексте реформаторского движения, берущего свое начало в поразительном наследии блестящей молодой женщины по имени Катерина Бенинкаса. Она родилась в Сиене в 1347 г., и на момент ее смерти в Риме ей было всего 33 года, но ее влияние оказалось таким, что уже в 1461 г. папа Пий II (который и сам был гордым уроженцем Сиены и прославленным интеллектуалом) объявил ее святой. К этому времени жизнь и труды святой Екатерины Сиенской, как ее теперь называли, обрели огромное влияние в христианском мире, и в особенности – в ордене братьев-проповедников, терциаркой (послушницей-мирянкой) которого она была. Учение святой Екатерины само по себе было достаточно традиционным. Новой была та страстная энергия, с которой она рассуждала о тайне Вочеловечения, благодаря которому в Иисусе Христе соединились божественная и человеческая природы.
Глубокую личную важность для святой Екатерины имело то, что Бог таким образом проявил Свою безграничную любовь. В ее письмах, а также в откровенном и искреннем общении с многочисленными друзьями эта идея превратилась в яркое утверждение об уделе человека. В первую очередь Екатерина пыталась выразить свою глубокую веру в абсолютную благость всего сущего, как оно есть само по себе. Поскольку оно включало и человеческую природу, с точки зрения святой Екатерины, можно было сделать вывод, что зло проявляется только как отсутствие бытия или как беспорядок человеческих соблазнов. Следовательно, ключевая роль самопознания человека заключалась именно в том, чтобы разоблачить этот вероломный беспорядок, спрятанный в сердцевине чего-то неоспоримо благого.
Екатерина не пыталась добиться этого с помощью сложных психологических рекомендаций. Скорее, она уделяла внимание центральной роли любви в творении, что находило выражение в ее непоколебимой убежденности в том, что человеческое существо любимо еще до того, как появилось на свет. Это, в свою очередь, означало, что Бог воспылал «пламенем горячей любви» к своему будущему созданию – идея, в которой Екатерина была настолько уверена, что часто прибегала к образам, которые в противном случае могли бы показаться скандальными, вроде рассуждений о Боге, «опьяненном» любовью к человеку[195]. Божественная любовь, настаивала она, не ограничивалась актом творения или даже поддержанием сотворенного создания в его «бытии»: Его любовь была такова, что – как Екатерина трактовала непостижимую тайну Искупления – Он воссоздал своих созданий даже после того, как они злоупотребили данной им от рождения свободой и отказались от участия в божественной жизни. С этой точки зрения Вочеловечение действительно было союзом Бога и человечества, вдохновленным «самой безумной», «самой пьянящей» формой любви, какую только можно вообразить. В лице Христа Бог приобщил человечество к вечности, сделав человеческую природу божественной. Те, чьи грехи были искуплены, выражаясь поразительными словами, которые Екатерина вложила в уста Самого Христа, «также стали мною, потому что они потеряли и потопили собственную волю, слившись и соединившись с моей»[196].
Это были отчаянно смелые слова. На первый взгляд, трудно понять, почему их с такой готовностью приняли современники Екатерины, привыкшие к тому пониманию творения, которое неизбежно подразумевало непреодолимую пропасть между Создателем и Его созданиями. Екатерина также явно не забывала про эту пропасть, но та чистосердечная энергия, с которой она выражала свои мысли, стала глотком свежего воздуха для уже пережившей «черную смерть» Европы, устало смирившейся с высоким уровнем мздоимства, особенно в церковных кругах, да и для самой Церкви, все еще страдавшей от последствий катастрофического Великого западного раскола: в 1378–1417 гг. на папскую тиару всегда было два, а в какой-то момент даже три претендента. С искренностью, вызвавшей огромную волну энтузиазма и все еще вдохновлявшей проповеди Монтесиноса на Эспаньоле в декабре 1511 г., Екатерина напомнила своим современникам, что люди в самом деле могут подражать в любви друг к другу абсолютно безусловной божественной любви[197].
Связь братьев-проповедников со святой Екатериной наличествовала с самого начала. Ее духовником и биографом был доминиканец Раймонд Капуанский. Хотя он годился ей по возрасту в отцы и уже имел значительный вес в ордене, он называл свою юную подопечную «матерью», признавая тем самым ее духовный авторитет. В 1380 г., в год смерти Екатерины, он стал магистром ордена и вскоре обнаружил себя во главе движения духовного обновления, или «реформы». Однако из-за кипучей энергии этого движения им было трудно управлять, так что вскоре оно стало угрожать единству ордена. Хотя Раймонд, несомненно, поощрял реформу, его преемники считали его меры слишком робкими, чтобы соответствовать требованиям времени. Поэтому они начали назначать на места новых должностных лиц, «генерал-викариев», задача которых заключалась в том, чтобы подрывать влияние более консервативных «провинциалов» – высших чинов ордена в каждой провинции[198]. Неизбежно нарастали разногласия между реформированными и нереформированными общинами. В Италии многие реформированные монастыри стремились разорвать все связи со своими лишившимися всякого авторитета провинциалами путем создания независимых конгрегаций, к примеру Ломбардской конгрегации на севере Италии, которая находилась в подчинении лишь у магистра ордена[199]. Такие же настроения получили распространение и в Испании, где эстафету реформ принял кардинал-доминиканец Хуан де Торквемада, который на своем опыте испытал царившее в Италии реформаторское рвение и обладал огромным интеллектуальным авторитетом. Ему удалось уговорить папу Пия II даровать его собственному монастырю в Вальядолиде привилегии, аналогичные привилегиям Ломбардской конгрегации[200].
К концу XV в., когда Изабелла и Фердинанд начали безоговорочно поддерживать религиозную реформу, многие доминиканские монастыри в Испании уже преуспели в том, чтобы избавиться от влияния своих провинциалов, перейдя под юрисдикцию генерал-викариев, назначенных непосредственно пребывавшим в Риме магистром ордена. Это была довольно деликатная ситуация, однако к концу 1480-х гг. движение религиозного возрождения, опиравшееся на поддержку королевской власти, находилось на подъеме[201]. Как и следовало ожидать, растущая популярность реформистской партии привела к конфликту монархов с более консервативными членами ордена. Когда после своего возвращения из Неаполя в 1507 г. король Фердинанд заинтересовался идеей отправки на Эспаньолу группы доминиканских монахов-реформистов, ему пришлось полагаться на прямое вмешательство магистра ордена, выдающегося теолога Томмазо де Вио, по месту своего рождения в Гаэте более известного как Фома Каэтан. Тот отправил письмо своему генерал-викарию в Испании Томасу де Матьенсо, недвусмысленно приказав ему под страхом одного из самых суровых наказаний, предусмотренных уставом ордена, помочь королю набрать группу доминиканцев реформистского толка, которые должны были отправиться на Эспаньолу. Магистр тем самым намекал, что Матьенсо был чересчур близок к более консервативным членам ордена, которые воспринимали любой фаворитизм по отношению к своим поддерживающим реформы собратьям как прямое оскорбление. Одновременно Каэтан, стремясь помочь Фердинанду, сам без каких-либо проволочек искал доминиканских монахов-реформистов, которые должны были отправиться в Испанию, чтобы оттуда отплыть в «Индии»[202].
На фоне этих напряженных переговоров случилось одно довольно странное событие, приобретшее, однако, символическую важность. Это был долгий суд над неграмотной крестьянкой по имени Мария де Санто-Доминго. Она родилась в городке Альдеануэва, в центральной части Кастилии, примерно в 1485 г. и в юном возрасте попала под влияние реформистского доминиканского монастыря Санто-Доминго в городе Пьедраита. Где-то между 1502 и 1504 гг., следуя примеру святой Екатерины Сиенской, Мария стала терциаркой ордена, после чего якобы начала предрекать будущее, впадать в мистические трансы и переживать экстатические судороги. Все это вскоре вызвало подозрения у Каэтана, который в 1507 г. получил от папы Юлия II разрешение на проведение расследования. В ходе последовавших за этим четырех процессов, состоявшихся между 1508 и 1510 гг., доминиканские судьи сняли с Марии – теперь широко известной как «блаженная (beata) из Пьедраиты» – все обвинения в притворной святости и заявили, что ее учение и жизнь были «образцовыми» и ее следует «ставить всем в пример». После этого она стала настоятельницей великолепного монастыря, построенного специально для нее в ее родной Альдеануэве могущественным герцогом Альбой, ее главным покровителем[203].
Альба рассказал о блаженной самому Фердинанду, и в 1507 г. король вызвал ее и кардинала Хименеса де Сиснероса к своему двору в Бургос. В этот момент политическое положение Фердинанда в Кастилии было шатким: законный наследник престола Филипп I умер годом ранее; жена Филиппа, Хуана, рассматривалась многими как следующая законная наследница, и споры по поводу ее предполагаемого безумия еще не полностью стихли. Кроме того, огромная часть кастильской знати не скрывала своего недовольства неуместным вмешательством Фердинанда, который являлся королем одного лишь Арагона, в дела Кастилии. Эти обстоятельства являются ключом к пониманию того, почему Фердинанд так охотно заинтересовался духовным миром этой неграмотной женщины, многие заявления которой четко укладывались в мистические традиции, которые так умело использовал тот же Колумб. В одном из своих многочисленных пророчеств блаженная провозгласила, что Фердинанд не умрет до тех пор, пока не завоюет Иерусалим[204]. Она старательно вплетала в свой язык образы духовного возрождения, и это во многом помогло убедить могущественного кардинала Хименеса де Сиснероса – влиятельного пропагандиста культа святой Екатерины Сиенской – в том, что Мария де Санто-Доминго была не просто образцом праведности, но и благоприятным предзнаменованием в тревожную эпоху политической нестабильности в Кастилии[205]. Сам Сиснерос давно принял обет крестоносца: после падения Гранады в январе 1492 г. он планировал большой крестовый поход, направленный на завоевание и крещение мавров, и был полон решимости пожертвовать ради этого собственной жизнью, мечтая умереть мучеником[206]. В своей неколебимой вере Сиснерос заходил дальше Фердинанда: в 1509 г. он на собственные средства собрал и переправил в Северную Африку целую армию, чтобы осадить порт Оран. Фердинанд отказал ему в финансовых гарантиях, поэтому всю эту экспедицию окружала тревожная атмосфера, и лишь уверенный голос блаженной из Пьедраиты звучал без каких-либо колебаний. Известие об успехе предприятия самым благоприятным образом сказалось на ее репутации. В ней стали видеть идеал подлинного религиозного возрождения: не просто святую и провидицу, но и несгибаемую сторонницу властей предержащих[207].
Несмотря на свой малодушный скепсис по поводу североафриканского крестового похода Сиснероса, король Фердинанд проявил схожий настрой, оказав горячую поддержку 15 доминиканцам-реформистам, которые первыми отплыли на Эспаньолу. Своим решительным одобрением организованного кардиналом похода блаженная из Пьедраиты хотела показать, что религиозное возрождение – начинание не только желательное, но и полезное как политический инструмент. Большинство поддерживавших реформы доминиканцев стали ее пламенными защитниками, видя в ней образцовую представительницу своего движения, для которого были в равной мере характерны ревностное благочестие и послушание властям. Ободренный ее энтузиазмом, 11 февраля 1509 г., за несколько месяцев до известия о победе Сиснероса под Ораном, Фердинанд подписал указ, разрешающий 15 монахам-реформистам доминиканского ордена отплыть на Эспаньолу. И если уже тогда его, видимо, не особо смущали распространенные среди более консервативных доминиканцев сомнения по поводу этой инициативы, то, узнав о победе Сиснероса, он почувствовал себя подлинным триумфатором[208].
Именно в этом контексте мы можем лучше всего понять ощущение ошеломительного предательства, которое охватило двор, едва жалобы на проповеди Монтесиноса дошли до Испании в начале 1512 г. Меньше всего король ожидал, что та самая группа доминиканцев-реформистов, которых он так горячо поддерживал, поставит под сомнение права короны в Новом Свете. Фердинанд, скорее всего, страшился предсказуемой реакции, немедленно последовавшей со стороны консервативных доминиканцев. Но они ничего не поняли. Монтесинос ни в чем не был виноват: он просто воззвал к совести испанских поселенцев на Эспаньоле, напомнив им о завете святой Екатерины подражать безусловной любви Бога к человеку, и подчеркнул, что единственный способ делать это – демонстрировать эту любовь по отношению к своим собратьям, включая, конечно, эксплуатируемых и подвергавшихся жестокому обращению таино. Нигде в своей проповеди Монтесинос не подвергал сомнению власть короля или права короны в Новом Свете. Он также не оспаривал изданные папой Александром VI буллы о разделе мира, на основании которых в 1504 г. юристы и богословы пришли к выводу, что туземцы могут быть переданы во владение испанцам без нарушения земных или небесных законов[209]. Изрядная доля иронии заключалась в том, что как раз та уловка, к которой Диего Колон и Пасамонте решили прибегнуть в борьбе с Монтесиносом, выдвинув провокационное предположение, что проповеди монаха содержат в себе атаку на права короны, в конечном итоге и открыла дорогу ко вполне реальному обсуждению вопроса о правомочности этих булл.
Кастильская корона никогда не была уверена в своем праве порабощать коренные народы Нового Света. Как мы уже видели, едва Колумб прислал в Испанию нескольких карибских пленных для продажи в Севилье в качестве рабов, Изабелла тут же обратилась к богословам и юристам за советом по этому поводу;[210] год спустя, следуя их рекомендациям, она приказала отправить всех туземцев туда, откуда их привезли[211]. Конечно, ни у Изабеллы, ни у кого-либо из ее современников не было сомнений в том, что рабство являлось законным институтом. Но если все остальные рабы, продаваемые в Испании, прибывали с территорий вне юрисдикции испанских властей, туземцы Нового Света обитали в регионах, которые, по мнению короны, принадлежали ей на законных основаниях. Следовательно, поскольку туземцы являлись подданными короны, с ними надлежало «обращаться так же, как с нашими подданными и вассалами», о чем Изабелла и писала Николасу де Овандо в 1501 г.[212] Это было фундаментальное отличие, и его нельзя было игнорировать.
Колон и Пасамонте, судя по всему, не чувствовали этого отличия. Они упорствовали в своих жалобах на проповеди Монтесиноса, убедив главу францисканцев на Эспаньоле – монаха Алонсо де Эспинару – вернуться в Испанию, чтобы продвигать при дворе их интересы. В ответ на этот шаг доминиканцы Эспаньолы собрали средства, чтобы отправить домой и Монтесиноса, который должен был лично отстаивать свою невиновность. После неких интриг при дворе – где, по словам Лас Касаса, Монтесиноса встретили довольно прохладно, поскольку оговоры Колона возымели свой эффект, – доминиканцу удалось попасть к Фердинанду, когда кто-то случайно оставил открытой дверь в королевские покои. Представ перед изумленным королем, монах произнес страстную речь в защиту таино. Его слова настолько впечатлили Фердинанда, что он созвал в Бургосе совещание знатоков гражданского и канонического права, а также теологов, приказав им рассмотреть эту проблему. Наконец 27 декабря 1512 г. эксперты – довольно предсказуемо – приняли сторону Колона и Пасамонте, подготовив документ, известный как ордонансы, или законы, Бургоса. К тому времени, однако, брат Педро де Кордова также добрался до Испании и мгновенно разоблачил сомнительные мотивы составителей этого документа, указав, что ключевую роль в его разработке играл старый соперник Колумба Хуан Родригес де Фонсека, а также несколько должностных лиц, явно заинтересованных в огромных доходах от энкомьенд. Несмотря на то что его советники уже пришли ко вполне конкретным выводам, Фердинанд внимательно выслушал брата Педро.
Возмущение брата Педро по поводу законов Бургоса было неудивительным, поскольку в их основе лежало предположение, что неспособность колонистов обеспечить туземцам достойную жизнь была вызвана врожденными пороками самих туземцев. В документе говорилось, что они «по природе своей склонны к праздности и многим порокам» и не питают любви к испанцам или их «святой вере». В других отношениях, однако, решения, предложенные в документе, указывают на то, что испанские законодатели начали осознавать различные осложняющие ситуацию обстоятельства. Они предлагали перемещать туземцев ближе к испанским поселениям, тем самым приближая их к церквям, в которых их было бы легче учить и где их младенцев можно было бы крестить как можно скорее после рождения. Кроме того, в таком случае было бы намного проще бороться с болезнями и избегать множества смертей, вызываемых долгими переходами до рудников, которые в то время приходилось совершать местным жителям. Была предусмотрена система штрафов для испанцев, которые не стремились приобщать туземцев к христианской вере, и даны четкие инструкции строить церкви возле рудников, чтобы свести к минимуму повсеместное тогда пренебрежение духовным благополучием местных работников. Содержание других рекомендаций позволяло предположить, что жалобы доминиканцев не были полностью проигнорированы. Туземцы должны были работать на рудниках в течение пяти месяцев, после чего им полагался сорокадневный отпуск. Их нельзя было заставлять работать по воскресеньям или в праздничные дни, когда им должны были выдавать мясо и разрешать участвовать в традиционных для их культуры обрядах. Работникам на рудниках должны были выдавать по фунту (450 г) мяса в день, а по пятницам – столько же рыбы. Женщинам запрещалось работать на рудниках после пятого месяца беременности и позволялось кормить грудью в течение первых трех лет жизни младенца. Всем индейцам полагалось выдавать гамаки. Основным же признаком того, что корона начала осознавать всю глубину проблемы, было то, что законы Бургоса предписывали следить за рождениями и смертями туземцев для определения масштабов сокращения их численности[213].
Брат Педро убедил Фердинанда, что эти законы даже близко не решали наиболее насущных вопросов. Поэтому король сформировал новую хунту (junta – дословно «собрание» или «совет»), которой поручил пересмотреть предложенные нормы. 28 июля 1513 г. Фердинанд утвердил «разъяснения», которые были должным образом оглашены в городе Вальядолид, хотя потом их все равно именовали «законами Бургоса»[214]. Кроме того, король попросил двух членов бургосской хунты подготовить более подробные мнения по этому вопросу: этими людьми оказались знаток канонического – то есть церковного – права Матиас де Пас и гражданский юрист Хуан Лопес де Паласиос Рубиос. Пас анализировал проблему с точки зрения теории справедливой войны, мирского авторитета папства и суверенных прав языческих народов; он ограничился подтверждением законности булл папы Александра. Паласиос Рубиос также затронул эти вечные темы, но, не теряя из виду интересы поселенцев на Эспаньоле, начал с рассмотрения того, что он назвал «надежными свидетельствами». Это должно было помочь ему установить, были ли туземцы в самом деле варварами, то есть, как выразился Аристотель в известном пассаже из «Политики», «рабами по своей природе»{11}[215]. Большинство этих свидетельств описывали таино в терминах, предполагающих, что они являлись «разумными, мягкими, миролюбивыми» людьми, полностью способными усвоить христианскую веру. Они не проявляли скупости или стремления к обогащению и по всем данным никогда не пленяли противников: Паласиос Рубиос полагал, что оба эти факта показывают, что «естественный закон», в соответствии с которым человек рождался свободным, сохранился в «Индиях» в полной мере[216]. Однако дальше Паласиос Рубиос начал находить те доказательства, которых искал. Он утверждал, что нагота туземцев является не признаком невинности, но явным соблазном к распущенности. Неудивительно, что туземцы прослеживали родство исключительно по женской линии, ведь только женщина могла знать, кто был отцом ее ребенка[217]. Это было свидетельством того, что туземцы пребывали в состоянии невежества, которое делало их умственно неполноценными, «настолько глупыми и неумелыми, что они не знают, как управлять собой». Таким образом, по мнению Паласиоса Рубиоса, их можно охарактеризовать как «почти рожденных для рабства»[218].
Слово «почти» тут очень показательно. Паласиос Рубиос пытался не противоречить своему собственному заявлению о том, что туземцы свободны и независимы; в то же время, однако, он утверждал, что после вступления в контакт с цивилизованными европейцами они больше не могли считаться способными рационально вести свои дела. Этот аргумент привел в ярость Лас Касаса, который не смог удержаться от гневной пометки на полях отчета Паласиоса Рубиоса: «Ложное мнение, подло состряпанное для поощрения тирании»[219]. Однако сам Паласиос Рубиос находился в затруднительном положении. Верный подданный Фердинанда, он был в той или иной степени обязан прийти к юридическому заключению, защищавшему права короны в Новом Свете в тот момент, когда ее финансовые потребности в Старом Свете неуклонно росли. Однако в его оценках сквозила двусмысленность в форме принципиальной обеспокоенности по поводу аристотелевской идеи рабства по природе – идеи, которая отрицала наличие у коренных народов Америки какой-либо способности к самосовершенствованию. В конце концов, восприятие их как «рабов по своей природе» фактически не позволяло им достичь той конечной цели, которая теперь в первую очередь и оправдывала испанское присутствие в Новом Свете: обращения их в христианство[220].
Паласиос Рубиос, зарекомендовавший себя полезным выразителем интересов испанской короны, был, по всей вероятности, и автором одного из самых порицаемых документов той эпохи: печально знаменитого Рекеримьенто (Requerimiento – буквально «требование») – длинного и довольно путанного манифеста, который, начиная с 1513 г., должен был по приказу короны трижды зачитываться нотариусом перед туземцами, прежде чем испанцы могли на законных основаниях начать против них военные действия. В документе, сочетавшем религиозный идеализм и неприкрытую корысть, имелись реверансы общечеловеческим ценностям: «Бог ‹…› сотворил ‹…› мужчину и женщину, от коих произошли мы и вы, и все сущие в мире этом»{12}. Однако пять тысячелетий истории разделили человечество на разные народы, и некоторые из этих народов были в большей мере приближены к истине, чем другие. Святой Петр наделил своих преемников-пап властью надо «всеми людьми – христианами, маврами, иудеями, язычниками и иными, какую бы веру они ни исповедовали и к какой бы секте они ни принадлежали». Случилось так, что один из преемников святого Петра «дал в дар эти острова и материки Моря-океана со всем тем, что на них есть» королю Фердинанду, королеве Хуане и их наследникам, «и дар сей засвидетельствован в должной форме особыми грамотами, каковые вы можете увидеть, если того пожелаете».
Далее в документе объяснялось, что почти все туземцы, которым уже было сообщено об этой истине, «признали, что их высочества действительно являются королями и господами здешних земель, и стали служить их высочествам» испанским монархам «покорно и без сопротивления». Если те, кому было адресовано данное обращение, предпочли бы сделать то же самое и добровольно стали бы христианами, тогда монархи были бы обязаны относиться к ним как к своим «подданным и вассалам», а поселенцы – как представители короны – принять их «с любовью и лаской» и не обращать в христианство принудительно. Однако за всем этим неизбежно следовало «но». Если туземцы откажутся признавать монархов своими властителями, то испанцы «с помощью Божьей пойдут во всеоружии» на них и объявят им «войну и будут вести ее повсеместно и любыми способами», пока не подчинят их «деснице их высочеств и церкви», а также «причинят наивозможнейшее зло и ущерб», причем туземцам объявлялось: «Все смертоносные бедствия, что от этого произойдут, лягут на вашу совесть, и вы будете в них виновными, а не их высочества, и ни я, и не эти рыцари, что пришли со мной»[221].


