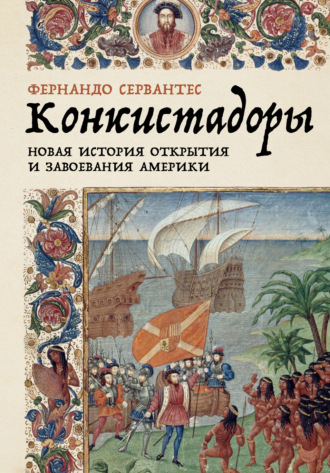
Фернандо Сервантес
Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки
Это был практически неопровержимый аргумент, причем Колумб высказал его и с должным смирением, и одновременно с уверенностью человека, не понаслышке знающего, о чем говорит. Вскоре ему удалось получить высочайшее разрешение взять с собой на остров достаточно людей, чтобы местное население составило более 300 человек. В это число должны были входить 100 офицеров, 100 рядовых солдат, 30 моряков, 30 корабельных подмастерьев, 20 золотодобытчиков, 50 крестьян, 10 овощеводов, 20 ремесленников разного рода и 30 женщин. Всем этим поселенцам должен был платить жалование лично Колумб. Он также должен был взять с собой горный и строительный инструмент, тягловых животных и жернова, пшеницу и ячмень, плуги и лопаты, а также достаточно муки, сушеных бобов, сухарей и любых других продуктов, которые он считал необходимыми для выживания колонии до тех пор, пока на мельницу не отправится первый урожай[89]. К несчастью для Колумба, вербовка оказалась довольно непростым делом. Как выяснилось, полные разочарования сообщения вернувшихся участников второго путешествия настолько усложнили ему подбор новых колонистов, что от отчаяния он был вынужден попросить разрешения на вербовку осужденных преступников. Ввиду сложившейся ситуации Изабелла и Фердинанд, игнорируя настояния самого Колумба, также решили удовлетворить просьбу испанских поселенцев на Эспаньоле, чтобы «им обеспечили и выделили землю… на которой они смогут сеять зерно… и разбивать огороды, выращивать хлопок и лен, виноград, деревья, сахарный тростник… и возводить дома, мельницы и другие необходимые строения»[90]. Что на первый взгляд вызывает удивление, так это то, что монархи не дали самому Колумбу никаких указаний относительно того, как следует управлять новыми поселениями. В действительности же это было сознательным решением монархов. Учитывая, что любое такое поселение должно было представлять собой типичный кастильский муниципалитет, они, вероятнее всего, просто предположили, что адмирал не сможет разобраться в подобных указаниях. Иными словами, Изабелла и Фердинанд слишком хорошо понимали, что все дошедшие до них жалобы на то, как неловко Колумб управлял колонией, были результатом его прискорбного незнания кастильских политических традиций[91].
То, что им все меньше нравились планы Колумба, вполне укладывалось в логику едва формировавшейся тогда имперской политики, которая на ранних своих этапах несла все признаки влияния нового духовника Изабеллы, сурового францисканского реформатора Франсиско Хименеса де Сиснероса. В январе 1495 г. он сменил кардинала Педро Гонсалеса де Мендосу на посту архиепископа Толедо и примаса Испании. Новый прелат внял доводам Родригеса де Фонсеки (который, как мы знаем, сам в то время готовил флот для отплытия на Эспаньолу), что Колумбу доверять нельзя[92]. К тому времени Фонсека был назначен епископом Бадахоса и с удовольствием смотрел на Колумба свысока – как на типичного генуэзского купца, стремящегося использовать полученную от монархов монополию для приумножения личного состояния за счет богатств Востока. Разделяя распространенное тогда мнение, Фонсека считал, что амбиции Колумба представляют собой явную угрозу интересам подавляющего большинства потенциальных переселенцев, не говоря уже о попрании существующих правил. Как мы видели, при заселении вновь открытых земель люди предпочитали придерживаться проверенных норм, выработанных во время Реконкисты и колонизации Канарских островов[93]. Колумб же, напротив, казалось, вообще не понимал идеи полагаться при освоении Эспаньолы на существующие модели управления, которые большинство кастильских поселенцев инстинктивно пытались воспроизводить на новых территориях, то есть на вековую традицию проживания в самоуправляемых городах со всеми подразумеваемыми этим гражданскими правами[94].
Это помогает объяснить неоднозначное и парадоксальное отношение к Колумбу со стороны Изабеллы и Фердинанда. Сопоставив его достижения и обещания с жалобами на него, монархи решили – к большому облегчению Колумба, – что чаша весов склонилась в его пользу. Они не только подтвердили привилегии, предоставленные ему в 1492 г., но и с пониманием отнеслись к его планам как можно скорее вернуться на Эспаньолу. Они предложили ему возглавить флот из 8 кораблей и поддержали идею продолжить исследование новых земель – то, чего Колумб и сам очень хотел[95]. С другой стороны, монархи не горели желанием спорить с Фонсекой, не хотевшим допускать какие-либо новые путешествия прямо сейчас.
В результате Колумб провел следующие несколько месяцев, следуя по Испании за королевским двором из Бургоса в Вальядолид, Тордесильяс и Медину-дель-Кампо и пытаясь отстоять перед государями свою точку зрения. Он с нескрываемой горечью сетовал, что «клеветническая молва» по поводу его предприятия и, как следствие, его «умаление» стали результатом исключительно того, что он сразу же не отправил в Испанию «груженные золотом корабли». По его мнению, это было возмутительно. Его обвинители сознательно закрывали глаза на многие проблемы, с которыми он столкнулся. Вот почему он решил лично явиться ко двору: только так он мог, заявлял он в типичном для себя решительном стиле, «доказать разумность всего совершенного» им. Его одержимость поиском пути в Азию снова дала о себе знать, когда он заверил своих государей, что в скором времени последует и золото, поскольку он видел те самые земли, где Соломон добывал свои бесчисленные богатства и которые «ныне находятся во владении ваших высочеств на Эспаньоле». Новые земли фактически являлись другим миром, «в котором с большими трудностями подвизались римляне, Александр и греки, стремясь завладеть им»[96].
Но Колумб не избегал и более практичных советов, которые он мог дать своим государям. Он говорил с ними о различных поселениях на Эспаньоле и способах управления ими, о лицензиях, необходимых для добычи полезных ископаемых, и о способах поощрения сельского хозяйства, о том, что делать с имуществом поселенцев после их смерти, а также о срочной нужде в способных миссионерах[97]. И все же адмирал, которого всегда отличала восприимчивость к пророчествам и мистическим откровениям, к тому времени стал по-настоящему одержимым. Колумб все больше укреплялся во мнении, что все, что он видел (или считал, что видел) в «Индиях», подтверждало пророчество Исаии о том, что «Испания будет споспешествовать прославлению ‹…› святого имени [Господа]»[98]. Он основывал это утверждение на распространенном отождествлении Испании с Фарсисом и четком указании на него в Книге пророка Исаии (Исаия 60:9): «Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя»[99].
Примерно в это же время Колумб запросил из Англии информацию о плавании от Бристоля до Ньюфаундленда, совершенном Джоном Каботом в 1496 г., а также другие заинтересовавшие его сведения[100]. Он приобрел в личное пользование печатные экземпляры «Путешествий Марко Поло», Philosophia Naturalis святого Альберта Великого и Almanach Perpetuum Авраама Закуто, которые, двигаясь по Испании вслед за монархами, и штудировал на досуге наравне со своими излюбленными книгами, такими как сочинения Пьера д'Альи и Пия II. Главной заботой генуэзца по-прежнему была защита от нападок абсолютного большинства его современников теории об относительно небольшом размере земного шара и возможности достичь Азии морским путем.
Если когда-либо в его безумии и была логика, то теперь от нее практически ничего не осталось. Чтобы подтвердить свои теории, Колумб собирал воедино мнения самых разных авторитетов: с убежденностью, которая может показаться приемлемой для нас, но которая выглядела нелепой в начале XVI в., он полагался на слова римского драматурга или апокрифического пророка в той же мере, что и на указания святого Августина или святого Иеронима[101]. Более того, та резкость, с которой он осуждал критиков, была свидетельством осознания им шаткости своей позиции. Однако он располагал одним доводом, который в то время никто не мог с легкостью отбросить, и он повторял его снова и снова: истинность гипотезы об относительно небольшом размере земного шара доказывают не книги, а опыт. Колумб показал верность расчетов размеров земного шара эмпирически. «Ибо чем больше делаешь, – с гордостью заявлял генуэзец, – тем больше познаешь»[102]. Это был серьезный козырь: никто не осмеливался опровергнуть заблуждения Колумба, потому что никто другой не плавал в Азию западным курсом.
Летом 1497 г. он некоторое время провел затворником в Ла-Мехораде – любимом иеронимитском монастыре Изабеллы и Фердинанда, расположенном недалеко от Медины-дель-Кампо. Монархи тоже пребывали там, и Колумб, вероятнее всего, по своему обыкновению, был занят тем, что убеждал их в своей правоте[103]. В рамках очередной попытки добиться королевской благосклонности он сочинил небольшой меморандум с обоснованием испанских попыток оспорить заключенный в июне 1494 г. Тордесильясский договор. По его условиям португальцы соглашались провести демаркационную линию «в 370 лигах к западу от островов Зеленого Мыса». Такая граница (которая в конечном итоге сделает Бразилию владением Португалии) была для португальцев более выгодной, чем вариант, предложенный папой Александром VI в булле Inter caetera годом ранее, и испанские монархи хотели отмены договора. Не забывая о собственных идеях, Колумб также выдвинул предложение об организации крестового похода на Мекку и экспедиции в Каликут, причем оба эти предприятия, разумеется, должны были использовать западный маршрут через Атлантический океан[104].
Его настойчивость начала приносить плоды. К концу 1497 г. Изабелла и Фердинанд, казалось, больше не сомневались в обоснованности заявлений своего первопроходца. В начале 1498 г. Колумб готовился к путешествию, которое по его задумке должно было одновременно способствовать продолжению колонизации Эспаньолы и расширить радиус исследований в Азии. Признаком того, что Изабелла и Фердинанд вновь начали ему доверять, стало их решение дозволить Колумбу учредить майорат. Этот правовой механизм позволял человеку определять условия наследования своего имущества на протяжении многих поколений; как правило, им могли воспользоваться только аристократические семьи, сохранение династических богатств которых было в интересах короны. Но хотя подобные документы обычно составлялись нотариусами в тщательно отработанных юридических формулировках, в завещании Колумба от этого шаблона практически ничего не осталось. Оно четко демонстрирует всю его эксцентричность: Колумб одержим генеалогическими выкладками; он слишком подробно описывает масштаб своих открытий; он лелеет явно завышенные денежные амбиции; под документом стоит загадочная подпись, которую ученые пытаются расшифровать до сих пор, а сам текст содержит нотки горечи по поводу того долгого времени, которое потребовалось венценосной чете, чтобы пожаловать адмиралу то, что, по его убеждению, он справедливо заслужил. На тон документа также повлияло осознание Колумбом того факта, что поддержка со стороны монархов отныне носила строго прагматичный характер; на этот раз они ожидали от предприятия ощутимых доказательств успеха[105].
Груз этих ожиданий помогает объяснить решение, понять которое в противном случае было бы непросто. За несколько месяцев до третьего плавания Колумб написал своему брату Бартоломе очень прочувствованное письмо, в котором выражал надежду в ближайшее время встретиться с ним на Эспаньоле. Тем не менее незадолго до отплытия Колумб разделил свой флот на две эскадры: одна должна была отправиться прямо на Эспаньолу быстрым маршрутом, который он проложил во время второго плавания; другая, с ним самим во главе, должна была пойти кружным путем через неизведанные районы Атлантики.
Такое решение практически наверняка стало следствием требований его покровителей, а также самых разных критических нападок, с которыми столкнулся Колумб. В то время общепринятым было предположение, что все земли, находящиеся на одной и той же широте, будут крайне похожими, – даже хулители адмирала с готовностью соглашались тут с ним. Колумб знал о богатых залежах золота в устье реки Вольты (на территории современной Ганы). Тогда почему бы не попробовать пересечь океан на той же широте? К весне 1498 г. Колумб решил поступить именно так. Его настроение хорошо передано в инструкциях, которые он составил для кораблей, отправленных напрямую к Эспаньоле: «Господь наш да ведет меня и да позволит мне выполнить то, что угодно Ему и королю с королевой, нашим сеньорам, и что направлено к славе христиан; ибо верю я, что никто еще не ходил никогда этим путем и море это совсем неведомое»[106].
Флот отчалил 30 мая 1498 г. из расположенного к северу от Кадиса порта Санлукар-де-Баррамеда. После обычной остановки у Канарских островов Колумб в соответствии со своим планом разделил флот на две части и отправил одну эскадру на Эспаньолу, поведя другую на юг, к островам Зеленого Мыса. Он прибыл к Боа-Виште 30 июня. На следующий день он достиг Сантьягу, климат которого показался ему ужасным. «Все же обитатели этих островов были больны, – писал он, – так что я решил не задерживаться здесь»[107]. Следуя своему плану, он поплыл дальше на юг, к тому месту, где, по его представлениям, проходила параллель устья Вольты, но вскоре неожиданно для себя оказался в коварной приэкваториальной области, ныне известной как штилевая полоса. Восемь долгих дней эскадра дрейфовала при испепеляющей жаре; когда 22 июля им удалось поймать юго-восточный ветер, Колумб решительно взял курс на запад. Трудно сказать наверняка, понимал ли он, что достиг желаемой широты: его собственный рассказ полон тут противоречий. Однако к концу июля он, вероятно, был настроен оптимистично. Никакой суши заметно не было – что на этот раз было хорошим знаком: поскольку Колумб знал, что приближается к меридиану, пересекающему Эспаньолу, отсутствие земли означало, что по крайней мере на той параллели, вдоль которой он двигался, португальцы не могли претендовать на какие-либо новые территории. Если, как, по слухам, считал португальский король Жуан, в Море-океане и существовал неизвестный южный континент, Колумб его пока еще не видал.
Однако те восемь дней, в течение которых эскадра дрейфовала в полный штиль на жаре, сделали свое дело. Вино превратилось в уксус, значительная часть воды испарилась, а вяленая свинина и соленая треска грозили вот-вот испортиться. Зная, что Эспаньола находится прямо на севере, Колумб решил направиться в ту сторону, ничуть не помышляя, что на самом деле находится буквально в двух шагах от огромного континента. Затем, 31 июля, он увидел нечто похожее на «три горы, обозримые одним взглядом»[108]. Колумб с самого начала посвятил свое третье путешествие Святой Троице, поэтому это «великое чудо», как его впоследствии описывал Бартоломе де Лас Касас, подозрительно напоминало, по точному выражению исследователя, «хорошо просчитанный образец теологической семиотики»[109]. Это также объясняет, почему остров, на котором были замечены эти три горы, по сей день известен как Тринидад («Троица»).
По мере того как Колумб обследовал этот плодородный остров, в нем с каждой минутой росло чувство трепета и недоумения. Местные туземцы не были чернокожими, которых он ожидал увидеть на этой широте, но и не походили на таино. Опьяненный своей непоколебимой верой в то, что он находится в Азии, Колумб видел в них мавров и убеждал себя, что хлопковые ленты, которые они носили на головах, были «мавританскими шарфами». Затем, попытавшись войти в залив Пария, он услышал то, что не укладывалось ни в какие из его представлений: «шум, подобный рокоту морской воды, разбивающейся о скалы». Он встал на якорь вне пролива и увидел, что «вода течет в нем с востока на запад с такой же скоростью, как и в Гвадалквивире во время половодья». Ни один европеец никогда прежде не видел ничего похожего на устье Ориноко. «До сих пор, – писал Колумб несколько месяцев спустя, – от страха пробегают по телу мурашки, когда я вспоминаю, что корабль едва не опрокинулся»[110].
В некоторых отношениях эти неожиданные природные явления привели Колумба к удивительно объективным выводам. Например, 13 августа, неподалеку от острова, названного им Маргаритой (у северо-восточного побережья Венесуэлы), он записывал: «Я убежден, что эта земля, которую ныне повелели открыть ваши высочества, – величайших размеров»[111]. Это было не то утверждение, которое он мог высказывать с удовольствием, так как подобный исход не соответствовал его вычислениям размеров земного шара и не сочетался с его, казалось бы, непоколебимой уверенностью в том, что даже если он еще и не достиг Азии, то подобрался к ней совсем близко. Неудивительно, что он все время возвращался к размышлениям, основанным на утверждении Пьера д'Альи о том, что самые отдаленные части азиатской суши вполне могут быть заселены племенами антиподов. Тем не менее все вокруг него свидетельствовало, что он находился в по-настоящему новом месте, а не в Азии. Возможно, теперь он уже и сам сполна убедился в истинности собственного афоризма «Чем больше делаешь, тем больше познаешь».
В других же отношениях Колумб явно стремился оставаться в комфорте и безопасности привычной ему интеллектуальной среды, не подверженной влиянию неизвестного и необъяснимого. Умеренный климат и пресная вода, которые он обнаружил в заливе Пария, показались ему настолько совершенными, что он даже увидел в них некий намек на сверхъестественное. Тот факт, что в залив выходили четыре речных устья, мгновенно напомнил ему описание Эдемского сада из книги Бытия. Конечно, было бы недопустимо самонадеянно утверждать, что он достиг земного рая, ведь «никому не дано попасть туда без Божьего соизволения»[112]. Но у него не было сомнений, что рай находился где-то рядом. Это идеально соответствовало распространенным представлениям, согласно которым земной рай находится на «пределе востока». Это также позволяло найти объяснение неожиданным изменениям климата, которые он зафиксировал примерно в ста лигах к западу от Азорских островов, и наблюдениям, показывавшим, что Полярная звезда отклоняется от положения, в котором должна находиться, поскольку угол ее возвышения постепенно уменьшается независимо от широты. С учетом одержимости Колумба эмпирическим опытом это могло означать только одно: он плыл в гору. Следовательно, заключал он, Земля не шар, а скорее похожа на «грушу совершенно округлую, за исключением того места, откуда отходит черенок». Или, продолжал фантазировать он, Земля «похожа на круглый мяч, на котором в одном месте наложено нечто вроде соска женской груди. Эта часть ‹…› наиболее возвышенна и близка к небу». Разве может быть более подходящее место для земного рая?[113]
Эта поразительная теория, порожденная все менее прочно связанным с реальностью разумом Колумба, заслонила собой его более рациональное предположение о том, что он, возможно, нашел что-то действительно новое. Примерно в это же время к его метафорической слепоте добавилась очень болезненная офтальмологическая проблема, с которой он впервые столкнулся за четыре года до описываемых событий, во время исследования Кубы, и которая теперь снова обострилась, чтобы мучить его с новой силой. Адмиралу стало трудно продолжать вести наблюдения, что напомнило ему об обязанностях на Эспаньоле, которыми он пренебрегал. 15 августа, в праздник Успения Богородицы, в надежде как можно скорее вернуться на «вершину мира», он принял решение отплыть от берегов будущей Венесуэлы, чтобы развеять опасения своего встревоженного брата.
Если бы у него не заболели глаза, Колумб, скорее всего, продолжил бы свои исследования побережья южной земли, и его первые догадки относительно того, что это часть нового континента, получили бы дополнительные подтверждения. Однако его решение вернуться на Эспаньолу именно в этот момент привело к заботам гораздо более неотложного характера – заботам, которые положили решительный конец подобным измышлениям.
Добравшись до острова 19 августа, он понял, что идея разделить флот на две эскадры была ошибкой. Новоприбывшие объединились с его врагами. Вызывал беспокойство и тот факт, что многие из них разочаровались в обманчиво высокопарных описаниях Эспаньолы, которые приводил Колумб. По словам Бартоломе де Лас Касаса, слова «Да отправит меня Бог в Кастилию!» стали там самой распространенной божбой на фоне настойчивых требований колонистов немедленно обеспечить им бесплатное возвращение на родину[114]. Колумб охотно на это шел, однако, вернувшись в Испанию, его противники принялись устраивать бурные демонстрации всякий раз, когда Изабелла и Фердинанд проводили публичные аудиенции, выражая тем самым свое глубокое разочарование в ложных посулах Колумба и упрекая его в двуличии[115].
Среди его самых заклятых врагов оказались те самые люди, которых Колумб выбрал для укрепления своей позиции на Эспаньоле. Франсиско Ролдан, которого Колумб оставил руководить городом Ла-Исабела, когда вернулся в Испанию в 1496 г., теперь был лидером мятежников. В своем длинном письме кардиналу Хименесу де Сиснеросу, написанном в таком тоне, который позволяет предположить, что эти двое были знакомы, Ролдан объяснял, что ситуация вышла из-под контроля из-за голода. Многие испанцы считали себя в полном праве отказаться выполнять приказы и с чистой совестью отправлялись на поиски еды. Ролдан также горько сетовал на некомпетентность и жестокость брата Колумба, Диего Колона, особенно по отношению к таино, которые, по понятным причинам, в ответ напали на крепости Консепсьон и Магдалена, подвергнув поселенцев серьезной опасности. Это привело к постыдным зверствам, но Ролдан был убежден, что они были совершены в целях самообороны. От его объяснений буквально веяло чувством глубокой отчужденности по отношению к Колумбу. Вскоре адресат послания Ролдана, Хименес де Сиснерос, проинформировал об этой отчужденности и монархов[116].
Ролдан без труда перетянул на свою сторону множество голодавших поселенцев, напомнив им, что их жалованье еще не выплачено и поэтому они имеют полное право перебраться в поисках пищи и богатств в другие регионы. Там им будет легче убедить таино в своей доброй воле, особенно если они будут открыто выступать против тиранической власти Диего. Когда пошли слухи, будто флот Колумба потерпел крушение, а адмирал, вероятно, мертв, аргументы Ролдана приобрели дополнительный вес. Если Колумб действительно погиб, Ролдан выступал теперь на равных с Диего, властный авторитет которого стремительно таял[117].
В конце марта 1498 г. два испанских корабля по ошибке бросили якорь в области Харагуа на южном побережье Эспаньолы. Эти корабли под началом Алонсо Санчеса де Карвахаля и других верных Колумбу офицеров транспортировали хорошо вооруженный отряд, который адмирал явно намеревался использовать в качестве дополнительного подкрепления для Диего в борьбе против враждебных таино. Прибывшие моряки сначала удивились скоплению испанских мятежников в этой части острова, однако в итоге многие сторонники Колумба решили присоединиться к Ролдану, который, если верить Пьетро Мартире д'Ангьере, легко соблазнил их обещанием, что «вместо того, чтобы сжимать мотыгу, они будут ласкать девичью грудь»[118].
Однако в конце августа растущую самоуверенность Ролдана сильно поколебало известие, что Колумб все-таки добрался до Эспаньолы. Сначала Ролдан тянул время. Затем 17 октября он отправил Колумбу письмо с объяснением своего поведения. Он сообщал, что причиной его восстания было простое желание не допустить, чтобы тиранический дон Диего подстрекал других поселенцев к совершению новых преступлений. Таким образом, подняв мятеж, Ролдан якобы надеялся сохранить поселенцев «в гармонии и любви», будучи уверенным, что по возвращении на остров Колумб выслушает обе стороны. Тем не менее, поскольку с момента прибытия Колумба прошло больше месяца, а он так и не потрудился связаться с Ролданом, у последнего и его сторонников не оставалось иного выбора («чтобы сберечь [свою] честь»), кроме как просить дозволения выйти из подчинения адмирала[119].
Примирительный тон ответного письма Колумба, которое было отправлено спустя всего несколько часов после того, как он прочел столь резкий выпад против своей власти, служит явным признаком того, что он осознавал, насколько шатким стало его положение. Выражая глубокое сожаление, он призывал Ролдана постараться восстановить гармонию среди поселенцев. Последовавшие за этим трудные переговоры растянулись на несколько месяцев, пока наконец в августе 1499 г. Колумб не только согласился снять со своего бывшего друга все обвинения, но и пожаловал ему и его сторонникам большие территории[120]. Несколько дней спустя из Испании прибыл старый товарищ Колумба, Алонсо де Охеда, а вместе с ним и некоторые давние соратники адмирала, включая Хуана де ла Косу и Америго Веспуччи. Однако, приводя те же аргументы, что и недоброжелатели Колумба в Испании, Охеда предложил занять сторону Ролдана. Он явно не подозревал, что Колумбу буквально только что удалось договориться с последним[121].
Хотя Колумбу удалось подавить восстание, для многих поселенцев этот эпизод оказался подтверждением того, что адмирал больше не контролировал ситуацию; эта же точка зрения теперь становилась общепринятой и в Испании. Ролдан встревожил Колумба известием, что он собственными глазами видел в руках у Охеды королевскую лицензию. Подписанный не кем иным, как епископом Родригесом де Фонсекой, этот документ давал Охеде полную свободу действий в вопросе организации новых экспедиций. Во время пребывания Охеды на Эспаньоле ходили слухи, что единственной его целью было свергнуть Колумба или по крайней мере заставить его сполна выплатить жалование, которое он все еще был должен многим недовольным поселенцам[122].
Весь комплекс личных обид и общественного напряжения, образовавшийся на Эспаньоле, хорошо просматривается в истории Фернандо де Гевары, одного из соратников Охеды, который вскоре потребовал у Ролдана земельный надел. Как и положено, ему были предоставлены земли в области Котуй, рядом с богатым имением его двоюродного брата Адриана де Мохики. По дороге в свои новые владения Гевара влюбился в Игеймоту, дочь местной принцессы Анакаоны. Когда Ролдан услышал новость, что Анакаона в самом деле выдала свою дочь за Гевару, он сильно взревновал, поскольку сам питал чувства к этой девушке, и приказал Геваре немедленно покинуть те места. Гевара замыслил убить Ролдана, но тот арестовал его и отправил к Колумбу для суда. В ответ на это Мохика собрал группу сторонников и вознамерился убить как Ролдана, так и Колумба[123].
Если раньше в отношениях со своими противниками Колумб действовал осторожно, то теперь настало время решительных действий. Его ответ, по крайней мере по словам Бартоломе де Лас Касаса, был жестким. Он приказал казнить Мохику и решительно выявить всех, кто предоставлял убежище Геваре, которого нигде не могли найти. 16 человек посадили в колодец, где они ожидали казни.
Если Лас Касас возлагал вину за репрессии на Колумба, другие уверенно заявляли, что он не имел к ним никакого отношения. Фернандо Колон, сын и биограф адмирала, винил в казнях и репрессиях одного Ролдана. До недавнего времени большинство историков предпочитали верить рассказу Колона, но не так давно в архиве города Симанкаса был найден важный документ, который кардинально поменял всю картину. Лас Касас писал, что 16 узников колодца так и не были казнены из-за «неожиданного события». Упомянутый документ с большой достоверностью сообщает, что это было за событие: прибытие в августе 1500 г. королевского чиновника по имени Франсиско де Бобадилья, которому Изабелла и Фердинанд поручили изучить вопрос об отправлении правосудия на Эспаньоле. Высадившись на острове, Бобадилья быстро оценил ситуацию и собрал нужные доказательства. Его действия были оперативными и сенсационными. Арестовав Колумба и его брата Диего, он отправил их в кандалах обратно в Испанию, чтобы они предстали перед судом по различным выдвинутым против них обвинениям. А знаем мы все это потому, что обнаруженный в Симанкасе документ оказался давно утерянным отчетом о суде, который Бобадилья устроил над Колумбом[124].
Еще за много месяцев до прибытия Бобадильи Колумб начал сожалеть о некоторых своих действиях. Чувствуя себя всеми преданным и отвергнутым, он все больше уверялся, что проблемы на Эспаньоле стали результатом его неуместной жадности. «Несчастный я грешник», – записал он после глубокого религиозного переживания 26 декабря 1499 г. Пребывая в отчаянии, он отправился в море на небольшой каравелле; там он услышал то, что, по его мнению, было голосом Бога, взывающего к нему, подобно святому Петру: «О маловерный, не бойся, разве я не с тобой?» Так в чем был смысл, заключал Колумб, «целиком полагаться на суету этого мира»?[125]
Уже какое-то время Колумб, внешне такой самоуверенный, осознавал свои недостатки в качестве администратора. В своей переписке с Изабеллой и Фердинандом он неоднократно умолял прислать ему в помощь «ученого человека, способного к судебным делам»[126]. Его притворный и нелепый, хотя и характерный для его притязаний стиль был стилем старомодного аристократа, не стесняющегося своей неспособности понимать формирующуюся все более простонародную бюрократическую культуру. Поэтому вдвойне иронично то, что, когда чиновник, которого Колумб называл «доверенным человеком» монархов, наконец появился на Эспаньоле, он показался ему «полной противоположностью тому, что требовалось»[127]. Бобадилья был не канцелярской крысой, а рыцарем Калатравы и ветераном войн за Гранаду. Он мог похвастаться хорошим образованием и благородным происхождением. В его памяти еще были свежи выдвинутые против Колумба в Испании обвинения, во многом усиленные растущими антигенуэзскими настроениями. Ходили даже слухи, что Колумб вступил в сговор со своими соотечественниками, из которых все чаще делали козлов отпущения и причину всех бед метрополии, чтоб утаить запасы золота с намерением передать их Генуе[128]. Теперь, когда у нас есть сведения о ходе судебного разбирательства, решение Бобадильи, которое традиционно было принято считать внезапным и странным, выглядит более понятным.
На обратном пути в Испанию Колумб гордо носил свои оковы, явно воображая себя терпеливым Иовом, сносящим несправедливые страдания. Изабелла и Фердинанд были смущены, увидев адмирала, устало – но, несомненно, с характерной для него театральностью – волочащего цепи к их трону. В конце концов, они послали Бобадилью именно в ответ на просьбу Колумба, поручив ему: «Выяснить, кто восстал против адмирала и наших магистратов, а затем схватить их, конфисковать их имущество, заключить в тюрьму и осудить их»[129]. Меньше всего они ожидали, что под арестом окажется сам Колумб.


