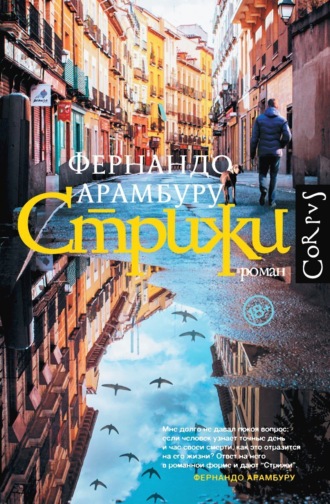
Фернандо Арамбуру
Стрижи
Октябрь
1.
Вчера вечером нам сообщили, что сегодня будет тридцать градусов жары, а в Каталонии ожидаются волнения, и оба прогноза сбылись. Я прислушиваюсь к разговорам коллег в учительской, но твердо решил свое мнение оставить при себе. Сразу выясняется, что по каталонскому вопросу и в нашей школе тоже существуют две полярных позиции, и каждый непременно ориентируется на один из полюсов, хотя и с разной степенью приближения к нему. По одну сторону барьера находятся те, кто говорят, что от каталонской проблемы они устали (более того: сыты по горло; еще более того: их этой проблемой уже просто затрахали) и поэтому готовы согласиться с любым решением – вплоть до раздробления Испании. Пусть всякий сидит на причитающемся ему куске земли и не возникает. По другую сторону барьера стоят те, кто сперва заявляли о своей приверженности демократическим принципам и о том, что главное для них – спокойствие и толерантность, а потом стали требовать самых, что называется, решительных мер, хотя степень этой решительности понимают по-разному: начиная с немедленного применения 155-й статьи Конституции[7], включая отмену sine die[8] автономии Каталонии, и до введения туда армии, как это уже делалось в былые времена.
Я смотрю на лица спорящих, на выражения их глаз. И спрашиваю себя: «Что я делаю тут, среди этих обезьян? Что вообще делаю в этом мире? Какое мне дело до всех этих глупостей, до нынешних политических дрязг?» Лучше буду помалкивать, пока какой-нибудь зануда не обратится ко мне напрямую, и тогда постараюсь отделаться уклончивыми фразами. Но тут кто-то решается напомнить еще и про волшебное, по-видимому, средство под названием «диалог». Однако призыв к диалогу звучит слишком расплывчато и даже, я бы сказал, лицемерно – как способ выиграть время и дождаться, пока страсти поутихнут и пламя раздора угаснет само собой. К тем, кто требует решительных мер, присоединяется и директриса. Наша начальница заявляет, что сперва нужно любой ценой защитить закон, а уж потом вести переговоры. Именно в таком порядке, а не наоборот. А ее-то кто просил вмешиваться? Но ей никто не возражает. Не важно, о чем говорит эта сеньора – о погоде, выращивании винограда или ценах на рыбу. Все только кивают, потому что ее мнение звучит с начальственных высот. Короче, дискуссия прекращается после резолюции директрисы. Тут звенит звонок, и, направляясь в класс, я слышу, как два моих коллеги в коридоре возвращаются к разговору о Каталонии. Один из них говорит:
– Если будет хоть один погибший, нам не избежать такой же бучи, как в тридцать шестом.
2.
Я раздумываю о вчерашнем споре и о том, что люди в остальных частях Испании смотрят на Каталонию исключительно через экран телевизора (стычки, флаги, резиновые дубинки).
Они словно слышат сквозь стену ссору в соседней квартире, с досадой качают головой и тихо жалуются на шум, но не выходят на улицу, чтобы защитить целостность своей страны. Все это навело меня на мысли об отце. Он ведь разочаровался в политике и вышел из партии через два года после ее легализации.
– Неужели я для этого рисковал своей шкурой? – жаловался он. – Чтобы жить под прежним флагом и с прежним гимном? Чтобы была восстановлена монархия? К тому же и эта наша конституция – полное говно!
На самом-то деле папа мечтал о такой Испании, какой она была при Франко, но чтобы во главе ее стоял коммунист, а не ультракатолик и военный. Он наивно полагал, что народ дружно проголосует за коммунистов, как только будут объявлены свободные выборы. С каким треском рухнули его надежды!
Отец был убежден, что испанцы от природы наделены стадным чувством.
– Это привыкшая к покорности толпа, они родились, чтобы подчиняться, и всегда со всем будут согласны. Думать их никто не научил. А воображения у них меньше, чем вот у этого башмака.
Я хорошо помню, что во времена моей юности каждый наш ужин был приправлен подобными комментариями. Мама пыталась его осадить:
– Грегорио, хватит тебе.
И тогда отец, надувшись, замолкал и ел, не поднимая глаз от супа, супа, в который, возможно, мама тайком плюнула; однако вскоре опять заводил все ту же пластинку:
– Не знаю другого народа, столь же чуждого революционному духу. Нашему надо принести все готовенькое – из-за границы.
Когда мне исполнилось лет одиннадцать или двенадцать, отец подарил мне «Коммунистический манифест». Я храню его до сих пор. Там имеется пафосная надпись: «От твоего отца и товарища», – а ниже стоит его подпись, словно он и был автором сего сочинения. Через несколько дней отец спросил, понравился ли мне Манифест. Я ответил, что понравился. Он попытался поговорить со мной на эту тему, но далеко мы не продвинулись. Вмешалась мама:
– Ты что, не понимаешь, что он еще ребенок?
По правде сказать, Манифест я так и не осилил. Хотя начал было, чтобы не сердить отца. Но ничего не понял и бросил где-то на пятой-шестой странице. В ту пору я с удовольствием читал только комиксы.
Сегодня мне легко представить себе, какое разочарование испытал отец по нашей с братом вине. Раулю он не дарил «Коммунистического манифеста», поскольку, когда младший сын научился читать и начал что-то соображать, наш папа уже расстался с партией. Его горький опыт я могу сравнить с тем, что сам пережил из-за Никиты. Ты стараешься передать сыну собственные взгляды на мир, какие-то ценностные ориентиры, а потом вдруг понимаешь: твои разговоры ему совершенно неинтересны, он думает о своем, и все, во что ты верил, умрет вместе с тобой – или даже раньше тебя. На самом деле нами движет эгоистическое желание продолжить себя самих в нашем потомстве. Пожалуй, мы были бы способны извлечь из собственных детей их личность, как извлекают тело зверька из шкуры, собираясь сделать чучело, и набить их опилками своего собственного я.
Как бы отреагировал папа, если бы узнал, что его внук носит на спине татуировку в виде свастики?
Хотя, кто знает, возможно, ему бы это понравилось. Дедушки и бабушки, они такие. Разрешают внукам то, что запрещали своим детям, и подобным свинским способом хотят завоевать их любовь.
3.
Мы уже все собрали, чтобы ехать на пикник, и только ждали папу, который сильно задерживался. Мама встала пораньше и приготовила картофельную тортилью и курицу в сухарях. К тому часу, когда мы с братом проснулись, вся квартира успела пропахнуть жареным. Папа сказал, что ему надо забрать у друга какие-то бумаги, но не позднее одиннадцати он вернется, и тогда мы вчетвером поедем на нашем «Сеате-124» за город и проведем день на природе, как делали уже не раз.
Я запомнил далеко не все. Помню, что стояла жара, небо было голубым и мама очень сильно сердилась: часы показывали двенадцать, потом час, а папа все не приходил. За сущую ерунду она отругала Раулито, тот расплакался, а потом заголосил, как поросенок на бойне. С поросенком его как-то сравнил папа, а я услышал и стал повторять, дразня брата. Вскоре мама отругала и меня тоже – думаю, ради равновесия, а то Раулито мог подумать, что его она любит меньше. Еще чуть позже она подозвала нас к себе, каждого поцеловала, попросила прощения и разрешила включить телевизор, хотя обычно в такое время нам это запрещалось.
Папа не вернулся домой ни в тот день, ни в следующие. Мы с Раулито поняли, что теперь мама уже не сердилась, а горевала – глаза у нее все время были красные, словно от слез, и с нами она почти не разговаривала. А я поступил с братом жестоко: сказал ему, что папа больше никогда к нам не придет, потому что сбежал с какой-то негритянкой. На самом деле мне казалось, что я вовсе не обманываю его, а если что и придумал, то только про цвет кожи якобы замешанной в это дело женщины. Я свято верил в то, что говорил, но кроме того, хотел понять по лицу брата, как следует реагировать на известия такого рода. Раулито помчался к маме и долго всхлипывал, прижавшись к ее груди. Но главной своей цели он не добился: мама была слишком расстроена, чтобы наказать меня.
В какой-то момент я догадался, что она знает, где находится отец, но не может нам этого сказать. Прошло еще несколько дней, и как-то после обеда в квартиру вошел усталый и грязный папа, а по дому распространился неприятный запах. Родители долго о чем-то шептались. Потом отец много часов пролежал в спальне с задернутыми шторами, и мама носила ему туда настой ромашки. На работу он не ходил, а нам было велено вести себя тихо, чтобы не беспокоить папу, так как у него вроде бы болела голова. Наконец эта непонятная болезнь прошла, и он вернулся к нормальной жизни. Иногда в выходные дни, если стояла хорошая погода, наша семья отправлялась на пикник в Каса-де-Кампо. Мы с Раулито быстро забыли, что папы больше недели не было дома. Не знали, почему его не было, и не спрашивали об этом. Может, боялись, что он и вправду убегал куда-то с негритянкой или женщиной любого другого цвета.
4.
Была уже половина первого ночи, а я все искал Манифест, подаренный мне когда-то отцом. И наконец нашел на дне картонной коробки с рекламными проспектами и старыми газетами. Первым делом я проверил дарственную надпись, боясь, что она почему-нибудь исчезла. Чернила и вправду сильно выцвели, и на миг меня охватили горькие чувства, ведь я обнаружил след далекого прошлого, след своего отца. Судя по всему, Пепа угадала хозяйское настроение: она подбежала ко мне и стала тереться о мои ноги, словно стараясь утешить.
Утром при свете дня я обратил внимание на некоторые детали, которых подростком просто не заметил. А может, и заметил, но в том возрасте не мог придать им должного значения. Например, я увидел, что речь идет о мексиканском издании, датированном 1967 годом, и перевод на испанский был выполнен Венсеслао Росесом[9]. Но этот Манифест я так и не прочитал. А позднее, уже в студенческие годы, купил более современный перевод, в котором было восстановлено оригинальное название брошюры Маркса и Энгельса – «Манифест Коммунистической партии».
Я никогда не был истинно верующим – ни в политическом, ни в религиозном смысле. Подозреваю, что по сути это одно и то же. Я не мечтаю о вечной жизни. И не понимаю, как человеческие существа после многих веков, наполненных самыми ужасными событиями, способны по-прежнему верить в возможность социального рая на земле.
Я не католик и не марксист, я никто – просто тело, чьи дни, как и у всех смертных, сочтены. А верю я в очень немногие вещи – в те, которые доставляют мне удовольствие и которые можно видеть каждый день. Верю в такие вещи, как вода и свет. Верю в дружбу моего единственного друга и верю в стрижей, ведь они, несмотря на шум и отравленный воздух, каждый год возвращаются в наш город, хотя, боюсь, их становится все меньше.
Эти вещи не имеют ни малейшего политического или религиозного смысла, так же как, например, черный шоколад, который мне тоже нравится. Во всяком случае, они не причиняют людям никакого вреда.
А еще я верю в пользу хирургических операций, иногда верю в музыку, в доброту отдельных людей и верю в детей.
Кстати, о детях. Сегодня со мной случилась забавная история. Как это часто бывает, я повел Пепу гулять в парк Эвы Дуарте, одно из моих самых любимых мест в нашем районе. Пепе он тоже нравится. Там она резвится вместе с другими собаками, с которыми уже успела познакомиться и подружиться. Собаки, встречаясь, обнюхивают друг другу гениталии, и эта привычка приводит меня в восторг.
Обычно я выбираю скамейку на солнце, если погода прохладная, или в тени, если жарко. Читаю книгу или газету, готовлюсь к урокам, проверяю письменные работы и наблюдаю за стрижами или другими птицами, летающими у меня над головой (иногда даже делаю зарядку, потому что в парке установлены специальные тренировочные скамейки), а Пепа тем временем исследует в свое удовольствие территорию парка. Рано или поздно она устает и ложится отдохнуть рядом со мной. Неподалеку имеется огороженная площадка, посыпанная песком, где собаки могут бегать без поводка, но участок такой маленький, что бегом это назвать трудно.
У самого входа со стороны улицы Франсиско Силвелы стоит памятник Эве Дуарте, давшей свое имя парку. У его пьедестала я, покидая парк, и положил «Коммунистический манифест», подаренный мне отцом более сорока лет назад. Я по-прежнему не отказываюсь от мысли постепенно избавиться от всего, чем владею. Мы с Пепой уже дошли до уличного тротуара, когда сзади раздались детские голоса: «Сеньор! Сеньор!» Я обернулся и увидел, что за мной бегут две девочки лет семи-восьми, а может, и девяти. Одна из них, та, что повыше ростом, с восточными чертами лица, размахивала Манифестом. Они с подругой были уверены, что я его просто забыл. Благодаря их, я испытал искушение спросить, не хотят ли они оставить книгу себе, но вовремя одумался, и не потому, что текст Маркса и Энгельса кажется мне не очень подходящим для детского чтения, а потому, что, судя по возрасту девочек, они пришли в парк с родителями, которые наверняка приглядывают за ними, находясь где-то поблизости. Так вот, меньше всего на свете я хотел бы, чтобы они приняли меня за какого-то философа-извращенца, сфотографировали своими мобильниками, написали донос в полицию или выложили эти снимки в соцсети на всеобщее обозрение и мне на позор.
Снова оставшись один, я вырвал страницу с папиной надписью и бросил книгу в урну рядом с автобусной остановкой.
Потом мы с Пепой направились домой. Я спросил себя, какой смысл сохранять страницу с посвящением, которое из-за выцветших чернил стало почти нечитаемым. «От твоего отца и товарища». Я скомкал ее и бросил в следующую урну.
«Бедный папа, – подумалось мне. – Вот теперь ты умер по-настоящему».
5.
Наша семья считалась неверующей. Мы не ходили к мессе, дома у нас не было предметов культа. Тем не менее и меня, и Раулито в младенчестве крестили, а позднее мы, наряженные в смешные матросские костюмчики, вместе с другими детьми приняли первое причастие в ближайшей церкви. У меня даже осталось несколько фотографий. А у брата – ни одной, потому что я искромсал их ножницами. Такая вот детская шалость.
Надо полагать, эти церковные обряды, с точки зрения наших родителей, должны были сыграть для нас защитную роль. А мы с братом воспринимали их как чудесную игру. Потому, думаю я сейчас, что чудесно было чувствовать себя такими же, как все, то есть нормальными, а нормой во времена Франко было ходить в церковь и принимать первое причастие в матросском костюмчике, белых ботинках и со свечкой в руке. После того как я прошел обряд, мама убрала все эти вещи в шкаф, чтобы три года спустя нарядить в них Раулито, хотя и пришлось кое-что переделать, поскольку мой брат уже и в семь лет был довольно толстым. Потом, как мне смутно помнится, она продала их или отдала кому-то из соседей.
Блюдя осторожность, папа с мамой в нашем присутствии не высказывались против священников и церкви, как не комментировали и выученные нами молитвы. А еще они предупреждали, чтобы мы не болтали лишнего в школе. Ни папа, ни мама никогда не богохульствовали – не потому, что вообще не позволяли себе крепкого словца, а потому, что именно в богохульстве как таковом не видели никакого смысла. Я тоже обычно не примешиваю к ругательствам имя Бога. Те непотребные выражения, которые мне порой все же случается отпускать, похожи на отцовские. Когда я матерюсь или чертыхаюсь, это матерится и чертыхается мой отец. А когда никто не может меня услышать, я ругаюсь только для того, чтобы вообразить, будто отец на миг вселился в мое тело.
Может показаться странным, что за несколько дней до Рождества мы устраивали на комоде в прихожей рождественский белен[10]. На самом деле и наши Вифлеемские ворота с чудесно сделанными фигурками, и трава, и река из серебряной фольги не имели для моих родителей никаких религиозных коннотаций. Чтобы в этом не оставалось сомнений, папа помещал над яслями латунный значок – золотые серп и молот на красном фоне. В гостиной мы ставили елку, украшенную шарами, мишурой и гирляндами из фонариков, а в новогоднюю ночь, сидя вчетвером перед телевизором, обязательно съедали каждый по двенадцать виноградин[11].
В тот раз виноградины были уже распределены по четырем блюдцам, и тут папа, уже слегка подвыпив, ткнул пальцем в экран со словами:
– Вот сейчас покажут дом, где меня пытали.
Мама шикнула на него. Но вдруг выяснилось, что удары колокола, отсчитывающие последние мгновения уходящего года, нам решили показать не с площади Пуэрта-дель-Соль, как это было всегда. Вместо этого появилось какое-то здание в Барселоне с часами на фасаде. Папа был явно разочарован и тотчас заявил:
– Черт побери, они все поменяли. Нет, в этом доме меня не пытали.
Мама стукнула своим блюдечком по столу так, что несколько виноградин улетело.
– Грегорио, уймись. Если ты не замолчишь, я пойду спать.
6.
Отец несколько лет скрывал от нас с Раулито, что его держали в подвальных камерах Главного управления безопасности. Как мне теперь известно, после той новогодней ночи мама вырвала у него обещание: пока мы не вырастем, он больше ни словом не упомянет при нас о тех событиях. Однако по вине самой же мамы в памяти у меня накрепко засела мысль, что в жизни отца был эпизод, который следовало скрывать. Если бы она вела себя иначе, сдержалась бы и не заострила наше внимание на непонятных словах отца, ситуацию можно было бы легко сгладить. Ведь мальчик моего возраста, не говоря уж про шестилетнего Раулито, ничего бы не заметил, к тому же мы сидели перед телевизором, и для нас с братом главным было не пропустить нужный момент и проглотить положенные двенадцать виноградин. Все остальное пролетало мимо наших ушей.
Но мама не переставала выговаривать отцу, пока окончательно не вывела его из себя. В результате он отказался глотать «эти чертовы виноградины», на которые уже смотрел со злобой. Да и маме не пришло в голову собрать обратно на блюдце свои, рассыпавшиеся по столу. Не успел прозвучать последний удар колокола, как она дала мне оплеуху за то, что я стащил одну ягоду с блюдечка брата. В четверть первого – ну, может, в двадцать минут первого – мы все отправились спать. А доска для игры в парчиси с уже приготовленными для партии фишками так и осталась стоять в гостиной. Мы слышали, как за стеной папа и мама орали друг на друга, а потом вдруг послышался мягкий шлепок, после чего голоса стихли. На следующее утро мама вышла из спальни с распухшей губой, и у меня уже не осталось никаких сомнений, что в жизни папы действительно есть секрет, о котором нельзя говорить.
Начиная со следующего года последние удары колокола по первому каналу неизменно передавали с площади Пуэрта-дель-Соль. Думаю, что, когда мы вчетвером садились перед черно-белым телевизором, папа изо всех сил старался не повторять свою фразу про пытки – наверняка мама напоминала ему о данном обещании, прежде чем дело доходило до виноградин.
Как-то в 1977 году мы с отцом шли по улице вдвоем, без мамы и Раулито, и его вдруг прорвало. Он был в страшном гневе, нижняя губа дрожала, брови сердито сдвинулись. Он буквально задыхался от ярости, от невозможности поверить в только что полученное известие: министр внутренних дел вручил Серебряную медаль за полицейскую доблесть Антонио Гонсалесу Пачеко по прозвищу Малыш Билли, тому самому инспектору полиции, который в течение одиннадцати дней пытал нашего отца в камере Главного управления безопасности, в том самом здании, откуда каждую новогоднюю ночь телекамеры показывают колокол, отбивающий последние секунды уходящего года. Мне было четырнадцать лет, и отец заявил:
– Уже пора рассказать тебе обо всем, но незачем передавать наш разговор матери, потому что это разговор чисто мужской. Понятно?
Слегка смутившись, я ответил, что да, понятно.
В те времена отец, по его словам, вроде бы не был на прицеле у Бригады социальных расследований[12]. Вернее, поспешил он добавить, при диктатуре любой гражданин изначально выступает в роли подозреваемого. То есть имя отца не значилось в списках особо разыскиваемых людей. Вот что он хотел подчеркнуть. В то утро, когда мы собирались ехать на пикник, ему не повезло: он зашел домой к своему товарищу, за которым явились полицейские. Отец уже прощался. Если бы полицейские пришли хотя бы на минуту позже, они бы отца там не застали. Короче, увели обоих, «как две вишенки, соединенные палочками». Полицейские знать не знали, кто он такой, просто решили попробовать из него тоже вытянуть какую-нибудь информацию. Он это понял на первом же допросе. У отца не было с собой никаких документов. Он сообщил им свое имя, и кто-то побежал проверять эти данные. А его начали избивать.
Заправлял всем на допросе Малыш Билли. Он так гордился своим прозвищем, что несколько раз прошептал его отцу на ухо, словно хотел еще больше запугать. Я спросил, знал ли он раньше этого человека. Отец ответил: плохих людей все знают, потому что о них ходит много разных слухов, а Малыш Билли был гораздо хуже остальных. И вот теперь, в демократической стране, палач получает правительственную награду.
Папа описал мне некоторые из тех ужасных вещей, которые с ним проделывали. Но обо всех он рассказать не мог. Пока… Кое-что лучше приберечь до той поры, когда я повзрослею. Он не собирается меня запугивать, просто есть факты, которые любой отец рано или поздно должен открыть своим детям. Я узнал, что ему несколько дней не давали пить и есть. Не давали спать и не пускали в туалет. Пока он вспоминал подробности чисто физических последствий такого обращения, я внимательно разглядывал машины, людей, фасады домов – и не столько потому, что мне было неинтересно, сколько потому, что не знал, в какой закуток памяти поместить услышанное и что с ним делать потом. На самом деле я желал, чтобы он поскорее перестал лить мне в уши все эти ужасы.
Его снова и снова поднимали в комнату для допросов, мучили и отправляли обратно в камеру. Вскоре он потерял всякое представление о времени. Как-то раз Малыш Билли велел поставить отца к открытому окну и пригрозил, что сейчас «случайно вытолкнет наружу». Его по многу часов держали голым. А еще били телефонным справочником по голове – бум, бум, бум, – что вызывало сильные головные боли, которые продолжались и после освобождения. А еще у него с мочой шла кровь. Отца отпустили, дав коленом под зад, после того как вытянули ту немногую информацию, которая имелась у любого члена партии, стоявшего во втором или третьем ряду. Малыш Билли на прощанье сказал ему примерно следующее:
– Я не хочу тебя больше здесь видеть, сраный коммуняка, и клянусь, что в следующий раз ты живым отсюда не выйдешь.
Когда мы вернулись к нашему подъезду, папа пристально посмотрел мне в глаза с высоты своего внушительного роста и резко спросил, какие выводы я извлек из его рассказа. Вопрос застал меня врасплох, и я не нашелся с ответом. Он запросто мог дать мне по физиономии, но, к счастью, успев выплеснуть наружу свое негодование, не обратил внимания на мою невнятную реакцию. Видно, решил, что после его откровений я окаменел от ужаса. Чуть позже, уже перед самой дверью нашей квартиры, отец ласково положил руку мне на плечо и взял с меня обещание, что, повзрослев, я вступлю в компартию и буду неукоснительно выполнять ее программу. Я поспешил кивнуть и не испытывал при этом ни малейших колебаний, поскольку в свои четырнадцать лет искренне мечтал стать таким же большим, сильным и безупречным, как он.
7.
Сегодняшний день был не слишком подходящим для встречи с Хромым. Утром, во время первой прогулки с Пепой, я купил свежий номер «Мундо». И сел на скамейку, чтобы почитать газету. Обычно по воскресеньям в девять утра народу в парке бывает совсем мало. А если к тому же и погода хорошая, как нынче, то вообще чувствуешь себя там распрекрасно.
Едва открыв газету, я увидел две полосы, посвященные некоему Зугану, и сразу же начал придумывать предлог, чтобы можно было не идти вечером в бар к Альфонсо. Я знаю, что Хромой каждый день читает «Мундо», как и другие газеты. А значит, не пропустит статью, посвященную единственному осужденному по делу о теракте, получившем название «11-М»[13]. Могу себе представить, какую мину скроит мой друг, увидев сильно увеличенную фотографию одного из террористов, которые чуть не отправили его на тот свет. Я просто уверен, что Хромого целый день будет терзать фантомная боль в потерянной ноге. Поэтому лучше держаться от него подальше.
Как я прочитал, Джамал Зуган вот уже четырнадцать лет сидит в тюрьме в одиночной камере. Он по-прежнему полностью отрицает свою вину, хотя на суде, как напоминает автор статьи, было доказано, что он подложил бомбы (газета не уточняла, сколько и в какие именно электрички), а также распределял между другими участниками теракта мобильные телефоны, использованные при взрывах. И вот теперь начато расследование дела о его принадлежности к группировке заключенных-джихадистов, которые обмениваются письмами и ведут в тюрьмах пропаганду, стараясь обратить других в свою веру.
Как-то раз Хромой признался мне, что было время, когда ему по ночам снился этот самый Зуган: будто бы суд приговорил его к смертной казни, а Хромого назначил палачом. Но ему никак не удавалось казнить осужденного.
– Я выпускал в него все патроны из винтовки, он сначала падал, а потом с улыбкой вставал и выдергивал из тела пули, словно волоски. Я отсекал ему голову на гильотине – он поднимал ее и снова приставлял к шее. Я испробовал виселицу, но Зуган, раскачиваясь на веревке, насвистывал какую-то мелодию или рассуждал о погоде.
Не успел я вернуться домой, как зазвонил телефон. Хромой. Не хочу ли я пойти вместе с ним на митинг Vox[14]в Висталегре? Или кишка тонка? Про статью в «Мундо» он даже не заикнулся. Тем лучше. В первую минуту я подумал, что было бы, пожалуй, занятно послушать речи ультраправых, их патриотические лозунги, замешанные на призывах к единству Испании и приправленные проклятиями в адрес арабов и прочих мигрантов. Но мне было лень, хотя сыграла свою роль и боязнь скомпрометировать себя. А также нежелание смешиваться с разгоряченной толпой. Поэтому я воспользовался отговоркой, которую придумал недавно в парке.
У отца со мной вышла промашка, а может и нет, в зависимости от того, как на это посмотреть. Я так никогда и не попытался получить партийный билет. Но ведь повлиял на меня его собственный выход из партии. Однако искать идейную опору в противоположном лагере я тоже не испытываю ни малейшего желания.
На самом деле я уже давно являюсь членом партии ПЖБО – Партии Желающих Быть Одинокими, где не занимаю никакого поста. В этой партии всего один член – я сам, хотя при этом так и не стал ее вождем.
Вся программа моей партии целиком и полностью сводится к единственному лозунгу: «Оставьте меня в покое».
8.
Следующее анонимное послание обескуражило меня своей банальностью. Однако и цель уколоть побольнее там тоже была очевидна. Вот его текст:
Темно-синий свитер, коричневые брюки и черные ботинки – одно никак не вяжется с другим. Ты одеваешься как старый дед.
Я и на самом деле в последние дни носил эти вещи.
После предыдущей записки прошло около месяца. Новую я решил оставить в почтовом ящике и понаблюдать за поведением Амалии. Эту мысль мне подкинул Хромой. Хотя я решил для себя, что поступлю так лишь при условии, что в анонимке не будут упоминаться мои не слишком пристойные похождения, – тогда я ее, конечно, спрячу или разорву.
Что касается моей манеры одеваться, то Амалия всегда утверждала, что у меня нет собственного стиля. Никогда, даже в наши добрые времена, она не скрывала своего мнения, но пилить начинала, только если мы отправлялись куда-нибудь вместе – и особенно в места, где могли встретиться с людьми ее профессионального круга. Она боялась, что из-за моего внешнего вида и сама станет объектом шуток. В остальное время ее бдительность притуплялась. Были, разумеется, эпизодические вспышки, но они случались все реже и реже. А как только у нас начались серьезные раздоры, невнимательность жены стала перерастать в полное безразличие. Кстати сказать, не ей бы критиковать мой гардероб, поскольку одежду для меня мы всегда ходили покупать вместе. И я напрасно роюсь в памяти, отыскивая там хоть один случай, когда бы я не подчинился ее выбору. А вот комбинировал вещи я уже по своему усмотрению и должен признать, что порой по утрам в спешке хватал из шкафа первое, что попадалось под руку. В конце концов, я ведь шел на работу, а не на официальный прием или какой-нибудь шикарный праздник.
Что касается Амалии, то она всегда выходила из дому расфуфыренная, даже если собиралась всего лишь дойти до угла.
В принципе, эту записку вполне могла написать и моя жена. На нее иногда всякое накатывало. Вдруг начинала осыпать меня такими упреками, словно раньше знать не знала, что я за человек. И со временем я пришел к выводу, что, пожалуй, и вправду не знала.
Как считал Хромой, если записку написала Амалия, она постарается любым способом сделать так, чтобы ее достал из почтового ящика я. И мне захотелось испытать жену: оставить там анонимку, где осуждалась моя манера одеваться, вместе с прочей сегодняшней почтой. Я поднялся в квартиру и стал ждать. Вскоре вошла Амалия, держа в руках конверты, которые я видел в ящике полчаса назад, но ни словом не обмолвилась об анонимке.
«Значит, это она! – решил я. – И мерзавка знает, что я хожу в бордель. Как, интересно, ей удалось до этого докопаться?» И вдруг меня кольнуло подозрение: неужели Амалия находится в тайном сговоре с моим другом, с моим единственным другом?
Минут через двадцать после возвращения домой, когда оба мы были на кухне, она сказала самым естественным тоном:
– Кстати, сокровище мое, я нашла в нашем почтовом ящике вот эту бумажку. Очень надеюсь, что впредь ты будешь прислушиваться к моим советам, выбирая, что тебе надеть.
Она отвернулась и снова принялась резать лук.
9.
Я спрашиваю у Хромого, как он провел время на митинге Vox. И спрашиваю, естественно, не без подколки, будучи уверенным, что сейчас он начнет негодовать и бурно возмущаться лозунгами этой партии. И что я слышу? Во Дворец Висталегре пришло столько народу, что места всем не хватило, около трех тысяч остались снаружи. Он говорит совершенно серьезно, так что уже заготовленная улыбка сползает с моего лица, и я настораживаюсь.
– Они никакие не фашисты, – заявляет он, словно заранее вступая со мной в спор.
– А кто же они тогда?
Хромой согласен, что лидеры Vox выглядят истеричными и взбалмошными идеалистами, что порой они склонны придавать излишнее значение мужской доблести… И тем не менее под конец он говорит с явным одобрением:



