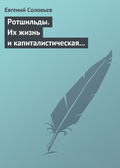Евгений Андреевич Соловьев
Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность
Достоевский был горячим и неизменным приверженцем женского движения. В майском выпуске «Дневника» за 1876 год он восторженно заявляет, что в русской женщине заключена «одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления». «Возрождение русской женщины, – говорит он, – в последние 20 лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, откровенный, безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение, по крайней мере, заставил задуматься… Русская женщина целомудренно пренебрегла препятствиями и насмешками. Она твердо заявила о своем желании участвовать в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно. Русский человек в эти последние десятилетия страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма, женщина же осталась гораздо более верна чистому поклонению идее, служению идее. В жажде высшего образования она проявила серьезность, терпенье и представила пример величайшего мужества».
Совершенно естественно поэтому, если женщины оказывали Достоевскому особенное внимание. То они приходили к нему на квартиру поговорить, познакомиться, посоветоваться; то писали ему бесчисленные письма, в которых излагали самое интимное своей жизни, прося руководства. Хотя и мало было у Достоевского свободного времени, так как он был завален работой и по изданию «Дневника», и по отделке «Братьев Карамазовых», однако он и для разговоров находил минуты, и старался обстоятельно отвечать на все письма и запросы. Он принимал даже на себя различные хлопоты и поручения. Когда, например, одна корреспондентка сообщила ему, что она непременно хочет учиться, а чтобы учиться, ей приходится бежать от отца и от жениха, которого она не любит, – Достоевский выхлопотал ей покровительство одной очень влиятельной дамы. Вместе с этим он советовал быть осторожнее: «быть женою купца вам, с вашим настроением, конечно, невозможно. Но быть доброй женой и матерью – это вершина назначения женщины… Вы поймете сами, что я ничего не могу сказать вам о том молодом человеке, о котором вы пишете. Впрочем, вы пишете, что его не любите, а это все. Ни из-за какой цели нельзя уродовать свою жизнь. Если не любите, то и не выходите. Если хотите – пишите еще». Все ответы Достоевского удивительно мягки, сердечны, откровенны. Он очень жалеет, например, о неудаче экзамена по географии другой своей корреспондентки, поддерживает ее душевную бодрость. «Непозволительно и непростительно, – пишет он, – так быть нетерпеливой, так торопиться и в ваши крошечные лета восклицать: из меня ничто не выйдет! Вы еще подросток, вы не доросли еще до права так восклицать. Напротив, при вашей настойчивости непременно что-нибудь да выйдет. В вас, кажется, есть и чувство, и теплота сердца, хотя вы капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?) Не сердитесь, дайте мне вашу руку и успокойтесь. Боже мой! С кем не бывает неудач?»
Еще в одном письме Достоевский благословляет какую-то барышню на трудный подвиг идти сестрой милосердия в Сербию… Повсюду в этих письмах удивительная сердечность и, вместе с тем, много бодрости душевной…
Судебными процессами Достоевский также интересовался прежде всего как общественный деятель. Благодаря его влиянию и участию, была, например, оправдана подсудимая Корнилова, так как Достоевский своими статьями доказал, что она невиновна. Не все, значит, страдание нужно!
Пушкинский праздник 1880 года был его настоящим апофеозом, восторженным признанием его величия. Вот как рассказывает об этом Н. Страхов: «Как только начал говорить Федор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал пo-писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренне выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличается слог Федора Михайловича, вполне передавались и его мастерским чтением. Не говорю ничего о содержании речи, но, разумеется, оно давало главную силу этому чтению. До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голос: „Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!“ Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно зарядившаяся энтузиазмом и изливавшая его на все, что казалось для того удобным, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стих, эта толпа вдруг увидела человека, который сам весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, уже несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Федора Михайловича; несколько человек, вопреки правилам, стали пробираться из залы на эстраду; какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Федора Михайловича, упал в обморок. Восторг толпы заразителен. И на эстраде, и в „комнате для артистов“, куда мы ушли с эстрады в перерыве заседания, все были в радостном волнении и предавались похвалам и восклицаниям. „Вы сказали речь, – обратился Аксаков к Достоевскому, – после которой И.С. Тургенев, представитель западников, и я, которого считают представителем славянофилов, одинаково должны выразить вам величайшее сочувствие и благодарность“. Не помню других подобных заявлений; но живо осталось в моей памяти, как П.В. Анненков, подошедши ко мне, с одушевлением сказал: „Вот что значит гениальная, художественная характеристика! Она разом порешила дело!“
В заключение биографии скажем о последних днях жизни Достоевского и его похоронах. Этот рассказ составлен по воспоминаниям очевидцев:
«Дней за десять до той кратковременной болезни, которая свела Федора Михайловича в могилу, зашел к нему О. Ф. Миллер напомнить ему о данном им обещании участвовать в пушкинском вечере 29 января (в день смерти поэта). Незваный гость, как это и часто случалось с Ор. Фед., оказался для него хуже татарина. О. Ф. Миллер не сообразил, что Федор Михайлович как раз дописывал тогда январский номер возобновляемого им „Дневника писателя“. Он выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный – отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах „Дневника“ в течение всего года. „Не пропустят этого, – говорил он, – и все пропало“ (известно, что не имея средств для внесения залога, он должен был издавать свой „Дневник“ под предварительною цензурою). Строки, так его беспокоившие, надо думать, те, которыми открывается пятый отдел 1-й главы „Дневника“ (под заглавием: „Пусть первые (т. е. народ) скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтобы уму-разуму поучиться“): На это есть одно магическое словцо, именно: „Оказать доверие“. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»…
На другой же день Орест Федорович Миллер узнал о внезапной болезни (разрыв легочной артерии) Достоевского и поспешил к Анне Григорьевне в сильнейшем беспокойстве о том, не вчерашние ли разговоры повредили Федору Михайловичу. К успокоению своему, он узнал, что вслед за тем Федор Михайлович был действительно сильно взволнован другим совсем посещением. Сильный припадок обыкновенной его болезни сразу сокрушил давно надломленный организм. Последние 8 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой вследствие катара дыхательных путей. Смертельный исход болезни произошел от разрыва легочной артерии и был случайностью, которой никто из докторов не предвидел. Предсмертная болезнь началась с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Федор Михайлович не обратил ни малейшего внимания. 26 января он был, по-видимому, совершенно здоров и не хотел советоваться с докторами насчет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Фон Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора после первого кровотечения, произошло второе, более сильное, причем больной потерял сознание. Когда он пришел в себя, то пожелал исповедаться и причаститься. До прихода священника он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше. Весь день 27 января кровотечение не повторялось и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы «Дневник писателя» вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты. 28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем полила опять кровь, и Федор Михайлович очень ослабел. В это время к нему заехал А.Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним на каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут и дал прочесть жене. Это было Матф. гл. III, ст. 11: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит Нам исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: «Ты слышишь „не удерживай“, – значит я умру», – и закрыл книгу. Предчувствие скоро оправдалось. За два часа до кончины Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде. После обеда А.Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою, и при них в 6 с половиной часов вечера случилось последнее кровотечение, за которым последовало беспамятство и агония. Анна Ивановна Майкова сейчас же пустилась отыскивать еще доктора и привезла с собой Н.П. Черепнина, которого нашла у одного из его знакомых. Но когда они приехали, уже наступал конец, и Н.П. Черепнину довелось только услышать последние биения сердца Федора Михайловича. Несколько раньше приехал Б.М. Маркевич, описавший потом последнюю минуту смерти. (См. «Русский вестник» 1881 года, февраль). Федор Михайлович скончался 28 января 1881 года, в 8 часов 38 минут вечера.
Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных изъявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени еще не бывало на Руси таких похорон. Всего яснее покажут дело цифры: в погребальной процессии, при выносе тела из квартиры (Кузнечный переулок, № 5) в Церковь Св. Духа, в Невской лавре, было несено 67 венков и пели 15 хоров певчих. 67 венков – это значит 67 депутаций, 67 различных обществ и учреждений, пожелавших оказать почести умершему. 15 хоров певчих – значит 15 различных кружков и ведомств, имевших возможность для этого снарядить певчих. Каким образом составилась такая громадная манифестация – составляет немалую загадку.
Очевидно, она составилась вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких приготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время между неожиданным известием о ней и похоронами (три дня) было слишком коротко для каких-нибудь обширных приготовлений. Следовательно, почти каждая из 67 депутаций имеет свою особенную историю, свое признание величия умершего писателя.