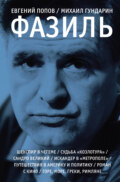Евгений Попов
Песня первой любви
Ворюга
Kaк-то раз Галибутаев явился домой, имея во внутреннем кармане телогрейки пол-литра водки.
При нынешних ценах на водку и прочие крепкие напитки мысль о них вызывает горькую усмешку у пьющего, о чем Галибутаев и сообщил своей жене Машке.
А та отвечает:
– Ты много-то не болтай, а садись, будем жрать.
– Цыц, ворюга! – строго прикрикнул Галибутаев и поставил пол-литра на стол. А сам улыбнулся.
И стал умываться, сняв телогрейку, скинув сапоги, размотав портянки.
И босой, умытый, в майке, он сел за стол, где дымились щи, и водка глядела из стаканов живыми глазами.
– Да. Водка, – сказал Галибутаев и выпил.
Выпила и Машка.
– Вот ты говоришь «ворюга». Сколько раз тебе повторять, чтоб ты так не говорил. Я – рабочая женщина, – завела она.
– Знаю. Галибутаев все знает. А «ворюга» – это тебе, чтобы тебя одушевить. Поняла?
– Я не знаю, – сказала женщина.
– А ты знай! Я хочу видеть одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не хочу видеть и не вижу. А тебя я хочу видеть в одушевленном виде, поэтому и называю «ворюга». Поняла?
– Воодушевить, что ли? – сказала Машка неуверенно.
– Нет, одушевить. Понимаешь?
Машка обиделась.
– Понимаю. Я понимаю, что я тебя с такими разговорами скоро попру с квартеры. Пошел, пошел! Ишь, одушевленный нашелся…
И с расстройства выпила единым духом еще полстакана.
Галибутаев призадумался. А подумать ему было о чем. В том-то все дело состояло, что он не имел своего угла. А Машка, конечно, жена, но без загса. Так что в любой момент имела право попросить вон.
– Ну, ты шибко-то не хипишись, – примирительно сказал Галибутаев.
– А ведь выгоню, – пообещала Машка. – Вот дети приедут, и выгоню! Ты дождешься.
В том-то и дело, что – дети. Их у Машки было четверо, но две дочки, слава богу, вышли замуж за демобилизованных солдат и куда-то с ними уехали.
Потом Мишка – сын, главная язва. Он работал с Галибутаевым на одном производстве и постоянно допекал его. То спросит какую-нибудь гадость, то толкнет, а то еще начнет заставлять Галибутаева читать вслух газету, зная, что тот газету никак читать не может из-за болезненного косоглазия и малограмотности. Гонял его. Галибутаев язву опасался, но спуску тоже не давал. Баш на баш!
А младшенький Сережка – тот был бы вроде совсем безобиден, ввиду младшего пионерского возраста, но потенциально тоже угрожал Галибутаеву, его любви и квартире, так как, подрастая, тоже начинал стыдиться маминого поведения, о котором знала вся улица.
Покушав, настроение у супругов значительно возросло, и они включили Машкин телевизор.
«Американский буржуазный профессор в данном случае обнаруживает полное незнание основ марксизма-ленинизма», – сказал диктор.
И – далее. А потом был концерт и кино «Ставка больше, чем жизнь». Про неутомимого капитана Клосса. После чего телевизор кончился и потух.
Потух и день. Кончился день. Кончился и вечер. Наступила ночь, после которой и Галибутаеву и Машке нужно было опять идти и зарабатывать деньги.
– Шалыжки колотить, – сказал Галибутаев, потягиваясь.
– Ась? – не услышала Машка, собираясь укладываться.
– Шалыжки, говорю! Оглохла?! – заорал Галибутаев и вышел на крыльцо.
На крыльце тоже была ночь. Светила полная луна. Белели в темноте сараи. Окна барака почти все потухли. Была ночь, и Галибутаев вернулся домой, в постель. А уж в постели-то он был полный король и хозяин.
– Машка, давай я тебя сегодня как бы изнасилую, – сказал он.
Машка заинтересовалась:
– Это как еще так?
– А вот так. Ты вроде бы сопротивляйся изо всех сил, но по-настоящему, а я тебя попробую шарахнуть.
– Давай! – обрадовалась Машка…
– …И я набросился на нее, как лютый зверь, – рассказывал Галибутаев. – Сорвал с нее все. А она крутится, а она царапается, а она визжит. Другой бы насильник уже давно отступил. Но не таков Галибутаев. Сорвал с нее все и только хотел, как вдруг она меня как мотанет! И я больно упал с кровати.
– Ну и что?
– А то, что я сломал большой палец на правой ноге. Я упал на палец.
И Галибутаев длинно выругался.
– Ну, а потом?
– Вот слушай.
Утром Галибутаев хромая пришел на работу и, отозвав бригадира в сторону, изложил ему все обстоятельства. Бригадир ничего не сказал, и они пошли работать – разгружать бочки с огурцами. Бригадир встал с Галибутаевым на погрузку и осторожно-осторожно, очень бережно опустил край бочки на ногу Галибутаеву. Причем даже на левую.
– Ой-ой-ой! – закричал и заныл Галибутаев. – Ой, ноженька моя! Ой, беленькая моя! Ой-ой-ой!
После чего был составлен акт о несчастном случае. Галибутаев пошел в больницу, где ему сделали рентген большого пальца. Рентген полностью подтвердил производственную травму, и Галибутаеву дали стопроцентно оплачиваемый листок о нетрудоспособности.
И Галибутаев пришел домой, где Машка ужасно хохотала, когда он ей все это рассказал.
– Значит, тебе за это дело еще и деньги будут платить? Вот так да!..
– И целый месяц просидел я дома, – рассказывал Галибутаев, блестя глазами. – Я ничего не делал. А с Машкой мы выделывали такие номера, каких больше никто не умеет.
– А потом?
– Что потом? Потом она меня все-таки выгнала. Мишка-подлец вернулся из командировки. Сережа из пионерлагеря. Выгнала, а плакала. Я, говорит, так не могу, а так тоже не могу. У меня все-таки дети. Ворюга! Сломала мне палец! В ней весу знаешь сколько? Девяносто шесть кило. Она меня на десять лет старше.
– Ничего себе!
– Нет, даже не на десять, – Галибутаев стал считать, – мне – тридцать два, а ей сорок три. Стало быть, она меня старше на одиннадцать лет… Все мне отдала, – продолжал он рассказ о своей несчастной любви. – Все, что на мне мое, отдала и даже кожанку своего первого мужика. Он у ней техник был на аэродроме. Все – и телогрейку, и спецовку, и пальто «ГДР», и валенки, и шапку. Только вот деготь я у ней оставил.
– Какой еще деготь?
– Деготь. У меня была бутылочка дегтю, чтобы мазать сапоги. Я его у ней оставил. Надо будет Мишку попросить, чтобы принес. Или самому сходить.
– А ты где сейчас живешь?
– А я сейчас не живу, а ночую. Я у нас ночую, в гараже. Но мне обещали дать комнату. На территории прямо… А то зима скоро. Я вообще-то зимы не боюсь, потому что она мне все отдала, и валенки, и шапку. А номера мы с ней выделывали – больше таких никто не умеет. Знаешь…
И Галибутаев радостно засмеялся. Отсмеявшись, он продолжал:
– Одно скажу. Я с детства был болезненно близорукий. За это меня звали косым, и я кончил всего два класса. Потому что не мог учиться. О! Меня тонко нужно было учить! Специальное освещение, определенный час и мое настроение. А где все это взять, если я воспитывался в детдоме?
– Плохо было в детдоме?
– Почему плохо? Он мне и сейчас как родной. Они меня даже к главному глазному Филатову возили, но только тот сказал, что меня привезли слишком поздно, и хотел срывать у директорши с жакета медаль.
– Какую еще медаль?
– А я откуда знаю? У ней на жакете была медаль, и Филатов хотел ее срывать. Вы, говорит, испортили мальчика! А они тут при чем? Они обо мне заботились. Только они не знали, что меня нужно сразу везти к Филатову. Вот почему я и вижу только одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не вижу. А неодушевленный предмет – это все, что написано, и все, что есть вокруг.
– А одушевленный предмет – это была моя «ворюга»! – сказал Галибутаев и более не пожелал со мной разговаривать, считая, что дальнейшие мои вопросы задаются исключительно для того, чтобы над ним посмеяться.
* …ценах на водку и прочие крепкие напитки… – Эти цены долгое время были стабильными, но к концу 60-х поползли вверх, что нашло отражение в фольклоре:
Было три, а стало восемь,
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу
Нам и десять по плечу.
Ну, а если будет больше,
Мы устроим так, как в Польше.
Надо прямо признать – устроили еще почище, чем тогда в Польше, во времена профсоюза «Солидарность» и усатого лидера Леха Валенсы.
Баш на баш! – Сибирское просторечие тюркского происхождения. Точный перевод – «Голова на голову».
Капитан Клосс – польский телевариант нашего Штирлица.
Шалыжки колотить – деньги зарабатывать (сиб.).
Пальто «ГДР» – made in Германская Демократическая Республика, страна, тоже накрывшаяся медным тазом, как СССР и весь «социалистический лагерь».
…главному глазному Филатову… – Вряд ли к самому легендарному окулисту, имеется в виду, что к ПРЕСТИЖНОМУ врачу.
Горы
Один тихий человек ходил вечерами харчиться на угол Засухина и Семенюка в шашлычную, которая, право, не заслуживала такого высокого названия, а должна была прямо и честно именоваться «шалман». Ибо вечно там крутились бичи, мелкие торговцы с базара, стиляги, спившиеся рабочие и другие гнусные личности, которых никак не возможно будет нам взять с собой в то грядущее светлое будущее, которое уже не за горами.
Да и сам ассортимент, качество пищи в этом мерзком заведении оставляли желать много лучшего. Естественно, что никаких шашлыков здесь и в помине не было, а подавались одни лишь тусклые щи из квашеной капусты да какой-нибудь очередной «хек», преступно жаренный в неизвестном механическом жиру. Отчего дух невыносимого зловония окутывал не только собственно пищевой узел, но и всю примыкающую окрестность, состоящую из шлакозасыпных домиков пригорода большого города. Странно, что районная санэпидслужба до сих пор не зачеркнула этот гнусный рассадник крепкими досками крест-накрест! Удивительно! И свидетельствует о наличии определенных упущений и в этой службе.
А наш тихий человек по фамилии Омикин был отнюдь не какой там искатель развлечений, не спекулянт, не алкоголик, а просто тихий российский человек, оставленный женою за робость и ленившийся в восьмом часу вечера искать какое-нибудь специфичней подходящее для культурной пищи место. Да тем более (не станем скрывать!), тем более что и доходы пока не позволяли ему, заняв приличный столик в шикарном ресторанчике, потреблять что-либо сильней калорийное и умеренно вкусное. Доходы… Возможно, еще и по этой материальной причине бросила Омикина красавица жена.
Случилось все так. Они ехали с женой из центра в переполненном автобусе на передней площадке, где вдруг начал тихо бесчинствовать средних лет юноша-хулиган. Он, небритый и патлатый, сначала как бы и дремал, притиснутый к дверке, а потом очнулся и, обнаружив красавицу Омикину, громко сказал:
– Ах, девушка. Поэзия, звезды, знаете ли вы, что это такое?
Подобное высказывание неприятно поразило тихого Омикина, и он сдержанно обратился к жене, напоминая ей, что завтра настает 19-е число, то есть тот именно день, когда надлежит забрать из прачечной их семейное белье: простыни, трусы, наволочки. Хулиган захохотал нарочитым смехом, а жена Омикина, преисполнившись непонятного гнева, стала как бы отделяться от мужа и отделилась окончательно на остановке, где, когда они вышли, она заявила ему так:
– Я не хочу жить с мужчиной, который не может меня защитить как женщину от первого распоясавшегося хулигана.
Омикин-муж робко заявил, что хулиган не совсем распоясался и, может быть, это даже был вовсе не хулиган, а какой-нибудь молодой непризнанный поэт или изобретатель, на что жена презрительно и длинно расхохоталась.
– Трус! Тряпка! – бросила женщина, отхохотавшись. И вскоре от Омикина совсем ушла. Бесповоротно, как следовало бы понять Омикину. Потому что новый ее муж, бывший вдовец – подтянутый, общительный, бравый, служил в каких-то военных частях, имел дачу и трехкомнатную квартиру, постоянно уезжал в длинные командировки. Да и кто ж это от такого замечательного мужа возвратится к старому, пускай и некогда любимому, к бывшему, который – рохля, живет в деревянном обветшалом домике, что все сносят, сносят и снести никак не могут, богатств не имеет и иметь их никогда не будет, потому как – не суждено, энергия не та! Кто ж возвратится к такому мужу! Ясно, что полная лишь идиотка, а ею Омикина-жена отнюдь никогда не была. Она и за Омикина-то вышла в свое время с прикидом. Поразила ее на фоне всеобщего безудержного хулиганства и лихости странная его мягкость. Он на все еще случающиеся в нашей не совсем совершенной жизни обиды и недоразумения отвечал безоружной улыбкой и мягкостью жестов. А уж когда его особенно припекали, лишь тогда он бормотал:
– Вы знаете, это нехорошо так делать, так нельзя делать, совестно так делать.
И к Омикиной-жене, а тогда невесте с девичьей фамилией Миляева, он не лез грубо и требовательно, а по-старомодному долго за ней ухаживал, водил в планетарий показывать различные планеты и лишь когда-то уже страшно потóм сказал ей, глядя в порог общежития:
– Вы знаете, Люся, мне кажется, что я вас люблю. Не согласитесь ли вы стать моей женой?
Так и сказал: «Я вас люблю… Не согласитесь ли вы стать моей женой?» Чудак! Люся сначала хотела рассмеяться и решительно ему что-либо остроумное сказать, но потом глянула на его взволнованное, как бы затуманенное лицо, и что-то смеяться ей расхотелось. Она вдруг подумала, что есть, конечно, у нее и другие, ярче блестящие кавалеры, есть, да все какие-то они… шибко умные… Этот по крайней мере хоть водку литрами жрать не будет, брюки не станет трепать по чужим подъездам. Да и самой обрыдло по общежитиям толкаться. Тем более что и распределение в вечернем техникуме легкой промышленности на носу…
– Я не настаиваю, конечно, на спешном ответе, – несколько скрипуче продолжал он, услышав ее молчание. – Но ведь мы уже немного знаем друг друга, Люсенька. Так что вы, по-моему, уже в состоянии понять серьезность моих намерений.
Ну она и согласилась вскоре. Тайно очень надеялась на свой решительный характер. «Это хорошо, что он такой, – даже радостно думала она. – Я им буду руководить, он вежливый, я им буду руководить, и мы им покажем!»
Но ничего они никаким «им» не показали, да и как киселем руководить? Утекает сквозь пальцы. Омикин по-прежнему ровно служил в экономической лаборатории с окладом 110 рублей, старый дом по-прежнему не сносили, и Люся Миляева-Омикина, дипломированный специалист, стала сильно скучать на досуге. Когда Омикин сидит в мягких тапочках у телевизора и читает какую-нибудь скучную толстую книгу, а она, перемыв посуду от ужина в воде, кипяченной на электроплите, лениво пялится в тот же телевизор, изредка окликаемая Омикиным:
– Ну что, мышонок, спатиньки хочешь?
– Хочу, – зачем-то грубо отвечала она.
– Ой, а что ж ты мне не скажешь, – пугался Омикин. – Ну ты тогда стели, стели, а я на кухню пойду, еще почитаю маленько.
Вот. И, помаявшись определенное время, наслушавшись «спатиньки» и «мышонка», Люся вышеописанным образом взбунтовалась и Омикина окончательно бросила.
Что же Омикин? Его это событие жутко потрясло. Он даже беспомощно и по-детски заплакал, когда она ему о своем решении сообщила и заставила поверить.
– Но ведь это нехорошо так делать, Люсенька, разве я тебя чем обидел? – всхлипывал он.
– Ах, отстань, я сама все знаю, – досадовала она, укладывая в громадный серый чемодан искусственной кожи все эти свои различные флаконы, баночки, тюбики, кофты, рубашки.
– Разве я был тебе плохим мужем? – недоумевал он.
– Ах, да оставь ты! Зачем сто раз мусолить, когда все уже решено, – сдвинув модные, узко выбритые брови, торопилась она.
– Наверное, это я виноват. Наверное, я и на самом деле мало уделял тебе внимания, – повторял он.
Ну как с таким говорить? Сказать, что никто, что все ее подруги так не живут? Купил ты ей хоть раз арабские духи, или колечко золотое, или – в Сочи, в Ялту возил? Денег нет? Так не обязательно воровать, зарабатывай, если воровать не умеешь, вместо того чтобы книжки бесцельные читать или просто торчать в кресле с глупейшим, следует заметить, выражением лица.
– О чем ты сейчас думаешь? – как-то спросила она.
– А? – очнулся он.
– Я спрашиваю, о чем это ты мечтаешь с блаженненькой такой физиономией?
– Я? Да. Ты угадала. Я мечтаю, – улыбаясь, сказал он. – Ты знаешь, я думаю о нас с тобой и о том новом светлом времени, которое уже не за горами. И ты знаешь, пускай это вроде бы шаблон, расхожая фраза «не за горами», но мне, знаешь, мне конкретно чудятся эти горы, эти каким-то волшебным чистым мелким лесом покрытые, изумрудные горы, за которыми – тихое светлое будущее, где нет шума, ругани, толкотни, где нет зависти и нет грязи. Где дома крыты красной черепицей, а дорожки посыпаны желтым песком. Где веранды светятся теплым светом и где мы с тобой будем ходить, взявшись за руки, – вечно юные, вечно счастливые, вечно нежные. Будем гладить тихие цветы, слушать красивую музыку и звон кедровых шишек, будем купаться в синем-синем озере…
– Так и что ты делаешь для этого нашего с тобой светлого будущего? – трясясь от злобы, спросила она.
– Почему нашего? – удивился он. – Это – для всех. Это – объективный процесс. А я лишь честно нахожусь на своем месте, честно работаю, стараюсь и в быту быть честным.
– И много ты за свою честность получаешь? – уже не владела она собой.
– А нам разве не хватает? – улыбался он. – Сытые, одетые, обутые.
И казалось, совсем не замечал ее гнева. А может, и в самом деле не замечал.
Вот она его и бросила, а Омикин сначала сильно затосковал. Он даже выпил однажды сто грамм водки, но она ему не понравилась. Он горевал недоуменно, чтение на время забросил, и телевизор у него на время потух. Он теперь сидел вечерами молчаливый и один и все перебирал – чем мог обидеть, чем не угодить.
– Мало, мало внимания уделял, – морщась, говорил он сам себе. – За книгами не разглядел живого человека.
Но как-то постепенно успокоился. Ревности он никогда не испытывал. Неизвестный военный был для него фигурой мифической. Он и в мыслях представить не мог, чтобы Люся вот так же раздевалась, все с себя снимала и ложилась рядом с чужим человеком. Это было бы чудовищно и нелепо. Он не знал этого. И постепенно у него как-то в мыслях сложилось, что все случившееся произошло понарошке, временно. А то как же иначе? С кем тогда будет он там, за горами, гулять по счастливым рощам, встречать восход, провожать закат? И постепенно сгладилась горечь, и постепенно жизнь снова возвратилась в нормальную колею.
По-прежнему мягкий и исполнительный сидел он на работе, раз в месяц ездил на могилку к родителям, похороненным за городом на дальнем кладбище Бадалык. И харчился в шашлычной. А вот это он, пожалуй, ошибочно делал. Тут есть его в чем упрекнуть. Надо было или бороться с неправильной шашлычной путем жалоб, либо все-таки преодолеть свою лень и посещать места более приличные, не так уж это и дорого, если не шиковать. И в конце концов, коли сам варить не умеешь, то брал бы хоть из ресторана на дом, что ли, разом на три дня. Знаете, как это удобно – достал кастрюлю из холодильника, разогрел на плитке – и вечно сыт.
А он в шашлычную ходил. Ходил, ходил и доходился вот до какого жуткого случая.
Как всегда была набита вечерняя шашлычная разудалыми алкашами. Омикин просмотрел на стенке меню, увидел все привычное, выбил чек в кассе, аккуратно счел сдачу – и вот он уже в поисках свободного места.
А место – где его найдешь, место? Там, под пальмой, напиток распивают, тут эти вон затеяли азартную игру в спичечный коробок – нигде нету свободного места для Омикина.
И вынужден был он поставить свой поднос с пищей на свободный край столика двух молодых людей хиппического облика, которые таинственно что-то друг другу сообщали, имея близ ног плоские черные портфели «дипломат», ставшие ныне первым и явным признаком тайного торговца товарами повышенного спроса.
– У вас не занято, молодые люди? – на всякий случай спросил Омикин.
Но они не заметили его вопроса. Они куда-то загадочно сговаривались еще идти, поэтому Омикин, разгрузив пищу, поднос унес на стол для использованных подносов, а по дороге прихватил заодно в буфете бутылочку минеральной воды «Боржоми». Что сделать стало довольно легко, потому что буфетчица продала к тому времени всю свою дневную норму дешевой красной «рассыпухи» и на зеркальных полках стоял лишь один французский коньяк, вокруг которого, как мотыльки, кружились обожженные ценой пьяницы.
Омикин выпил стакан вкусной воды и споро принялся за ужин, стараясь посильно не вслушиваться в приватный разговор худых представителей подросшего поколения, потому что разговор они вели отменно гнусный.
Один молодой человек был пошустрее и все больше склабился, а второй, такой на вид слегка туповатый, наоборот – все больше и больше в беседе хмурился, его надо было уговаривать.
– А вот мы щас как туда зарулим, сынок! – лукаво говорил разбитной молодой человек. – Ка-ак зарулим, да ка-ак закайфуем!
– Ну да, замучаешься кайф ловить, – уныло отозвался собеседник. – Пласты не сдали сёдни…
– Дак а завтра сдадим! В натуре! Чтоб я с Дровяного за Битлов, «Клуб сержанта Пэйпера», полтинник не слупил? Плохо ты меня знаешь, парень!
– Знать-то знаю, а капусты нету, так чего шевелиться? Я – джентельмен, а не кусочник-побирушка, елки!
– Да ты что? – изумился разбитной. – Ты что, Вальку-Щеку не знаешь? Да чтоб Валька мне пузырь, если при капусте, не поставила? Щека! Да ты знаешь, как Щека берет? Ну, я торчу, я торчу! – блудливо озираясь, зашептал молодой человек.
«Гадость какая, – брезгливо подумал Омикин. – Нет, что-то все-таки нужно делать с нашей молодежью. “Пласты”, “капуста” – ведь за этой внешней развинченностью и содержаньице гнилое кроется, что-то нужно делать, определенно что-то нужно делать».
– Эх, Щека! – ликуя, вскричал молодой человек. – Эх и бабенка, даром что с сорок второго года!
– А она кто? – спросил тупой молодой человек.
– Да черт ее знает кто. Муж у ней навроде есть, старый такой, навроде пахана. Вечно по командировкам шустрит.
– Подруга есть? – прямо спросил хмурый.
«Господи, гадость какая», – опять подумал Омикин и залпом выпил оставшийся боржом.
– Да, она там целую борделю развела… – все более возбуждался молодой человек. – Я их прошлый раз фотал. Хошь, покажу? Называется – одна графическая картина.
И он трясущимися руками полез в «дипломат» и вытащил оттуда черный конверт.
– Во дают! – изумился его собеседник. – Ну дают!
А одна фотография и выпала из пакета. Она упала слева от Омикина, так что он невольно углядел ее краешком глаза.
И – умер! Заснувшая, пьяная, совершенно голая валялась она на растерзанной постели, омерзительно вывернув ноги.
– Господи! – простонал Омикин, потянувшись к фотографии.
Но молодой человек его опередил. Неуловимо ловким движением он выхватил из-под ладони Омикина фотографию и заговорил грубо:
– А ну отвали, козел, старая плешь! Тебя тут просят? Отвали, к тебе не лезут, и ты сиди, кушай, пережевывай пищу!
– Врежь ему по кумполу, – посоветовал хмурый молодой человек.
– Люся это, Люся, моя жена! – стонал Омикин.
– Или давай я врежу, – сказал хмурый.
Но главный молодой человек остановил рукоприкладство, потому что он опять повеселел.
– Да ты чего болтаешь, отец? Ты чо? Ну на, на – посмотри, если хоцца, если уж так хоцца, – подмигнул он напарнику.
Омикин трясущимися пальцами взял фотографию. И точно – мерзкая эта, прежняя картина осталась, мерзкая эта женщина по-прежнему лежала. Но это была совсем не Люся.
– Это ж сама Щека и есть! – сияя, сказал молодой человек. – Ну, отец, видать перетрухал, что накрылся твой семейный очаг, с тебя причитается, – обратился он к Омикину.
А тот внезапно ослабел, сел на негнущихся ногах, набрал побольше воздуха, и вдруг его неудержимо вырвало, прямо на эти мерзкие тарелки, на этот заплеванный стол, он даже испустил от напряжения резкий неприличный звук.
– Эй, ты, ты чо, ты чо? – попятились молодые люди.
А он икал, его трясло, выворачивало, кружило.
– Да выкиньте вы его кто-нибудь отсюда, вонючку! – крикнул какой-то посторонний тип.
– Да он вроде непьющий, – сказала буфетчица.
– Пьющий, непьющий, а чо вонять? – резонно заявил тип.
– Да он, может, больной, – заступалась буфетчица. – Вам плохо, товарищ?
Омикин поднял помутневшие глаза.
– Не надо меня выкидывать, я сам уйду, – забормотал он. – Не надо, я сам.
И поднялся, но вдруг дико вытянулся и закричал:
– Сам уйду, а вы оставайтесь, так и так вашу мать!
Окружающие засмеялись.
– Ну, а ты говорила, что непьющий.
– Да уж и не знаю, – засомневалась буфетчица.
Но Омикин уже ослаб, он шатался и бормотал, вытирая крупный пот грязненьким платком:
– Извините, я знаю, что это нехорошо так делать, совестно, извините…
– Идите, идите отсюда подобру-поздорову, а то милицию вызову, – ласково сказала буфетчица.
Но Омикин уже не слышал ее. Он согнулся, присел, качнулся и медленно повалился на правый бок.
И – умер. В этот раз навсегда.
* Шибко – сильно (сиб.).
…арабские духи, или колечко золотое, или – в Сочи, в Ялту возил? – Предел мечтаний провинциалочки.
«Рассыпуха» – жуткое советское разливное крепленое плодово-ягодное вино (жаргон).
Вот и соответствующая частушка:
Говорит старик старухе:
– Ты купи мне рассыпухи,
А не купишь рассыпухи,
Я уйду к другой старухе.
Пласты – виниловые долгоиграющие грампластинки с популярной музыкой, предмет спекуляции.
Сёдни – сегодня (сиб.).
Полтинник – 50 руб. (жаргон).
ДжентЕльмен. – Именно так и произносилось, иногда писалось.
…при капусте – при деньгах (жаргон).