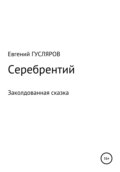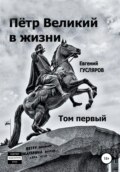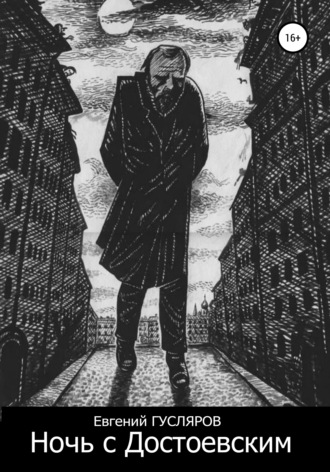
Евгений Николаевич Гусляров
Ночь с Достоевским
Не знаю, большая ли тут натяжка, но, возможно, что Аполлинария оставалась и за границей для него живой связью с той молодёжью, которой он постоянно интересовался, и представители которой являются главными героями его великих романов. Маленький бесёнок, засевший в Аполлинарии Сусловой, не первый ли дал движение его мыслям, которые окончательно оформились, когда он узнал потом о происшествии в парке Петровской академии земледелия, нынешней Тимирязевской сельскохозяйственной. Когда начинающееся бесовство выразило себя первой грандиозной и ужасающей выходкой. Когда духовный предтеча Ленина Нечаев впервые обнаружил характер грядущего времени, уничтожившего Россию.
За ним-то, этим бесёнком, Достоевскому весело и жутко было наблюдать почти два года. Этих наблюдений хватило, как минимум, теперь уже на восемь центральных поразительных портретов, составивших галерею его женских образов. Таких не было в мировой литературе до него.
Есть таинственная фраза, произнесённая Лионом Фейхтвангером после его поездки в Россию, и после выхода его восторженных записок о Сталине, где он, между прочим, вполне определённо высказался о целесообразности его строгостей к политическим противникам. И вообще всех его крутых мер. Его, разумеется, сильно стыдили за них (Фейхтвангера за эти благодушные заметки), а он сказал: «А как же вы бы хотели управлять героями Достоевского?». Вот и представляется мне, что русскую историю Фейхтвангер понимал исключительно по Фёдору Михайловичу. И под героями Достоевского, которым пришлось управлять Сталину, имел в виду героев романа «Бесы», ставших ленинской гвардией. А ведь и действительно, Россия судила тогда последнее свиное стадо, в которое вошли бесы.
И тут возникает крайне любопытный и отчаянный вывод. Уж не был ли Сталин продолжателем дела Христа в части уничтожения на Руси взбесившегося свиного стада. Но этот невыясненный исторический мотив мы пока оставим. Он далеко может завести. Далеко в сторону от заявленной нами темы.
Теперь уже можно говорить о том, что предвидение Фёдора Достоевского частью исполнилось. Бесы утонули в потоках русской крови, которую они же и пролили. Но прежде, возглавляемые самым беспощадным из них Ульяновым-Лениным, они вдоволь порезвились на Святой Руси. Власть беснующихся свиней стоила тогда православному русскому люду двадцати миллионов жизней.
Только вот оказалась ли Россия, «одетая и в здравом уме», сидящей в благодатной тени Христовой у его ног – это большой вопрос. Впрочем, и бесы не до конца изгнаны. После Достоевского Хайдеггер, кажется, догадался, что вселились они теперь в типографскую краску и печатный станок. Да ещё, по собственному разумению моему, крепко засели они в электронной начинке телевизора, жуткого изобретения русского инженера Зворыкина.
Но как же всё-таки быть с тем, что и Достоевский, и Розанов видели в ней, Сусловой, доподлинную всеохватную натуру образцовой русской женщины? Меня несколько смущает этот титул, в который и Достоевский и Розанов возвели Аполлинарию Прокофьевну. Но ведь идеальная женщина ещё не означает совершенства. Преступление Раскольникова можно назвать идеальным, но это не скрывает его ужасного смысла. Идеальный характер не обязательно ангельский. Бывает, наверное, такой нравственный фетишизм, который находит удовольствие в отклонениях от идеала, лишь бы это отклонение было законченным и безупречным в своём роде. Законченным настолько, чтобы не противоречить тому стихийному эстетическому складу души, которое вызывало бы упоение, может и помимо воли. Которое позволяло русскому народу слагать, например, песни о законченном бандите и смертоубийце Стеньке Разине, сделать кровавую хищную птицу сокола символом собственной свободной воли. Всё дело, вероятно, в том взгляде художника, которому интереснее лепить образ из неоднозначности.
В этом месте я, невольно, спрашиваю себя, можно ли так говорить о Достоевском? Не обидит ли это записных достоевсковедов с их непорочным воображением. Я встречал одну такую однажды в Ялте, в Доме творчества писателей. Правда, она была пушкинистом. Я тогда увидел эту диковину впервые. Хотя знал, что в Пушкина и Достоевского этого народа вошло больше, чем согласилось идти за Моисеем в пустыню. Я попытался с ней заговорить о Пушкине. «Я вам его в обиду не дам», – сказала она сразу тоном не то любовницы, не то Арины Родионовны. А может этим тоном говорить её заставил комплекс приживалки в чужой культуре…
Но, главное, всё-таки в том, не уронят ли мои дальнейшие, да и прежние записи, в самом деле, достоинство писателя и человека, ставшего святыней русского самосознания. Я бы, конечно, этого не хотел. Но ведь правда и то, что икона не даёт представления о живом человеке, а жизнеописание в святцах это лишь избранное судьбы. В истории самого Христа есть случай, который очень неловко соседствует со всем его евангельским образом. Вот решился он, наконец, объявить себя Сыном Божиим. В синагоге переполох. Это святотатство, за которое положена смерть, иудейское наказание побиением камнями. Мать-богородица и семья находят способ спасти его. Способ самый элементарный для того, чтобы уйти преступнику от наказания даже и теперь. Его объявляют сумасшедшим. Не слушайте Его, Он не совсем в себе. «Он потерял ум» – говорит сама Мать-богородица. Этот момент, помнится, потряс меня когда-то. Один только этот случай может убедить, что Христос жил и действовал на самом деле. По законам героических фантазий этот эпизод совершенно не нужен в жизнеописании Христа, неуместен, и если тут о нём говорят, то это можно объяснить только тем, что это было на самом деле. Я будто прикоснулся тогда к живой жизни Христа.
Когда я ещё только подбирался к судьбе Аполлинарии Сусловой и к её роли в жизни Достоевского, я немало сделал разного рода выписок, и книжных, и архивных. Если я выберу из этих своих выписок те, которые покажут его неистребимым жизнелюбом, изменит ли это наше представление о Достоевском? Повредит ли этим представлениям? Если к его облику сурового мыслителя и судьи человечества добавится капля юношеской горячей крови, разве это испортит его облик? Нет, это только сделает его живым и существовавшим на самом деле.
Что же там доподлинно произошло между ними, что так и не дало успокоиться Достоевскому? Что это была за неудовлетворённая, неутомимая и плодотворная страсть, которая сублимировалась так продолжительно и мощно, что изменила представление о возможностях творческого гения. Конечно, любопытен тут и сам житейский факт. Я нисколько не осуждаю тех, кто ещё задолго до меня стал копать в этом направлении. Стыдно ли копаться в ворохе чужого, отжившего своё тряпья, если заведомо известно, что там есть золотые ключи, которыми открывается понимание, как минимум, семи или даже восьми запутанных, невероятно соблазнительных в своей тайне женских образов.
Первым, насколько я знаю, этим вопросом задался профессор Аркадий Долинин, издавший в 1928 году дневник Аполлинарии. Полного ответа на свой вопрос он не дал, однако. Он только заострил его. Сделал его ключевым:
«И вот возникает, – пишет он, – такая тревожная мысль. Много раз и сурово свидетельствует Суслова против Достоевского в своём Дневнике; вспыхивает, порою, кажется беспричинной ненавистью к нему, и линии обычно ведут – как бы само собой это вырывается у неё – к той, начальной поре их отношений. Сумеем ли мы когда-нибудь воспроизвести, в её конкретности, всю волнующую нас правду? По мере того, как жизнь Сусловой складывается всё более и более неудачно, возрастает, быть может, её субъективизм? Но в плоскости иной, отнюдь не в плоскости только житейской – она меньше всего должна интересовать – ставится нами вопрос: действительно, справился ли Достоевский с этим тяжким испытанием, ему ниспосланным судьбою? Как подошёл он к этой юной, неопытной душе, так преданно перед ним раскрывшейся? Он, уже проживший большую половину своей жизни, глубочайший и тончайший испытатель человеческих страстей, – к ней, наивной, только начинающей свой жизненный путь, страстно ищущей в окружающей действительности и в людях воплощения некоего высшего идеала? Был этот идеал прекрасен в своих неясных очертаниях, и сиял он пленительно сквозь зыбкую поверхность позитивистических идей, к которым она прислушивалась, быть может, заявляла и считала себя сторонницей этих идей, но вряд ли воспринимала их до конца в своей душе. В её Дневнике нередко звучат недоверчивые ноты к идеям эпохи и к людям, которые служили им. Спрашиваем: как поступил Достоевский с этим юным существом? Взрастил ли, поднял ли до высоты совершенства? Или сам не удержался на высоте? И зажглись слепые, жестокие страсти в её душе; открывалась бездна, в которую, быть может, сила тёмная, исходившая от него, первая её и толкнула. И если это так, и был он причастен ко греху, к вовлечению в тёмную сферу греховности, то как он относился к самому себе в минуты просветления, когда затихали кипевшие в нем страсти? – К себе, пусть даже и косвенно соблазнившему “одну из малых сих”?
Чувствуем и сознаём всю тревожность и ответственность этого вопроса, когда ищем зависимости или хотя бы соответствия и в сфере эмоциональной, между личным опытом писателя и его претворением в художественном творчестве. Нам кажется, что именно здесь и находится один из узлов каких-то очень глубоких трагических переживаний Достоевского, нахлынувших на него, вместе с ощущением этого непоправимого греха, совершённого им по отношению к Сусловой. Так открылась бы нам первопричина столь огромной эмоциональной насыщенности, в плоскости подобных переживаний, “Записок из подполья”, позднее “Идиота” (Настасья Филипповна), быть может, даже “Исповеди Ставрогина” (в “Бесах”).
В этом предварительном сжатом очерке о жизни Сусловой мы вынуждены оставить нашу гипотезу не развернувшейся».
Но что же там всё-таки произошло между ними? Спросить бы надо самих действующих лиц этой невидимой драмы. Но свидетельств таких мало, почти их нет. Не распространялись они на эту щекотливую тему. Только, может быть, вот это показание Аполлинарии Сусловой. Вот коренной мотив повести её «Свой и чужая». Здесь происходит один из трагических диалогов Достоевского и его возлюбленной, наверное, несколько подпорченный неумением автора передать всё его, бывшее на самом деле, напряжение:
– Ты будешь писать мне, Анна, по-прежнему, не так ли? Мы ведь друзья?
– О да, сказала она, протягивая ему руку. – Что ж ты так мрачен? – спросила она, – ты сердишься на меня? Я ни в чём не виновата.
– Знаю, всё знаю, да не в этом дело. Больно мне, Анна, не могу я легко покончить с чувством. Я не молодой человек, в мои годы привязанностями не шутят. Ты много для меня значила. Твоя любовь сошла на меня, как божий дар, нежданно, негаданно, после усталости и отчаяния. Эта молодая жизнь подле меня обещала так много и так много уже дала, она воскресила во мне веру и остаток прежних сил.
“Хорошо ты этим воспользовался” – подумала Анна, но не сказала ни слова».
Вся тайна, конечно, в этих четырёх словах: «Хорошо ты этим воспользовался». Предполагаю, почти наверняка – то, что произошло, что привело к трагическому разладу между Аполлинанией Сусловой и Достоевским могло бы быть опять же продолжением сказки об аленьком цветочке, окажись заколдованное чудище не столь сказочно деликатным. По законам жизни любовь вступает в страшную фазу, которая наполняет её окончательным смыслом. Только у диких животных эта завершающая стадия любви всегда одинакова и полна гармонии. У людей – не всегда. Между инстинктом и душой редко бывает согласие. Кульминация, так много обещавшая, окончилась катастрофой. Достоевский этого не заметил и не понял того, что за этим последовало. Тут можно было бы отослать читателя к тем главам известного романа, где подобная ситуация описана Львом Толстым, литературным антиподом Достоевского, с крайней проникновенностью. Если бы сам Лев Толстой вместо меня описывал столь трудную для показа ситуацию, он, несомненно, сделал бы это так:
«То, что почти целый год для Вронского (я заменяю это имя на Достоевского) составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, – это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чём и чем.
– Анна! Анна! – говорил он дрожащим голосом. <…> Он чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишённое им жизни. Это тело, лишённое им жизни, была их любовь, первый период их любви… Стыд пред духовною наготою своей давил её и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрёл убийством.
И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями её лицо и плечи».
Тут стоит заметить, что в повести своей об отношениях с Достоевским Аполлинария назвала свою героиню Анной. Случайно ли? Фамилии её в повести нет – уж не Каренина ли?
Я думаю, что это несчастье могло уничтожить даже то грандиозное создание, которое Шекспиром названо «Ромео и Джульетта», вздумай автор дать им испытание брачным ложем. Медицинская практика знает сколько угодно случаев, когда это начальное несовпадение амплитуд убивало до отвращения, до мороза по телу привлекательность главного житейского таинства. Чаще всего это касается женщин. Тут я опять бы мог отослать читателя к литературным свидетельствам, письмам Пушкина к жене, например, и к некоторым его стихотворениям, посвящённым ей, и связанными с ней глубоко интимными переживаниями. Суть в этом. И коль у меня такая несчастная тема, я вынужден привести все свидетельства, которые хоть как-то проясняют эту ночь с Достоевским, изменившую течение и статус русской литературы.
Или представьте себе спящую красавицу, которую разбудили только для того, чтобы на неё обрушился весь этот немыслимый шквал нерастраченной мужской энергии, которая самим им, Достоевским, донельзя доходчиво описана в письмах к последней жене. Их нельзя воспроизводить полностью именно потому, что они для воспроизведения не годятся, не предназначены, а, значит, в них можно вволю демонстрировать свои несгибаемые силы.
Вот едет он в 1879 году в Эмс лечиться от болезни, которая так прилипчива была к святым и пророкам – от эпилепсии. Оттуда пишет письма, исполненные настолько тяжёлой любовной истомы, что это ужасает будущего их издателя Анну Достоевскую, которой эти письма и адресованы. Жена Достоевского нанесла исследователям жизни своего мужа столь же тяжкий урон, какой сделала ещё только Софья Андреевна Толстая, покурочив беспримерные по откровенности дневниковые записи Льва Николаевича.
Вот письма Достоевского жене, по которым можно представить, с чем столкнулась тогдашняя неопытность и и неоформившаяся чувственность Аполлинарии Сусловой, решившейся, наконец, на первый опыт по этой части:
«Ужасно, ужасно надобно тебя видеть, несмотря даже на лихорадку, которая даже в одном отношении облегчает меня, удаляя … (вычеркнуто слово)»
«Думаю о тебе поминутно, Анька, я тоскую по тебе мучительно!.. Вечером и ложась спать (это, между нами) думаю о тебе уже с мучением, обнимаю тебя в воображении и целую в воображении всю (понимаешь?). Ты мне снишься обольстительно. Ты говорила, что я, пожалуй, пущусь за другими женщинами здесь заграницей. Друг мой, я на опыте изведал, что и вообразить не могу с другой, кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе каждодневно. Слишком я привык к тебе и слишком стал семьянином. Старое всё прошло. Да и нет в этом отношении ничего лучше моей Анечки. Не юродствуй, читая это, ты должна знать меня. Надеюсь, что письмо это никому не покажешь».
«Каждую ночь ты мне снишься… целую тебя всю, ручки, ножки обнимаю… себя… береги, для меня береги, слышишь, Анька, для меня и для одного меня… как хочется мне поскорее обнять тебя, не в одном этом смысле, но и в этом смысле до пожару… (всё дальнейшее зачёркнуто целомудренной редакторской рукой Анны Григорьевны)».
«Теперь об интимном очень, пишете, царица моя и умница, что видите самые соблазнительные сны (дальше вымарано). Это привело меня в восторг и восхищение, потому что я сам здесь не только по ночам, но и днём думаю о моей царице и владычице непомерно, до безумия. Не думай, что только с одной этой стороны, о, нет, но зато искренне признаюсь, что с этой стороны думаю до воспаления. Ты пишешь мне письма довольно сухие, и вдруг выскочила эта фраза (вымарано с десяток строк)… которой бы она не схватывала мигом, оставаясь вполне умницей и ангелом, а, стало быть, всё происходило лишь на радость и восхищение её муженька, ибо муженёк особенно любит, когда она вполне откровенна. Это-то и ценит, этим-то и пленился. И вот вдруг фраза: самые соблазнительные сны (дальше зачёркнуто несколько строк). Ужасно целую тебя в эту минуту. Но чтоб решить о сне (зачёркнуто), то, что сердечко моей обожаемой жонки (зачеркнуто). Анька, уже по этой странице, можешь видеть, что со мной происходит. Я как в бреду, боюсь припадка. Целую твои ручки и прямо и в ладошки и ножки и всю».
«И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблён в тебя, что ты единая моя госпожа, и это после 12-ти лет! Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то что уж, конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал ещё девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе ещё только 32 года, и это самый цвет женщины (несколько строк вымарано) … это уже непобедимо привлекает такого, как я. Была бы вполне откровенна – было бы совершенство. Целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: и “предметом сим прелестным – восхищён и упоён он”. Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь».
«Ах, как целую, как целую! Анька, не говори, что это грубо, да ведь что же мне делать, таков я, меня нельзя судить. Ты сама (одно слово зачёркнуто), свет ты мой, и вся надежда моя, что ты поймёшь это до последней утончённости… До свиданья, ангел мой (ах, кабы поскорей свидание!). Целую пальчики ног твоих, потом твои губки, потом опять (уничтожено слово)».
Вот ещё одно письмо Аполлинарии, которое, если его прочитать надлежащим образом, дополнит разгадку:
Версаль, 1864 г. Понедельник [начало июня]. «Ты [сердишься] просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу [даже] уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, [ибо] за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу.
[Я соглашаюсь, что говорить об этом бесполезно, но ты уже] [я не против того, что для тебя они были приличны].
Что ты никогда не мог этого понять, мне теперь ясно: они для тебя были приличны [как]. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, [который] по своему понимал свои обязанности и не забывает и наслаждаться, напротив, даже может быть необходимым считал наслаждаться, [ибо] на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно и пьяным напиться раз в месяц.
[Ты не должен сердиться, если я иногда], что говорить об этом бесполезно, что выражаюсь я легко [я] правда, но ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов».
Выходит, оскорбляло её ещё и то, что Достоевский прибегал к ней как к прописанной доктором пилюле от любовного недуга. Стихийным бедствием, ураганом проходил по её душе и телу. Эти отношения приобретали размеренность и математическую логику. «Для здоровья можно и пьяным напиваться хоть раз в месяц». Сусловой это было унизительно сознавать. Любовь убивалась методически. Великий человековед, странным образом, не чуял того. Вот и сообразила она, значит, мстить ему ненавистью и пыткой недоступности, самой жестокой, на которую способна женщина, которую любят. От этого ведь и с ума сходят.
«Я чувствую, что я мельчаю, погружаюсь в какую-то тину нечистую, и не чувствую энтузиазма, который бы из неё вырывал, спасительного негодования».
«Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мущин будет напоминать мне оскорбления и страдания», – это фразы из того же её дневника.
В определённом смысле после этих отношений Аполлинария стала калекой.
Розанов позднее признавался: «Мы с нею “сошлись” до брака. Обнимались, целовались… Она меня впускала в окно летом и раз прошептала: “Обними меня без тряпок”. То есть тело, под платьем… Обниматься она безумно любила. А вот заниматься любовью – почти нет…».
Розанов В.В. Последние листья. Запись от 9.III.1916. И я любил эту женщину и, следовательно, любил весь мир. Я весь мир любил, всегда. И горе его, и радость его, и жизнь его. Я ничего не отрицал в мире; Я – наименее отрицающий из всех рождённых человек.
Только распрю, злобу и боль я отрицал.
Женщина эта не видела меня, не знала, что я есмь. И касаться её я не смел (конечно). Я только близко подносил лицо к её животу, и вот от живота её дышала теплота мне в лицо.
Вот и всё. В сущности, всё моё отношение к Caelesta femina (Небесная женщина (лат.)). Только оно было нежно пахучее. Но это уже и окончательно всё: тёплый аромат живого тела – вот моя стихия, мой “нос” и, в сущности, вся моя философия.
И звёзды пахнут. Господи, и звёзды пахнут. И сады.
Но оттого всё пахнет, что пахнет эта прекрасная женщина. И сущности, пахнет её запахом.
Тогда мне весь мир усвоился как “человеческий пот”. Нет, лучше (или хуже?) – как пот или вчерашнего или завтрашнего её совокупления. В сущности, ведь дело-то было в нём. Мне оттого именно живот и бёдра и груди её нравились, что всё это уже начало совокупления. Но его я не видел (страшно, запрещено). Однако только в отношении его всё и нравилось, и существовало.
И вот “невидимое совокупление”, ради которого существует всё “видимое”. Странно. Но – и истинно. Вся природа, конечно, и есть “совокупление вещей”, “совокупность вещей”. Так что “возлюбив пот” совокупления её ipso (тем самым (лат.)) я возлюбил весь мир.
И полюбил его не отвлечённо, но страстно…».
То же безумие своего рода.
Это всё-таки удивительная вещь в мыслящем русском, всякий недостойный факт обращать в сокровище, всякий убийственный повод делать пьедесталом славы. Талантливый русский человек даже из таких чёрствых и зыбких вещей как надежда и одиночество способен черпать силы для созидания. Один современный специалист в философии, который знает дело, конечно, лучше меня, пишет: «Это знакомство [Розанова с Сусловой], вскоре превратившееся в неодолимую взаимную страсть, навсегда определило дальнейшую судьбу, жизнь и творчество В. Розанова, да и вообще его место в русской культуре». Вот ведь какая судьбоносная женщина. Определила по своей прихоти место двух гениев в русском духовном пространстве. Что за поразительный случай.
И всё-таки мне кажется, что я коснулся таких вещей, после которых стоит умыть руки. Не в том смысле, что они грязны, а в том, какой эта процедура имела место у библейских иудеев. Очиститься от греха. Я, может, взял его невольно на себя, повторив за другими то, на что, возможно, не имею права по неписаным законам уважения памяти. Есть тайны, которых нельзя касаться всуе. Виновато любопытство. Перед любопытством я опускаюсь на колени, оно источник многого блага. Оно есть инстинкт вечного стремления к знанию, в котором, как известно, многая печаль. Меня несколько поддерживает вот какое соображение. Я знавал одного профессора энтомологии, который любовно возился со всякой мелкой пакостью, которую я не мог и видеть без отвращения. У него же был единственно верный взгляд, который следовало бы сделать всеобщим. В природе нет безобразия, в природе всё прекрасно. Точно так же я хочу думать о жизни вообще. В частности, той, о которой пытаюсь рассказать.
Из письма Розанова А.С. Глинке-Волжскому. Здесь передана версия самой Аполлинарии Сусловой о причинах разрыва с Достоевским. Это её собственный вариант грустной этой истории, и он не очень похож на то, что могло быть на самом деле. Есть ощущение, что Суслова оправдывается сама перед собой.
«С Достоевским она “жила”.
– Почему же вы разошлись, А. Прок(офьевна)? (я).
– Потому что он не хотел развестись с своей женой чахоточной, “так как она умирает” (в Ташкенте(?)).
– Так ведь она умирала? (я).
– Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я его уже разлюбила.
– Почему “разлюбили”? (я)
– Потому что он не хотел развестись.
Молчу.
– Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был также поступить. Он не поступил, и я его кинула».
Из письма Розанова Н.Н. Глубоковскому. «Я полюбил её последний день, и, хотя она соглашалась любить и жить со мной “так” (и была уже), я (ведь знаете мальчишеский героизм) потребовал венчания. У неё был закал и стиль – для гостиных, лекций, вообще для суеты; и никакого быта, никакой способности к ежедневной жизни. Промаялся я четыре года, и она (по-видимому, влюбившись в юношу-еврея) кинула меня, жестоко и беспощадно, как она всё делала. А вообще она страшно была патологически жестокий человек: а влюбился я прямо в стиль её души. Что-то из католических кафедралов, хотя русская, народная – муть, маята».
Из письма В. Розанова Антонию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому. «Но хотя жизнь моя была мучительна, для соседей и знакомых – позорна, но таков мистицизм брака, – что я был болезненно привязан к жене, вечно боясь, что в своих взбалмошных выходках она что-нибудь над собой сделает, напр. покусится на жизнь, чем (теперь понимаю) она и пугала меня. (…), пламенное примирение сменялось равнодушием, равнодушие переходило в ссоры, миры становились короче, ссоры – длиннее, и уже быстро ничего не осталось от горячо, с величайшими надеждами, заключённого брака».
Однажды произошёл случай опять почти мистический. То ли сама Аполлинария, то ли её призрак пришёл к Достоевскому, когда он был давно уже и вполне счастлив со своею второй и единственно настоящей женой. Он не только не смог вспомнить её, бывшую свою возлюбленную, но ему даже показалось, что её никогда не было. Ни в душе его, ни на белом свете вообще. Этот странный случай описала опять его дочь: «…Много лет спустя, когда учащаяся молодёжь стала лучше относиться к Достоевскому, эта благосклонность студенчества имела следствием своеобразное и, однако, логически необходимое происшествие. Моей матери не было дома, когда однажды горничная доложила отцу, что его хочет видеть незнакомая дама, не называющая своего имени. Достоевский привык принимать у себя незнакомых людей, являвшихся к нему с исповедями; он приказал горничной ввести посетительницу в его кабинет. Вошла дама в чёрном под густой вуалью и, молча, уселась против моего отца. Достоевский изумлённо взглянул на неё:
– Чему я обязан честью видеть вас у себя? – спросил он.
Вместо ответа незнакомка откинула вуаль и трагически посмотрела на него. Отец нахмурился – он не любил трагедий.
– Не будете ли добры назвать себя, сударыня? – сухо сказал он.
– Как, вы не узнаёте меня? – пробормотала посетительница с видом оскорблённой королевы.
– Право, не узнаю. Почему вы не говорите, кто вы?
– Он не узнаёт меня! – театрально вздохнула дама в чёрном.
Отец потерял терпение.
– К чему эта таинственность! – сердито вскричал он. – Пожалуйста, объясните, зачем вы пришли! Я очень занят и не могу понапрасну терять время.
Незнакомка встала, опустила вуаль и покинула комнату. Достоевский в недоумении следовал за нею. Она распахнула дверь и сбежала вниз по лестнице. Отец в раздумье стоял в передней. Понемногу в памяти его всплывало далёкое воспоминание. Где это он видел когда-то эту трагическую мину? Где слышал этот мелодраматический голос? – “Господи! – воскликнул он вдруг, – Да ведь это она, это Полина”.
Тут вернулась домой моя мать. Совершенно растерянный, рассказал ей Достоевский о посещении его давнишней возлюбленной.
– Что я наделал! – повторял он. – Я смертельно оскорбил её. Она так горда! Она никогда не простит мне, что я её не узнал; она отомстит. Полина знает, как я люблю моих детей; эта безумная способна убить их. Ради Бога, не отпускай их из дому!
– Но как это ты не узнал её? – спросила мать: – разве она так изменилась?
– Совсем нет… Теперь, одумавшись, я вижу, – что, наоборот, она очень мало изменилась… Но, видишь ли, Полина совершенно исчезла из моей памяти, точно никогда в ней не бывала».
Такова последняя точка в её истории с Достоевским. Мне она кажется замечательной. Всё так и должно было статься. Фантом полностью переселился в литературу и перестал существовать. Некоторые историки литературы считают, однако, что весь этот эпизод для чего-то выдуман дочкой Достоевского. Для чего бы? Достоевсковедам, якобы, виднее. Не может быть, говорят они, чтобы у Достоевского была такая слабая и короткая память. Но зато они верят в то, что когда однажды при нём завели речь о Свидригайлове, он с неподдельным интересом спросил: «А кто это такой, этот Свидригайлов?».
Дальше продолжилась маета с Розановым. Лучше всего об этом сказано у «белой дьяволицы» Зинаиды Гиппиус: «…Никогда Розанов мне не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева (философ, друг семьи Гиппиус и Мережковского. – Е.Г.) и других. Впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нередко, подолгу, рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злобой, ни в то время – ни потом, в “Уединённом”. А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.
Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она “просто живёт с женатым человеком”, вечно мучило её, как грех. Но злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как он ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: “Что Бог сочетал, того человек не разлучает”.