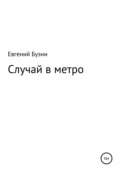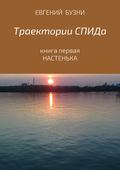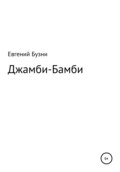Евгений Николаевич Бузни
Траектории СПИДа. Книга третья. Александра
Вот, например, одно письмо. Тебе для экскурсии это пригодится. Новая страничка была вынута из другой папки.
– Подождите, Евгений Николаевич, – вмешалась вошедшая с кипой книг заведующая архивом Кузьмина, – Настеньке надо не об экскурсиях сейчас думать, а о малышке. Вы её своими письмами замучите.
– Да что вы, Татьяна Евгеньевна, это же очень интересно, – сказала Настенька, повернувшись к вошедшей и вскакивая со стула, чтобы взять у неё из рук книги.
– Спасибо, Настенька. Слушай, раз интересно. А то Евгений Николаевич у нас такой, что, кого хочешь, заговорит. Он очень умный, только как бы в облаках витает, – смеясь говорила Кузьмина, устремив на Инзубова глаза, которые говорили: "Какой же вы у нас хороший, но не морочьте девушке голову".
Инзубов и слушал сказанные слова, и понимал, что молча высказывали выразительные глаза коллеги, но продолжал начатый разговор:
– Я только одно письмо приведу в пример и разбежимся: 15 января 1929 года Островский пишет своему партийному товарищу Жигиревой из Сочи: "Арестован ГПУ зав. коммунхозом пресловутый Бабенко, считавшийся членом ВКП(6) с 1919 года, член президиума горсовета и РИКа, член райкома и т.д. 0н оказался белый контрразведчик, офицер, расстреливал наших товарищей-большевиков. Эта гадина, обманув всех, пролез во все перечисленные посты – это громадный провал, – ведь гад был руководящим работником, член бюро РК и т.д. Сочи везёт, как утопленнику. Гад определённо вёл работу на заграницу. Навряд ли, что это случайный белый. Скоро генеральная чистка. Здесь опять начнёт мести большевистская метла".
Этот текст публиковался и раньше, но вот следующие затем слова при публикации письма были изъяты, а звучали они очень тревожно, особенно глядя на них с позиции сегодняшнего времени. Слушай: "Мне непонятно, почему восстановлены видные работники, выметенные чисткой за ряд тяжёлых преступлений. Они все работают там же. Например, окрстрахкассовский бюрократ Шмелёв, бывший директор курупра и многие другие. Не могу, не работая и не участвуя в жизни организации, это решать".
То есть, представляешь, что происходило? Люди, которые были против Советской власти всем своим нутром, но не имели возможности противостоять ей, приспосабливались, будучи более грамотными, чем преданные власти рабочие, а потому становились в руководстве. Кого-то раскрывали, кого-то расстреливали, а кто-то возвращался назад и продолжал продвигаться по служебной лестнице. Так где гарантия, что сегодня не эти люди, пролезшие наверх, являющиеся внутри настоящими врагами простых людей, строят политику, которая нас и возмущает сегодня? Такой гарантии нет. Говорят, к примеру, что Горбачёв сын бывшего кулака. Что ж ты тогда от него хочешь? Он и проводит кулацкую политику, от которой предостерегает нас из своего небытия Островский.
Инзубов хотел ещё что-то сказать, но Татьяна Евгеньевна была на чеку:
– Хватит, Евгений Николаевич. Пусть Настенька идёт к себе, а то Ольга Ильинична начнёт искать. Может группа какая на подходе.
Заведующая архивом очень не любила разговоры о политике, хотя со многим, что говорил Инзубов, она не могла не согласиться. Но то ли по привычке от старых времён, то ли потому, что знала мнения других сотрудников, которые не совпадали с их мыслями, но она всегда боялась, что весьма резкие неприкрытые суждения её товарища по работе могут быть услышаны кем-то и не так расценены, и куда-то доложены, что и повлияет на судьбу Евгения Николаевича не в лучшую сторону, а этого ей очень бы не хотелось.
Прошло несколько дней. Стоял жаркий август. Воскресенье. Двадцать первое. Инзубов возвращался с Кузьминой в музей от Марка Борисовича Колосова, первого редактора книги Николая Островского "Как закалялась сталь". Поехали вдвоём, как уже делали не раз, посещая вместе тех или иных людей, чьи судьбы были связаны так или иначе с писателем Островским. Так было удобно. Татьяна Евгеньевна занималась тем, что подбирала и оформляла официально документальные материалы для архива, а Евгений Николаевич собирал рассказы, свидетельства, которые могли бы послужить доказательством того или иного факта биографии Островского.
Работа не казалась лёгкой. Со дня смерти знаменитого писателя прошло более полувека. Многое свидетелями забылось, но ещё больше, как становилось понятным, очевидцы почему-то не хотели рассказывать. А вопросов было множество. Они возникали при чтении писем писателя.
Почему, например, "Как закалялась сталь" никому тогда не известного автора начали публиковать в крупном журнале "Молодая гвардия" и одновременно готовили к изданию книгу в том же издательстве? Сам редактор Колосов писал в воспоминаниях, что ему принёс рукопись романа партийный товарищ Островского Феденёв.
Прежде, чем идти к Колосову домой, Инзубов хорошо познакомился с воспоминаниями современников Островского и с тем, как в книгах излагалась история публикации романа. Кратко это выглядело так, как писал литературовед Лев Аннинский в маленькой книжице "Как закалялась сталь" Николая Островского":
"Первый вариант повести Николая Островского не дошёл до издателей: в начале 1928 года рукопись утеряна почтой. Он пишет всё заново.
Новая рукопись, посланная в Ленинград, безответно исчезает в недрах тамошнего издательства.
Он отдаёт один из последних экземпляров своему другу Феденёву и просит отнести в издательство "Молодая гвардия". Феденёв быстро получает ответ: повесть забракована по причине "нереальности" выведенных в ней типов.
Островский лежит навзничь в Мёртвом переулке, в переполненной жильцами комнатке, и лихорадочно ждёт ответа. Ему двадцать семь лет; остаётся жить – пять.
Потрясённый решением издательства, Феденёв просит вторичного рецензирования.
Рукопись ложится на стол к новому рецензенту. Марку Колосову.
Стол стоит в редакции журнала «Молодая гвардия», где Колосов работает заместителем редактора.
Впоследствии М. Колосов напишет воспоминания о том, как Феденёв закоченевшими от холода старческими пальцами вынул из папки рукопись, и как с первых строк Колосова покорила её сила, как ждали молодогвардейцы именно эту вещь, и как, не отрываясь, проглотил ее заместитель редактора".
Эту устоявшуюся версию рассказывали все экскурсоводы музея, в числе которых была и Настенька. Инзубов сам рассказывал сначала так же. Но вот он стал внимательно читать письма, и посыпались вопросы.
Какую рукопись потерял Островский в 1928 году, если в письмах того времени ни слова о литературе у Николая нет. Он пишет письма своему другу Новикову, в которых сообщает о том, что учится заочно в коммунистическом университете, просит прислать аккумуляторы для радиоприёмника, сообщает о болезни глаза, мешающей читать и писать письма. Ни слова о книге. Лишь через два года одиннадцатого сентября он пишет из Сочи тому же другу Новикову:
"Петя! У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь мою содержанием, необходимым для оправдания самой жизни.
Я о нём сейчас писать не буду, поскольку это проект. Скажу пока кратко: это касается меня, литературы, издательства "Молодая гвардия".
План этот очень труден и сложен. Если удастся реализовать, тогда поговорим. Вообще же не планированного у меня ничего нет. В своей дороге я не путляю, не делаю зигзагов. Я знаю свои этапы, и потому мне нечего лихорадить. Я органически, злобно ненавижу людей, которые под беспощадными ударами жизни начинают выть и кидаться в истерике по углам.
То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно! Это чушь! Я совершенно здоровый парень! То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, – сплошное недоразумение, идиотская какая-то шутка, сатанинская! Если мне сейчас дать одну ногу и один глаз (о большем я не мечтаю), – я буду такой же скаженный, как и любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки ".
Евгения Николаевича поразило в этом письме то, что Островский, будучи молодым двадцатишестилетним парнем, не предполагавшим никакой славы, думает о необходимости оправдать свою жизнь, для чего и планирует свою литературную деятельность. Любопытным показалось и то, что Островский сразу же называет издательство "Молодая гвардия" в своём проекте. Может быть, кто-то познакомился с ним в Сочи, порекомендовал больному парню написать книгу и издать в "Молодой гвардии", что и оформилось сразу же в определённый план жизни больного юноши. Следующие слова письма "не планированного у меня ничего нет" подтверждают эту мысль, как и ту, что прежде он ничего не писал, поскольку о таких планах он пишет впервые. Ни о каком новом варианте книги речь не идёт.
Островский уезжает в Москву и ложится на лечение в глазную клинику. Только выписавшись оттуда и поселившись в столице в Мёртвом переулке, он пишет седьмого мая в письме давней подруге Розе Ляхович:
"Роза, я начал писать. Я первые отрывки пришлю тебе для рецензии дружеской, а ты, если сможешь, перепечатай на машинке и верни мне. Эх, старушка, если бы ты была с нами, мы бы с тобой дело двинули бы вперёд. Но я всё же начал писать, несмотря на отвратительное окружение. Письмо порви".
"Начал писать – размышлял Инзубов. – Но знал ли тогда, что именно готовится написать?" Оказывается, знал, так как почти через двадцать дней в письме всё тому же другу Новикову пишет более подробно об осуществлении своих планов и о воле, которую при этом приходится проявлять:
"Я, Петушок, весь заполнен порывом написать до конца свою "Как закалялась сталь". Но сколько трудностей в этой сизифовой работе – некому писать под мою диктовку. Это меня прямо мучит, но я упрям, как буйвол. Я начал людей оценивать лишь по тому, можно ли их использовать для технической помощи. Пишу и сам!!! По ночам пишу вслепую, когда все спят и не мешают своей болтовнёй. Сволочь природа взяла глаза, а они именно теперь так мне нужны.
Удастся ли прислать тебе и моим харьковским друзьям некоторые отрывки из написанного? Эх, если бы жили вместе, как было бы хорошо! Светлее было бы в родной среде. Петя, ответь, дружок: что, если бы мне понадобилось перепечатать с рукописи листов десять на пишущей машинке, мог бы ты этот отрывок перепечатать, или это волынка трудная? Редакция требует два-три отрывка для оценки, и, гадюки, в блокнотах не берут – дай на машинке и с одной стороны! Ты хочешь сказать, что я и тебя хочу эксплуатировать, но, Петушок, ты же можешь меня к черту послать, от этого наша дружба не ослабнет ничуть. Жму твою лапу и ручонку Тамары. Не забывай.
Коля Островский."
Из этого письма и возникли очередные вопросы: Какая редакция "требует два-три отрывка для оценки"? Почему просят отрывки, если автор вообще не написал ещё ни одного произведения? И, наконец, если они не берут блокноты, а требуют напечатанное на машинке, стало быть, они видели блокноты, в которых было только начало романа?
В этом было что-то детективное. Из биографии писателя известно, что о нём впервые узнали, когда Феденёв принёс в "Молодую гвардию" рукопись романа. Из письма, оригинал которого тоже перед глазами, ясно, что в редакции узнали об Островском гораздо раньше, чем он написал роман. Как же так?
Ещё более странным показалось письмо, адресованное Ляхович четырнадцатого июня, в котором есть такие строки:
"В ближайшую неделю мне принесут перепечатанную на машинке главу из второй части книги, охватывающей 1921 год (киевский период, борьба комсомольской организации с разрухой и бандитизмом), и все перепечатанное на машинке будет передано тов. Феденёву, старому большевику, ты, наверное, слыхала о нём, и он познакомит с отрывками своего друга редактора. Там и будет дана оценка качеству продукции.
Я вполне с тобой согласен, что в Сочи было много упущено, но что об этом говорить?"
Из письма получается, что, во-первых, Островский, не написав ещё первую книгу, уже написал главу ко второй. Ведь именно во второй части вышедшего романа говорится о киевском периоде комсомольской жизни Корчагина. То есть у Островского в голове или где-то ещё был план обеих книг. Инзубов помнил, что Островский без плана не живёт. Но это только во-первых. А во-вторых, Феденёв, стало быть, относил своему другу редактору не всю рукопись, а только первые главы. Кого же так интересовала работа ничего не написавшего автора, что он рассылает написанные вслепую или под чью-то диктовку листки блокнотов, чтоб их как можно скорее перепечатали на машинке?
С этими главными пока вопросами Инзубов и отправился со своей коллегой к Колосову.
Старый писатель, бывший некогда в таком фаворе, что приглашался на приём к самому Сталину, жил теперь в однокомнатной квартирке и просил долго нажимать на кнопку дверного звонка в ожидании пока он услышит и подойдёт.
Первое впечатление было ошеломляющим. Колосов действительно долго шёл, с трудом передвигая стариковские ноги, с ним было трудно разговаривать по причине его старчески слабого слуха и горестно было смотреть на его одну комнату, заваленную книгами, знавшими лучшие времена.
Прекрасной души человек, обрадованный появлению редких гостей, Колосов предложил попить кофе, и Инзубов в который раз внутренне благодарил судьбу за то, что пришёл сюда с Татьяной Евгеньевной, взявшей немедленно все хлопоты по приготовлению кофе на себя, заявив решительно и бесповоротно:
– Марк Борисович, я всё сама сделаю, вы только скажите, где что лежит. А конфеты мы принесли, так что вы не беспокойтесь.
За чашечкой кофе разговор шёл медленно. Почти каждый вопрос приходилось задавать несколько раз, чтобы донести до слуха старого писателя. Но память у него была прекрасной. Рассказывал много интересного. Ещё бы – быть у истоков российской ассоциации пролетарских писателей. Видеть, как всё зарождалось, набухало бутонами и затем выплёскивалось к свету лепестками новых для всех цветов. Тут многое можно вспомнить. Вот только ответить на вопросы, мучавшие Евгения Николаевича, Колосов не решился. Он не отказался, не сказал, что не знает, но хитро как-то усмехнулся на все высказанные Инзубовым сопоставления писем Островского с биографической версией и сказал:
– Ищите, Евгений Николаевич, ищите.
Так и ушли фактически ни с чем, заручившись лишь обещанием писателя передать в музей всё, что Татьяна Евгеньевна найдёт интересным из архива самого Колосова. А он перед их уходом прилёг отдохнуть на диван, не снимая одежды и тёплых мягких ботинок, и попросив прикрыть его пледом да захлопнуть за собой дверь поплотнее.
С такими неутешительными результатами возвращались на улицу Горького два музейщика, когда очутились на площади Пушкина. Выйди из метро на улицу, они увидели толпу людей в сквере напротив памятника поэту. Инзубов заинтересовался и решил пойти туда, послушать, но Татьяна Евгеньевна ухватила его за рукав:
– Не ходите, Евгений Николаевич. Нечего вам там делать. Не видите, сколько милиции вокруг? Да вас и не пустят.
– Татьяна Евгеньевна, – Инзубов посмотрел с улыбкой в большие выразительные глаза коллеги, – ничего со мной не случится. Я всего на несколько минут, послушаю, о чём речь и приду. У меня удостоверение журналиста, с ним меня всюду пускают.
– Ну и что? – не сдавалась Кузьмина, – вы там начнёте спорить, а потом наш музей будут ругать.
– Не буду я говорить, что сам из музея, не переживайте.
– Ох, знаю я вас. Обязательно ввяжетесь. Ну, смотрите.
Они расстались, и Инзубов направился через переход к митингующим. Руководивший оцеплением майор милиции, посмотрев удостоверение Инзубова, нехотя, пропустил к толпе. На парапете возвышалась над всеми нескладная пухлая фигура Новодворской, кричащая в толпу:
– Мы все законопослушные граждане, мы хотим правового государства, в котором из нас не будут делать балванчиков. Мы против всякого насилия, нам это противно, однако мы не хотим, чтобы нами правили жирные партократы из своих кремлёвских кабинетов. До каких пор мы будем молчать, как бараны в хлеву? Неужели мы лошади, загнанные в стойла, чтобы жевать то, что нам бросят в качестве подачки бюрократы партийной номенклатуры? То, что произошло двадцать лет назад в Чехословакии, когда советские войска душили демократию – это позор нашей нации. Это могли сделать только партократы, которым не место у власти.
Слушая брызгающую слюной Новодворскую, Инзубов не мог никак отделаться от двух ощущений. Первое заключалось в том, что выступавшая женщина казалась ему психически ненормальной. Ему было непонятным, почему в таком случае больному явно человеку разрешают выступать перед публикой да ещё в центре Москвы.
Второе ощущение носило совершенно другой характер. Он вдруг почувствовал себя в другом времени. Ведь это у Островского в выступлениях тогдашних оппозиционеров звучали такие же слова "партократчики" и "бюрократы". Что же это были за годы? Ну да двадцатые. Вспомнилась одна из неопубликованных страниц романа, в которой на слова оппозиционеров отвечал рабочий коммунист Панкратов:
"… в наших рядах есть люди, готовые в любую минуту взорвать партийное единство, поломать в щепки партийную дисциплину, и которые при каждой трудности подымают бунт и вносят дезорганизацию. Давайте же откроем настоящее лицо оппозиции.
Разве ЦеКа партии не записывал в своих решениях наличия бюрократизма и излишнего централизма в некоторых организациях? Разве пятого декабря не были внесены решения о рабочей демократии? Были, и Троцкий голосовал за них. В партии каждому большевику предоставлялась возможность высказать свои взгляды и предложения, устраняющие недостатки в нашей работе. Оставалось только обсудить всё в нашей единой партийной семье и общими силами двинуться вперед, преодолевая трудности.
Что же сделал Троцкий? На другой же день после этого решения, за которое он голосовал и был вполне с ним согласен, он через голову ЦеКа обратился к партийным массам со своим возмутительным документом. Сейчас же вслед за этим все, какие только были в партии оппозиционные элементы, повели на ЦеКа бешеную атаку. Вместо здорового обсуждения наших хозяйственных и внутрипартийных недочётов у нас началась внутрипартийная война. Троцкий пытался вооружить молодёжь против старой гвардии. Он хотел разорвать их неразрывное единство. Он и его сторонники пытались оклеветать ЦеКа и старую гвардию. И большинство партии, возмущённое этой небывалой антипартийной вылазкой, дало оппозиции жестокий отпор по всему фронту. Они клевещут, что мы их зажимаем, но кто этому поверит?
У нас в Киеве не меньше сорока агитаторов-троцкистов. Есть из Москвы, из Харькова целая группа, даже два из Петрограда. Мы им всем даём говорить. Я убеждён, что нет ни одной ячейки, где они не пробовали побрызгать грязью. Ведь Дубаве, Шумскому и еще нескольким бывшим работникам дали мандаты на районную и городскую конференции, хотя по уставу они не имеют на это права как приезжие. Им дали высказаться полностью, и не наша вина, если их большинство осудило резко и безоговорочно.
Вслушайтесь в их оскорбительную кличку "аппаратчик". Сколько в нем ненависти! Разве партия и ее аппарат не одно целое? Они говорят молодёжи: "Вот аппарат – это ваш враг. Бейте его".
На что это похоже? Так могут говорить развинченные анархисты, а не большевики.
Скажите, как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев против командиров и комиссаров, против штаба, и это всё во время окружения отряда врагами?
Что же, если я сегодня слесарь, то я, по Троцкому, ещё могу считаться "порядочным"? Но если я завтра стану секретарём комитета, то я уже "бюрократ" и "аппаратчик"?
Вы понимаете, к чему приведёт троцкистов такая клевета? Они неизбежно станут врагами пролетарской революции. Наши комитеты были и будут нашими штабами. Мы посылаем в них лучших большевиков и никому не позволим их дискредитировать".
"Так говорили в двадцатые годы, – думал Инзубов, – и, по сути дела так же говорят в адрес коммунистов сегодня и даже здесь на площади".
Вокруг стояла разношёрстная толпа людей. Многие, очевидно, были членами "Демократического союза" Новодворской, но стояли и случайно оказавшиеся здесь по пути в магазины. Курили сигареты и весело пересмеивались молодые парни, видя в происходящем развлечение. Пришли и люди с камерами, снимавшими для телевизионных программ.
Одна из стоявших рядом с Инзубовым женщин, закинув чёрную сумочку на плечо, зааплодировала Новодворской. Евгений Николаевич не удержался от вопроса:
– Ну и чего аплодировать? Вы хоть понимаете, к чему она призывает, чего хочет для вас?
– Понимаю, – охотно откликнулась женщина с сумочкой, – а вы не согласны с нею?
Евгений Николаевич почувствовал, как на них сразу же направили объектив видеокамеры. Молоденькая девушка протиснулась с микрофоном. Останавливать разговор теперь тем более было невозможно, и он отвечал:
– Я тоже не слепой и вижу, что происходит в нашей стране. К сожалению, есть у нас среди руководящих кадров и преступники (он вспомнил председателя горисполкома Ялты), и просто плохие работники (вспомнил секретаря горкома комсомола, против которого выступал), есть плохие коммунисты, которые не могут носить такое звание (вспомнилось его выступление на партсобрании в издательстве), но это не даёт никому права говорить, что все коммунисты плохие. Вы, например, где работаете?
– На молокозаводе.
– Кем?
– Инженером по качеству.
– Вот хорошо. Если мы с вами увидим в магазине плохую сметану или разбавленное кем-то молоко, то правильно ли будет требовать ликвидации всех молокозаводов? Вы поймите, что и среди простых людей есть немало плохих и хороших. Конечно, на высоких партийных постах люди должны нести большую ответственность. Им оказывается больше доверия. Те, кто его не оправдывают, а такие есть, должны быть убраны, но нельзя же отрубать всю руку, если один палец испорчен. Другое дело, что мы должны организовать так нашу жизнь, чтобы на руководящие посты не попадали мерзавцы. Так это от нас зависит. В этом нужно объединяться.
Ощущение направленной на него камеры вдруг пропало. За спиной раздались крики. К стоявшей опять на парапете и что-то кричавшей Новодворской прорывались сквозь толпу люди в особой милицейской форме. Это были солдаты ОМОН. Молодые парни, которым было явно всё равно, о чём говорила оратор, но обрадованные обострением ситуации, кинулись в толпу с криками: "менты!", "долой!". Началось нечто вроде потасовки. Оцепление милиции быстро продвинулось к месту событий и стало оттеснять толпу, говоря:
– Расходитесь, граждане, расходитесь! Митинг окончен. Незачем здесь стоять.
Теперь только Евгений Николаевич заметил вдоль бульвара длинный ряд микроавтобусов с зашторенными окнами. Туда стали заталкивать сопротивляющихся юнцов. Некоторые, уже попавшие в автобус, вдруг высовывались в открытые окна с криками:
– Свободу! Нас не победить! Убивают. А-а-а!
Последний возглас означал, что кричавшему дали сзади пинок или скрутили руку, заставив убраться от окна машины.
Новодворская последовала за ними в один из РАФиков. Туда же сажали и других членов ДС, захотевших поддержать своего голосистого лидера. Через несколько минут площадь опустела. Всё походило на спектакль, в котором лишь главные действующие лица знали сценарий. Остальная массовка была бесплатным приложением.
Пушкинская площадь зажила своей обычной жизнью, шипя по асфальту колёсами троллейбусов, срываясь потоками застоявшихся у светофора машин, гомоня толпящимися на остановках пассажирами и сидящими на скамейках сквера жителями и гостями столицы. Только милиции было больше обычного. Она уходила последней.
Инзубов вернулся через переход на свою привычную сторону улицы Горького и зашёл в музей. Татьяна Евгеньевна, слушая рассказ о происшедшем на площади, всплеснула руками:
– Я так и знала, что вы попадёте в какую-нибудь историю. Нельзя мне было вас отпускать.
– Ох, Татьяна Евгеньевна, – вздохнул Инзубов, – незачем вам волноваться. Площадь и я пока живы.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Митинги подобные тому, что произошёл двадцать первого августа, становились постепенно не таким уж редким событием, но они случались разными по количеству митингующих, проходили в разных местах и по разным поводам. Обыватели, брошенные волею случая или пришедшие специально по зову заранее распространённых листовок, полагали, что демократия и счастливая жизнь врывается в их мир с этими митингами. На многих лицах можно было заметить улыбки счастья. Они, эти счастливо улыбающиеся, не сразу или вообще не улавливали незаметную, но очень важную деталь – выступающие были почти всегда одни и те же. Попробуй кто из инакомыслящих – их так, конечно, не называли, прилепив другие определения: ретроград, аппаратчик, совок – выступить со своими отличающимися идеями, как, во-первых, ему не давали слова, а, во-вторых, если прорвётся и начнёт говорить, то освистывали и оглушали криками.
Жизнь, страдалец мой читатель, менялась на глазах, и никто не знал, в какую сторону. В этом вынужден был признаться сам Генеральный секретарь ЦК КПСС, глава государства Михаил Сергеевич Горбачёв. О! неужели же он, так легко взлетевший на Олимп власти три года назад, мог признаться об этом своему народу? Простой человек сказал бы в таком случае: "Ни боже упаси!" Как на духу, такое можно было высказать только ближайшему другу, но не было ни одного у Горбачёва ни среди двухсотвосьмидесятимиллионного населения Советского Союза, ни среди девятимиллионного населения Москвы. Разве что жена Раиса? Но разговоры с нею, откровения между связанными семейными узами супругами, тайные перешёптывания в спальном уединении, не могут фиксироваться по этическим соображениям. Зато переговоры и откровения с зарубежными друзьями, а их у лидера Российского государства становилось с некоторых пор всё больше, пока они не пошли на убыль вместе с популярностью Горбачёва, фиксировались в обязательном порядке, а потому сохранились в истории. Произошло это чисто случайно.
Ну, ты же понимаешь, умница-читатель, что Горбачёв не Иисус Христос, хотя сам полагал, что близок к нему по положению. Он самый простой человек, совсем недалеко ушедший от мышления неразумной домашней хозяйки. Прошу прощения перед разумными домашними хозяйками. Я ни в коем случае не хотел их обидеть, так как понимаю, что разумная хозяйка, даже просто домашняя, никогда бы не стала совершать непродуманных шагов, покупая обычные яйца на базаре. Уж, конечно, она не станет покупать тухлые яйца, когда ей нужны свежие, не станет хватать второпях гнилой качан капусты, а переберёт с дюжину головок, прежде чем найдёт самую красивую, крепенькую, сладкую. Но это я говорю о разумной хозяйке. Посмотрим же, как было у Горбачёва.
В ноябре тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года в Соединённых Штатах Америки на выборах победил давний знакомый Горбачёва Джордж Буш. Но вступление в должность намечалось в январе следующего года. А тут в декабре этого года в Нью-Йорке проводится очередное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Горбачёв летит в Америку докладывать всему миру о своей концепции "Нового мышления". Горбачёв не сомневался, что этой концепцией берёт бразды правления миром в свои руки. Собственная страна его уже интересовала меньше.
Свою особую значимость в мировых процессах ему трудно было переоценить. Ещё год назад, весенним апрельским месяцем он сумел проявить свою самостоятельность и значимость перед советскими подчинёнными ему руководителями. Тогда апрельским весенним днём в Москву прилетел Государственный секретарь США Шульц. Задачей прилёта были затянувшиеся переговоры по вопросу ликвидации ракет средней дальности в Европе. Тот факт, что Советский Союз имел в Европе свои ракеты СС-20, не должно было удивлять, поскольку государство обороняло свои рубежи. Дальность полёта ракет была всего от пятисот до полуторы тысячи километров. А вот почему американцы установили в Европе свои ракеты средней дальности, трудно было объяснить с позиции защиты Америки, находящейся на расстоянии около четырёх тысяч километров от Европы. Но с этим аспектом уже не спорили.
Сложность предстоящих переговоров заключалась в том, что американцы хотели включить в договор об уничтожении ракет новые советские ракеты СС-23, которые, правда, имели меньший радиус полёта, всего до четырёхсот километров, то есть не входили в число ракет средней дальности, предусмотренных проектом договора, но отличались повышенной точностью попадания в цель.
Готовясь к запланированным переговорам, задолго до того, как Шульц сел в самолёт по направлению к Москве, Горбачёв получил чёткие пояснения и от маршала Ахромеева, и от секретаря ЦК партии по международным вопросам Добрынина о том, что ни в коем случае нельзя соглашаться на сокращение в Европе ракет СС-23, не смотря на то, что по каким-то странным причинам соглашательскую политику в пользу США в этом, как и во многих других вопросах, занимал министр иностранных дел Шеварднадзе.
Переговоры начались. Вопросы обсуждались в целом и детально по каждому пункту. Опытный и хитрый политик Шульц главную закавыку договора оставил на закуску, когда будто бы всё согласовано, всё понято. Бодрым голосом он сказал в заключение:
– Господин Горбачёв, я могу, наконец, твёрдо заявить, что оставшиеся ещё спорные вопросы могут быть разрешены в духе компромисса, так что господин Горбачёв может смело приезжать в Вашингтон в ближайшее время для подписания важного соглашения о ликвидации ракет средней дальности…
Последнее условие Шульц проговорил как бы между прочим, как маленькое несущественное дополнение к общему большому разговору:
– … если вы согласитесь включить в соглашение и ракеты СС-23.
Присутствовавшие на переговорах Ахромеев и Добрынин спокойно смотрели на Горбачёва, ожидая естественного ответа в оговоренном заранее направлении, то есть пояснении заокеанскому политику очевидного: названные ракеты СС-23 не подпадают под условия соглашения.
Однако Горбачёв, задумавшись лишь на мгновение, произнёс:
– Договорились!
Высокие стороны поднялись, обменялись рукопожатиями и разошлись. Возбуждённый происшедшим маршал немедленно направляется в кабинет Генерального секретаря для объяснений:
– Михаил Сергеевич, как же так получилось? Ведь мы же подготовили вам меморандум, в котором специально подчеркнули невозможность включения в соглашение ракет СС-23. На создание их мы потратили миллиарды. Что же мы будем уничтожать их теперь, ослабляя свою мощь?
Горбачёв выразил некоторое смущение:
– Да я забыл о вашем предупреждении в меморандуме. Тут я, видимо, совершил ошибку.
– Ну, так Шульц ещё не вылетел из Москвы, – обрадовался Ахромеев. – Давайте сообщим ему, что произошло недоразумение.
Но никакого недоразумения не было. Горбачёв полагал, что маршал должен сам это понять и спокойно уйти, повинуясь, но тот возражал, и партийный царёк взорвался негодованием так, что пятно на голове побагровело: