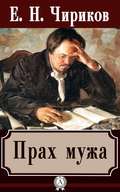Евгений Чириков
Юность
XXIII
…Воскресла моя умершая невеста… Зоя, Зоя, если бы ты могла заглянуть в мою измученную душу! Там только ты, одна ты, моя белая, чистая девушка, и безвыходный хаос страданий и позднего раскаяния… Ты сказала: «что прошло, то невозвратно»… Ах, если бы так! Почему же твой образ неотступно стоит пред моими глазами и тоска по тебе не хочет отпустить меня на волю? И почему вернулся в душу трепет первых свиданий, и я жадно ищу, как прежде, случайных встреч с тобой?.. Ах, теперь эти редкие встречи не дают мне ничего, кроме страдания. Зачем же я их ищу, ищу, ищу… Нет, что прошло, то возвратилось и снова, с еще более властною силой, захватило меня. Счастливая, для тебя оно – «не возвратно»… Ты смеешься над ним… и надо мною…
Я хотел бы уйти с головой, как раньше, в идейную работу, я стараюсь сделать это: усиленно пачкаюсь в гектографской краске, собираю нелегальную литературу, веду пропаганду среди товарищей… но… ты мешаешь мне, потому что не любишь… И я каждую минуту об этом думаю и каждую секунду это чувствую, и у меня опускаются руки, и кажется мне, что не стоит трудиться, пропадает пыл ненависти и потухает жажда подвига… Ах, если бы мы попрежнему любили друг друга! Мы взялись бы за руки и пошли навстречу смерти без страха и колебаний, и наша любовь осветила бы дорогу многим другим… Перед вечной разлукой на земле мы с тобой обменялись бы такими письмами, над которыми бы плакали в тишине ночи все живые и честные.
– Игнатович!
– А, здравствуйте, Геннадий!..
– Куда вы?
– В театр за билетами на «Евгения Онегина». Зоя тоже идет… Мы – целой компанией. Идемте, голубчик!
– Пожалуй… Впрочем, быть может, я буду лишним в вашей компании…
– Что вы, Господи помилуй! Вы знаете, как я уважаю вас…
– Вы-то так, да другие…
– А другим – всё равно… Веселее!
– Не знаю, как ваша сожительница…
– Зоя? Вот пустяки!.. Какое ей дело? Приглашаю вас я… Я без вас не пойду!
Игнатович опять посмотрела на меня тем значительным взглядом, который давно уже пугает меня и… раздражает: я давно уже понял, что она питает слабость ко мне, но я… меня это только раздражает.
– Идемте, дорогой подумаю…
– Вы, кажется, неравнодушны к моей сожительнице?.. Совершенно напрасно…
– Я… Нисколько!.. Почему вам так кажется?
– Не всё то золото, что блестит… Наружность обманчива.
– Игнатович, я не пойду в театр!
– Не отпущу!.. Уверяю вас, что мы обе: и я, и Зоя, будем очень рады. Мы обе вас… вам симпатизируем. Довольны? Руку!
Она крепко пожала мне руку, и значительно посмотрела в глаза:
– А вы?
– Что – я?
– Кому из нас вы больше симпатизируете?
– Не знаю. Обеим одинаково.
– Значит, ни одной из нас…
– Почему такой вывод?
– Ребятишки, когда их спрашивают – кого больше любишь, говорят: обеих одинаково. А это значит, что – никого…
– Я – не ребятишка, а потом…
– Что – потом?.. Сохранили вы ландыш, который я поднесла вам на студенческом балу?
– Ландыш?.. Да, я положил его в книгу, но забыл, в какую…
– В любимую, по крайней мере?
– В «Философию права»…
– Как это понимать? Значение?
– Трудно это понять.
Так, перебрасываясь словами, мы дошли до театра. Я сказал несколько приятных фальшивых слов спутнице и, чувствуя, что не могу не идти сегодня в театр, зачем-то всё упирался:
– А то уж идите без меня: я лучше почитаю Бокля…
– Я уже взяла билеты!.. Поздно!.. Галерка, у барьера… Идем!
Мы вышли из театра. Я сердился на Игнатович и на себя, но покорно шел за спутницей: ведь она живет в одной комнате с Зоей…
– Нате билет!.. Рядом со мной… Надеюсь, вы довольны своей соседкой?
– Конечно, конечно…
– То-то!.. А, может-быть, вам хочется – рядом с Зоей?..
– Одинаково приятно…
– Тогда я посажу вас между нами… и посмотрю, куда вас больше притягивает…
– Вероятно, я буду больше всего смотреть на сцену…
– Хотите к нам?.. Ко мне! Я вас приглашаю. Другим нет дела…
– Дела нет, но… я не люблю делать неприятностей другим. Не пойду.
– Ну, проводите меня!
– Могу.
– Впрочем, если это вам не доставит удовольствия…
– Доставит.
– В таком случае разрешаю… Давайте… под-руку!.. Скользко. У меня – новые калоши. Насилу нашла: думала, потеряла…
– Что? Калоши?
– Перчатки!..
– Ааа…
– Вы очень рассеянны. Влюблены? да?
– Безнадежно.
– В кого? Быть может, дело поправимо?
Опять пристальный значительный взгляд. Невыносимо. И всё сношу без ропота, потому что Игнатович мне кажется теперь той ниточкой, за которую хватается утопающий…
– Ну, до скорого и приятного свидания!.. Сидим рядом. Я довольна.
– Да?.. Вы сильная: больно руку!
– Я люблю почувствовать пожатие. Не делайте вареной руки!.. Ну, вот так!..
Слава Богу, кончились мои муки… Кажется, она вполне убедилась, что именно в нее я влюблен и потому рассеян, смущен и грустен… Чёрт знает, как всё это странно и глупо выходит… Эх, Зоя, Зоя!..
Лучше пораньше придти и сесть на свое место, а то потом, когда Зоя будет сидеть уже, как-то труднее будет скрыть волнение, залезая меж ними на свое место. Пришел, когда еще зажигали люстры, и угрюмо и упорно засел в галерке, делая вид, что мне решительно всё равно, кто бы ни сел рядом. Будто, не знаю и не интересуюсь этим. Театр быстро наполнялся и оживал. Вокруг уже кишмя-кишела публика, и я вздрагивал спиной всякий раз, когда позади разыскивали места… Уже грянула увертюра, когда я почувствовал позади шорох платьев и знакомый аромат духов. Не знаю, скрыла Игнатович от Зои о нашей встрече или нет, но Зоя страшно смутилась и покраснела, когда увидала, что я – рядом.
– Ах… вот как!.. и вы…
– Судьба! – прошептал я со вздохом, но кто-то сердитым басом произнес позади: «прошу не болтать!» – и я замолк, усиленно впившись глазами на сцену. Я не знаю, видел ли я что-нибудь там, но грустная музыка оперы и нечаянные прикосновения к Зое уносили меня в небо и я переставал моментами чувствовать, кто я, где я и что кругом меня происходит. Что-то шептала мне Игнатович, но я смотрел и не понимал.
– Би-нокль! Что с вами?!.
Игнатович привалилась ко мне плечом, и я чувствовал, как ее кровь пригревала мне руку. Это мне было неприятно, но я боялся отодвинуться и нечаянно толкнуть Зою.
– Я вас не стесняю? – прошептала Игнатович и еще сильнее навалилась на мое плечо.
– Ничего…
– Прошу не болтать! – прогудел позади сердитый бас…
– Скажите пожалуйста… Как страшно! – огрызнулась Игнатович…
Упал занавес, загорелись люстры в зрительном зале, и я очнулся от сладостной истомы. Очнулся и почувствовал ужасную неловкость. Надо заговорить с Зоей. Как и о чем? Мельком взглянул в ее сторону: сидит неподвижно, с опущенными ресницами. Боже, как она прекрасна! Она стала еще лучше. Одна золотая коса лежит на груди, а другая за спиной. Подняла голову, вскинула ресницы и слегка улыбнулась…
– Вот и встретились!..
Сказала так просто и взглянула так ласково, словно ничего не случилось и всё было по старому.
– Я так давно искал…
– Что вы говорите там? – вмешалась Игнатович.
– Не верю! – сказала Зоя, и лицо ее вдруг потускнело и ресницы опустились и бросили тень под глазами.
– Чему не верите? – спросила Игнатович.
– Что Татьяна любила Евгения Онегина, – недовольно бросила Зоя и отвернулась, предоставив нас друг другу.
– Вот тебе раз! – с досадой заговорила Игнатович и, теребя меня за руку, стала доказывать, что Татьяна любила Онегина, а я стал противоречить:
– Если бы она любила по-настоящему, то она простила бы Евгению его ошибку и ничто не удержало бы ее разорвать все путы!
Зоя вскинула на меня грустные глаза и проговорила:
– Пропала вера в эту любовь. Что прошло, то – невозвратно…
– Неужели и вы поступили бы так же? – спросила Игнатович.
– Да. Я только не призналась бы, что всё еще люблю его…
– Ну, наплевать на них! Идем погулять! – проговорила Игнатович и потянула меня за рукав.
– А вы, Зоя Сергеевна?
Зоя взглянула на меня и виноватым тоном ответила:
– Я не люблю толкаться… В другой антракт…
Я сказал глазами, что без нее не хочется, но пошел. И всё время Игнатович волочила меня под-руку и что-то говорила про любовь Татьяны и вообще про любовь, а я ничего не слышал и утвердительно поматывал головой, думая только о Зое и об ее загадочной фразе, брошенной мимоходом: «я не призналась бы, что всё еще люблю его»… Что это значит? Неужели… Нет, это было бы такое невероятное счастье, что я не смею о нем и думать…
– А, между нами говоря, этот Евгений просто хлыщ. Вы согласны?
– Я? да, да…
– Скажите, откуда взялась ваша фотография у Зои Сергеевны? Разве вы…
– Мы ведь знали друг друга давно…
– Хотите обменяться со мной карточками?
– Да, очень тронут.
Игнатович пожала мою руку локтем и повлекла из фойе.
– Мы замечтались: кажется, началось уже… Ах, мы мечтательны ужасно! – фальшиво протянула она и значительно взглянула в мои глаза.
Невыносимо. Только для тебя, Зоя, можно претерпевать эти испытания.
Опять рядом. Занавес еще не поднят, можно перекинуться словом.
– Как мы редко теперь видимся, Зоя Сергеевна!
– Да.
– Как я раскаиваюсь в том, что нет возврата к прошлому!
– Что ж делать!
– А вы?
– Простите, я не могу сейчас говорить об этом.
– Когда же, когда…
В этот момент взвился занавес, потух свет в зале, я наклонился к барьеру и, как к святыне, приложил свои губы к руке Зои. Она вся содрогнулась, сняла с барьера руку и вздохнула. Ничего не сказала. На сцене разочарованный Онегин уже читал нотации растерянной Татьяне, и вдруг мне показалось, что Онегин – это я, а Татьяна – Зоя. Об этом же, вероятно, думала и Зоя, потому что, когда кончилась эта картина, она обернулась в мою сторону и, печально покачав головой, сказала:
– Хорошо, что еще счел нужным объясниться лично! А то ведь мог ограничиться письмом с отказом от руки и сердца. Впрочем, не всё ли равно?.. Хотите, пойдем… Здесь душно…
Я вскочил и стал расталкивать столпившуюся в дверях публику… Кто-то обиделся и сердитым басом произнес:
– У нас собственный полицеймейстер!..
– И собственный дурак! – бросил я на эту реплику и подал руку Зое.
– Я не хочу – в фойе. Пойдемте на лестницу, там свежее.
– Куда хотите, Зоя…
Стоим на лестнице: она – облокотясь на перила, я сбоку, не сводя с нее глаз. Так близко, близко… Как прежде! Хочу сказать, что я люблю ее сильнее прежнего, и не могу: что-то стоит между нами.
– Вы, Геннадий, сильно изменились… Вы что-то пережили и вообще какой-то другой… И я – тоже. Оба мы другие. Мне кажется, будто, мы только сейчас познакомились и не знаем, о чем говорить нам между собой…
– Да, Зоя… Я пережил много… Когда-нибудь я вам скажу… А теперь я тороплюсь сказать вам одно, главное…
– Не верю… Если бы вы знали, как я вам верила… и что вы сделали с моей верой в людей вообще!.. Впрочем, это становится похожим на оперу, которая идет на сцене… Бросим и никогда не будем к этому возвращаться. Теперь я хочу учиться, только учиться наукам…
Зоя вздохнула и опустила голову.
– Как хорошо вы говорите!.. Вы – оратор… Я до сих пор не могу опомниться от вашей речи на нашем вечере…
– Всё это не важно… Я невыносимо страдаю, Зоя, от ваших холодных слов.
– Вы – оратор… умеете делать свои слова горячими, а я… погасли мои слова от… ветра… Пора! Идем! Третий звонок…
– Постоим еще! Ради Бога!
– Вы не верите в Бога…
– Ну, ради… прошлого!..
– Не понимаю, Вас, Геннадий. Что вы: искренно, или так… между прочим?
– Вы меня глубоко оскорбляете… Я заставлю вас поверить мне, хотя бы это стоило мне…
Я не договорил и пошел прочь, покинув Зою. Я пошел в буфет и, взяв коньяку, присел к столику и стал пить рюмку за рюмкой, чтобы на что-то решиться, что-то сделать… Теперь ясно: прошлое – невозвратно и ничем его не вернешь. Не любит и не может любить… А я не могу. Я не хочу жить. Не хочу. Я хочу теперь только одного: заставить ее поверить моей честности, моей искренности и… в награду получить ее слезы над моей могилой. Да, больше у меня нет выхода.
В буфете было пусто. Буфетчик дремал за стойкой и не надоедали лакеи. Вдали Ленский пел свою предсмертную арию и музыка вторила ему и наполняла скорбью мою душу.
«Благословен и дня при-хо-од, бла-а-гослове-е-н и…»
Да. Кончено! Завтра меня уже не будет. Мелькали мысли о старом доме, о старой матери, о Зое, стоящей около свежей могилы и рыдающей напрасными слезами… Что меня может остановить? Никто и ничто… Только она, сама Зоя… Вот если бы она пришла сюда и почувствовала, что случится этой ночью, если бы она сказала: я боюсь за тебя…
– Геннадий! Что это!..
Я поднял голову и закричал:
– Зоя!
– Что с вами, милый?.. Не надо пить. Отчего вы убежали от меня?..
– Разве вам не всё равно?
– Я могла бы не придти, Геннадий… Не пейте: я рассержусь.
– Ах, Зоя!., мне надо быть сегодня веселым, потому что я ухожу и…
– Если вы меня… любите, вы…
– Я? люблю ли я вас!.. У меня только одна возможность доказать это.
– Будет говорить глупости… Идем!..
Я посмотрел в глаза Зои и вдруг почувствовал, что светит в них ясный огонек чего-то былого, нежного, и зажигает душу жаждой жить, жить, жить…
– Я хочу жить, Зоя!.. Я не хочу умирать.
– Ах, какой… нехороший!.. Рано думать о смерти… нам, таким молодым!
Мы под-руку вернулись в зрительный зал и, под ворчливое сетование публики, пробрались на свои места. Игнатович презрительно покосилась в мою сторону и проворчала:
– Это называется любить музыку…
– Прекратите болтовню! – как шмель, прогудел сердитый бас позади.
Мы сидели с Зоей близко друг к другу, и я не боялся прикосновений, а искал их, потому что от них лилось в душу ласковое успокоение и надежда на возврат потерянного. Изредка украдкой Зоя взглядывала на меня, и я ловил в ее глазах прощение любящей; души. И всё прошло: жизнь казалась прекрасной, и чудным казался бинокль Зои, перламутровый, с ручкой… Ее бинокль, ее бинокль! Милый, родной бинокль! Как я люблю тебя, бинокль!..
Глядя на Зою, я поцеловал бинокль, а она смущенно улыбнулась и потупилась.
– Глупо! – прошептала, наклонившись ко мне, Игнатович….
Конечно, я провожал дам до дому, но не удалось больше поласкать свою душу тихим разговором с белой девушкой. Опять мешала Игнатович: она влекла меня под руку и забрасывала словами о разных книгах, политических вопросах и значительных делах. Я что-то отвечал, иногда невпопад, а Зоя хохотала и, следуя позади, бросала в нас смятым в комья рыхлым, мокрым снегом. Ах, как мне хотелось бросить серьезные разговоры и, выдернув захваченную Игнатович руку, поиграть с Зоей в снежки и побегать за ней по белым снежным пустынным улицам спящего города!..
– Вот вам!
Звонко смеялась Зоя, радуясь, что снег попал мне за воротник, а Игнатович сердилась:
– Вы, Зоя, нам мешаете: мы говорим серьезно…
Когда мы распрощались и Зоя с Игнатович скрылись за дверью крыльца, я долго еще стоял около дома и не хотел уходить. Было так радостно и светло на душе, как бывало когда-то давно, около дома № 15…
– Надо идти… Ничего не поделаешь…
Я глубоко вдохнул влажный, пахнущий снегом воздух, посмотрел в звездное небо и, сняв шапку, перекрестился:
– Благодарю Тебя, Господи!
XXIV
Памятная ночь!..
Возвращаясь поздней порой домой, я всегда заходил сперва в переулок, чтобы посмотреть, нет ли в квартире опасности: горящая на окне лампа под красным абажуром, по условию с Николаем Ивановичем, должна была предупреждать о неблагополучии. И на этот раз я скорей машинально, чем сознательно, зашел сперва в переулок:
– Вот тебе раз!
На окне стояла лампа под красным абажуром… Что ж теперь делать? Очевидно – обыск. Но у кого: у меня – или у Николая Ивановича? Во всяком случае, идти в квартиру преждевременно, это значило бы: «не спросясь броду, сунуться в воду». Каждая минута свободы теперь дорога: надо прятать концы в воду. А концы – серьезные: у нас наворовано из типографии уже около полупуда шрифта. Дома у меня всё в порядке, но необходимо подальше перепрятать шрифт и предупредить сотоварищей о грозящей опасности… Ну, а если всё-таки арестуют? Эх, Зоя! не везет нам с тобой. Опять – разлука и, быть может, долгая…
И вдруг тревожная радость встряхнула мне душу: можно и даже необходимо, неизбежно наше свидание сейчас же. Я не могу потерять свободу, пока не узнаю, не услышу из ее уст, что наше счастье воскресло… Я хочу на прощанье услыхать на ухо: «милый, родной, люблю тебя»… А потом извольте: обыскивайте, берите, сажайте и так далее.
Я вышел из переулка и, перейдя на противоположную сторону улицы, деловой беспечной походкой направился мимо нашего дома. У ворот – полицейский: зловещий признак; подальше – три извозчика и ночной караульщик – тоже ничего хорошего… Голоса, ведут кого-то… Уселись и едут, обгоняя меня. Неприятное, чёрт возьми, ощущение: лучше поднять воротник. Отлично: проехали! Так и есть: на среднем извозчике, рядком с жандармом, словно давнишние знакомые, бедняга Николай Иванович; жандарм слегка поддерживает его за талию, словно кавалер – даму…
– Прощай, брат!.. Все там будем!.. А домой я сейчас всё-таки не пойду. Не дурака нашли: там, конечно, засада, попадешь, как кур во щи…
В общем скверно. Почему же радостно бегут ноги? Зоя, Зоя, Зоя, сейчас я увижу тебя и без слов пойму, вернулось ли «невозвратное»…
У них еще огонек. Пройду двором, спокойнее. Звонка нет. Тревожно стучу в железную скобку двери. Ну, наконец-то!..
– Кто там?
– Свои! К… Игнатович.
– Да они никак полегли уж.
– Нет, у них огонь.
– Сейчас скажу. Как про вас сказать?..
– Студент, который провожал их из театра.
– Ладно!..
Жду, весь насыщенный тревожным волнением от случившейся беды, значительности своего посещения и неизбежной встречи с любимой девушкой… Идут…
– Вы, Геннадий Николаевич?
– Да.
– Что случилось?
Приоткрылась дверь, мелькнуло освещенное огнем свечи лицо Веры Игнатович.
– У нас «гости»! Николай Иванович приказал кланяться, а я пока в бегах. Необходимо поговорить. Нужна помощь.
– Идите!.. Переждите в кухне… Зоя приведет себя в порядок…
Игнатович ушла. Я нетерпеливо ждал, когда меня позовут, и чувствовал неловкость от сердитого ворчания кухарки, которая скрипела из темного угла:
– Неужели самовар опять?.. Спокою нет от самоваров ваших…
– Спите, спите!.. Никаких самоваров не потребуется…
– Уснешь с вами!..
– Геннадий, можно!..
Вхожу за Игнатович в комнату и прежде всего встречаю глаза Зои, большие, горящие испугом глаза под накинутой на голову шалью. Она сидит на кровати, неподвижная, с тревожным вопросом во всей фигуре.
– Скверно, господа!.. Николай Иванович взят, я – последняя ночь на воле…
– Боже мой! – прошептала Зоя, и, вскочив с кровати, села рядом со мной и прижалась, вздрагивая плечами и кутаясь в шаль.
– Что же делать, Геннадий?..
Игнатович злобно посмотрела на Зою и огрызнулась:
– Сидите уж… Без вас обойдутся…
Зоя встала и вздрогнувшим голосом произнесла:
– Может быть, я здесь лишняя?.. Я могу уйти…
– Нет, Зоя! Мне необходимо сказать вам…
– Может быть, я – лишняя? – вызывающе спросила меня Игнатович.
– Вас, Игнатович я попросил бы на несколько минут…
– Извините… эта комната принадлежит не одной Зое, а нам обеим…
Зоя как-то сжалась, и наступила тяжелая минута общего замешательства…
– Мне надо, Зоя Сергеевна, поговорить с вами относительно… Надо сообщить моей матери и потом еще сделать кое-какие распоряжения… вроде духовного завещания… Простите, Игнатович, если я нарушил ваши права на комнату, но…
– Теперь ночь. Никуда я не пойду из своей квартиры…
– Я вас и не прошу об этом… Я прошу вас, Зоя!.. Пойдемте и немного погуляем и поговорим… Потом я вас провожу… Полчаса какие-нибудь…
– Хорошо… Я – сейчас. Подождите меня у ворот…
Я молча кивнул головой и тихо пошел вон. Когда я в полутьме искал в кухне калоши, в тишине ночи мне почудился сдерживаемый плач. Что такое? Кто это плачет? Зоя?.. Нет, она что-то говорит. Неужели Игнатович!.. О чем? Чем я ее так разобидел?.. Ах, да чёрт с ней!..
Я прохаживался около ворот и думал, что я скажу Зое. Сказать надо много-много, а все слова убежали. Осталось только одно: люблю и хочу услыхать только это же слово из твоих уст. Не умею начать… Помоги, Господи! Идет она… Тревожно поскрипывает снежок под ее торопливыми шагами. Забилось сердце и трудно вздохнуть…
– Как тихо! – сказала Зоя, остановившись около меня, и потупилась…
– Мне показалось, что у вас кто-то плачет… Пойдемте!..
– Вы, Геннадий, жестокий человек… Неужели вы не видите, что Вера любит вас?
– Я просто не могу и не… хочу, Зоя, этого видеть. Я ее ненавижу.
– За что?
– Не знаю. Может быть, за то, что она… плачет…
– Любит?
– У нас так мало времени… Бог с ней!.. Я пришел только к вам.
Я хотел перейти к делу, но говорил совсем не то, что хотелось. Я начал давать ей совсем ненужные поручения, которые мог исполнить любой мой товарищ: написать и успокоить старуху мать; если меня арестуют – сходить к матери Николая Ивановича и сказать ей, чтобы не беспокоилась за мои показания при допросах, а комнату – сдавала, не дожидаясь моего освобождения; просил Зою еще о чем-то… Она волновалась, переспрашивала, боясь что-нибудь не понять, или позабыть, или сделать не так, как надо. Она дорожила каждым моим словом, каждым жестом, каждым взглядом. А голосок ее вздрагивал всё сильнее и в глазах была тоскливая растерянность… Мы шли всё дальше, вперед, сами не зная, куда… Вышли за город и очутились на дороге, ведущей к кладбищу. Тишина была вокруг удивительная. Вчера весь день шел пушистый снег, и теперь хаос покрытых чистым снегом домовых крыш весь город превратил в сказочный, сделанный из снега, а все деревья, на которых осел и застыл сырой туман – в фантастические искусственные растения из белых пышных кружев…
– Последняя ночь на свободе!.. – прошептал я после долгой паузы, когда ничего больше не мог придумать для поручения Зое.
Я почувствовал, как под моей рукой вздрогнула рука Зои, и спросил:
– Вам не будет меня… недоставать?..
– Но ведь это, Геннадий, неизбежно… Такие люди должны страдать… Им надо любить свои страдания, иначе… Помните, как вы говорили тогда, на нашей вечеринке, в своей речи!.. Я ведь пока только хочу сделаться такой, а… вот Вера… она вам ближе.
– Нет, Зоя, вы мне самый близкий человек, потому что… я люблю вас.
– Вы, Геннадий, никому еще… никому другому не говорили этого?
– Вы, Зоя, всё еще не верите мне?..
Прошло несколько минут, ужасных для меня минут: я должен был сказать правду, мучился этой правдой и боялся ее сказать: мне казалось, что она разобьет вдребезги хрустальное сердце этой белой девушки, похожей на молодую березку в снежных кружевах. Так и не сказал я ей страшной правды про черную женщину. И когда я поднял опущенную голову, Зоя отвернулась и стала отирать платком слезы…
– Зоя Сергеевна!..
– Не смотрите!.. Не надо… Вы – жестокий!.. Можете возненавидеть меня за эти слезы, как случилось с Верой…
– Зоя, милая!.. о чем?..
– Да неужели вы не понимаете!.. Неужели вам надо еще говорить!..
Я схватил ее руки в перчатках и стал целовать.
– В перчатках! В перчатках! – смеясь «сквозь слезы», закричала Зоя и стала вырывать руки, а когда вырвала, взяла меня под руку, спрятала лицо в муфту и прошептала:
– Как мне жаль бедную Веру!.. Она тебя так любит… Ты – жестокий…
– Воскресло? Да?
– Да.
– Всё?
– Всё…
– Поцелуй!
– Ах, какой ты… Зачем это?.. Ведь знаешь уж…
Но я не соглашался, что это – лишнее, и боролся с мохнатой муфтой, которая прятала от меня щеки и губы…
– Какой ты… нехороший!..
– Любишь?..
– Не спрашивай же!
– Не забудешь, когда меня спрячут в каменный мешок?
– Н… не знаю.
Замолчали. Идем дальше. Скользят ноги по накатанной дороге. Где-то лает одинокая собака. Надо бы назад, в город, но там – разлука и тоска. Уйти бы куда-нибудь далеко-далеко, чтобы никого не видать и ничего не знать и только любить эту кроткую, застенчивую девушку.
– Куда же мы… Этак зайдем на край света…
– Что ты говоришь, Зоя? На край света!..
Вздрогнуло сердце… «На край света»!.. Всплыло в памяти что-то страшное, чего я боюсь и что скрываю. Старый, хмурый бор, избушка, занавешенное красным окно и зарницы молнии под грохот перекатывающегося по лесу грома. Кровь прилила к лицу и захотелось броситься на колени, прямо в снег и, целуя ноги белой девушки, просить прощения…
– Скажи… мне правду… Геннадий!
– Что? Какую правду?!.
– Ты… не говорил Вере, что любишь ее?
– Ах, ты опять о Вере!.. Нет, не говорил…
– Ну, слава Богу!.. Что это? Кладбище!.. Нет, нет. Пойдем назад…
– Ты испугалась?..
– Неприятно… Хочу жить… быть счастливой… Теперь ты… не разлюбишь?
– Верь!
– Ты любишь всех людей и за всех хочешь страдать. Если бы я научилась так же…
– Ты умеешь!..
– Нет! Есть на свете один человек, которого я…
Голубка! Опять покраснела и спрятала смущенное лицо в муфту… Мы шли к городу медленно, нехотя, и оба становились грустнее по мере приближения к дому. Словно подходили когда-то к пристани, где Зоя должна была слезть с парохода прошлой весною.
– Ты придешь ко мне на свидание в тюрьму?..
– Конечно, родной, приду!.. Но пустят ли меня?..
– Когда кончатся допросы, пустят. Но для этого надо назваться невестой… Ты на это согласишься?
– Да…
– И это не будет обманом… для удобств?
– Нет. Это будет… моей правдой!.. Я никогда не боюсь… Теперь мне все равно…
– А если меня ушлют куда-нибудь далеко, ты…
– Значит – и меня тоже!..
– Ты будешь моей женой?
– Да.
Сказала «да» так просто и посмотрела с печальной, доверчивой улыбкой прямо в глаза.
– Ну… Прощай!.. Погоди, я сперва тебя… я хочу перекрестить тебя. Ты не веришь, а я всё-таки хочу… Я верю!..
Три раза она перекрестила меня, сказала: «иди, с Господом!» и, упав на грудь, расплакалась, как маленькая девочка…
– Прощай!..
– Христос с тобой… Будь здоров и… не грусти!
Ушла. Господи, какое счастье любить тебя и быть тобою любимым!..
– Ну, а теперь за дело!..
И всю ночь до рассвета мы с Касьяновым трудились над сокрытием в безопасные места нашей нелегальной библиотеки и наворованного в типографии шрифта. А когда благополучно окончили эту тревожную работу, то расцеловались и разошлись…
– Извольте, я готов… ищите, берите, сажайте!..
И я решительно и спокойно зашагал к дому…