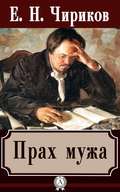Евгений Чириков
Юность
XLII
Что-то отравило нашу радость любви. Ничего не случилось, всё осталось по-прежнему, но что-то молчаливое, тайное встало между нашей близостью. А может быть это мне кажется только. Не знаю, не понимаю. Раньше не опускались в землю глаза мои, когда Зоя пристально смотрела мне в лицо, и не было тягостным наше молчание. Что случилось? Что-то знает Зоя и что-то скрывает от меня, или стесняется заговорить… Смотрит часто куда-то далеко, мимо меня, задумывается, а иногда говорит так, словно хочет занять меня разговорами. Иногда украдкой взглядывает на меня и быстро опускает взор. Что-то есть у нее на душе. Ну, а я? Почему я чувствую себя в чем-то виноватым перед Зоей?.. Разве я виноват, что по ночам думаю о Калерии? Можно подумать, что она знает об этом, что оба мы знаем об этом и молчим. Да, да, она это чувствует и от этого же я чувствую себя виноватым перед ней. Опять черный дьявол встает между нами и омрачает нашу радость и искренность. Днем я думаю только о тебе, моя светлая девушка, а ночью, когда остаюсь одиноким и лежу с раскрытыми глазами в постели, черная ночь приносит на своих крыльях воспоминания о Калерии и гонит прочь светлый образ в ореоле золотых волос…
– Почему ты сегодня молчалива и печальна, Зоя?
– Я… Нет, нет! О чем мне печалиться?.. Как всегда.
– О чем ты всё думаешь? Помолчала и сказала:
– Напиши матери: она беспокоится.
– Ты получила от нее письмо?
– Да. Она не знает твоего адреса и просит… поцеловать и побранить тебя за то, что не пишешь.
– Ну, а еще что она пишет? Ты с ней переписываешься?
– Еще…
Потупилась и смутилась.
– Она… Впрочем, это глупости!
– Скажи!
– Нет, нет… Пустяки.
– Я прошу тебя: скажи! В чем дело?..
Смутилась еще более, потупилась, загорелись щеки и уши, чертит на песке что-то зонтиком.
– Она велит поберечь тебя от…
– Меня? Поберечь! От чего?
– От кого, а не от чего…
– Не понимаю…
Показала на песок зонтиком. Я посмотрел и растерялся: на песке было написано зонтиком: «Калерия»… Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, но притворно расхохотался, и в этом смехе спрятал свой страх и смущение. Зоя помолчала, потом стерла концом зонта написанное на песке имя и, с оскорбленной ноткой в голосе, произнесла:
– Это она, та самая…
– Да, но… не понимаю, почему так беспокоится мама.
– Она… эта женщина будет здесь… а быть может уже здесь….
– Это мне неприятно.
– Боишься?
– Нет, но согласись, что такая встреча для меня…
– Разве она сделала тебе худо?
– Не станем, Зоя, говорить о ней… Я не хочу.
– А может-быть она любит тебя?.. Ты не думаешь?
– Мне всё равно. Надо уехать, куда-нибудь уехать. Уедем из Ялты!
– Нет. Я хочу увидать хотя один только раз эту женщину… Хотя издали!
– Зачем это тебе?
– Так. Не знаю… Хочется… Она очень красива?
Это была пытка. Меня бросало то в жар, то в холод. А Зоя совершенно оправилась от смущения, улыбнулась и продолжала терзать мою душу. Она снова чертила зонтом на песке имя своей соперницы и говорила:
– Красивое имя… Тебе оно нравится?
– Да, нравится, – сердито прошептал я и отвернулся в сторону.
– Лучше, если бы меня звали Калерией…
Я молчал, а она еще что-то говорила, и голос ее ровно вибрировал. Было радостное солнечное утро. Мы сидели в саду волшебницы Альцины, на той самой скамье, где я сидел на-днях ночью в одиночестве и услыхал чьи-то поцелуи за спиной. Сюда я привел Зою, надеясь посидеть с ней в укромном уголке и, как прежде, молчаливо поласкаться взорами и нечаянными прикосновениями. А вместо этого мы сидим и боимся не только коснуться, но даже смотреть в глаза друг другу. Звонкие голоса детей доносятся до нас с песчаной площадки, веселые такие голоса-колокольчики, и от этой детской беспечной радости еще сильнее чувствуется горечь, обида и тоска. Словно порвалось что-то между нами, струна какая-то, и грустно звенит в веселом хоре детских голосов и смеха. Тяжелое напряженное молчание, и нет ему конца и нет выхода. Скрип попискивающей колесами детской колясочки, которую медленно катила мимо нас разряженная кормилица, вывел нас из тоскливого упорного молчания. Зоя вздохнула, подняла голову и сказала:
– Какая прелесть! Посмотри: словно живая кукла!..
Она встала и подошла к колясочке, в которой возлежал на шелковых подушках, как султан в гареме, ребенок в красной феске, с черными глазенками и с гуттаперчевой соской в губах. Он возлежал очень важно, смотрел строго, и соска в его губах напоминала сигару…
– Ах, какой уморительный!..
Кормилица почувствовала гордость и приостановилась. Зоя наклонилась над колясочкой и стала разговаривать с важным султаном. Я тоже подошел ближе и тоскливо улыбался. Султан схватил ручонкой золотую цепочку от часов, болтавшуюся на груди Зои, и начал оживленно разговаривать на турецком языке, норовя притянуть цепочку ко рту.
– Девочка?
– Мальчик, – обиженно ответила кормилица.
– А как зовут? – спросила Зоя.
– Геннадием…
– Геннадий!.. И он Геннадий!.. Твой тезка! Слышишь: его зовут Геннадием! – Зоя обрадовалась этой случайности, засмеялась и захотела во что бы то ни стало поцеловать важного султана с сигарой во рту.
– У нас, барышня, мама не любят, когда целуют ребенка… Не велят.
– Почему?.. А мне так хочется поцеловать тебя… Ну, отдай мою цепочку! Вот какой! Не отдает… Геня, отдай же мою цепочку! Генек!
Кормилица стала отнимать у ребенка цепочку, и султан вдруг горько расплакался и выронил изо рта сигару.
– Почему он плачет?.. – неожиданно прозвучал женский голос и заскрипел песок на невидимой дорожке, за нашими спинами.
Как от сильного электрического удара, я весь содрогнулся от этого неожиданного голоса, и в тумане блеснула мысль бежать куда-то… Но было поздно: появилась из зелени стройная, тонкая, нарядная женщина, которая, к моему ужасу, оказалась действительно Калерией…
– Вот и мамочка наша…
– Геня!
– Здравствуйте!
Калерия рванулась было ко мне, но сразу остановилась, протянула руку и весело расхохоталась…
– Вот приятная неожиданность!.. А это… это твоя невеста? Да?
– Да.
– Познакомь же нас! Какой ты… недогадливый…
И, не дожидаясь моей рекомендации, Калерия протянула руку Зое и назвала свое имя и фамилию, а потом стала восторгаться моей невестой и хвалить мой вкус, говорить комплименты Зое…
– Геня!.. Вы простите, что я так называю вашего жениха: мы старые друзья. Геня! Почему ты такой?.. Ты не рад нашей встрече? Мы так давно не видались… Ты успел сделаться политическим преступником… Дай поглядеть! Я в первый раз вижу политического преступника… Сядем!.. Зоя… Зоя… а дальше?
– Сергеевна!
– Зоя Сергеевна… Я с вами знакома… И давно уже… По портрету…
– Я тоже о вас слыхала, – сказала Зоя, вычерчивая на песке зонтиком замысловатые фигуры.
– Дурное или хорошее?..
Зоя перебрасывалась словами с Калерией, а я потерял способность речи и растерянно улыбался, не желая улыбаться, и стоял около Калерии, не желая стоять, и смотрел на нее, не желая смотреть. Оживленная, порывистая, говорливая, находчивая и хитрая, она так рада за наше счастье и так завидует нам обоим, потому что мы такие юные, чистые и так подходим друг к другу. «Словно созданы Богом один для другого!..» Зоя с каким-то изумлением смотрит на Калерию, качает головой, благодарит, изредка на ее губах скользит неопределенная улыбка, какой я раньше не замечал на ее лице, хвалит ее ребенка.
– А вы уже успели с ним познакомиться!.. Знаешь, Геня, я назвала его Геннадием… В твою честь… Доволен?..
Я кивнул головой, встретился глазами с Калерией и почувствовал, как загорелись стыдом мои щеки и как мутится мое сознание…
– Посмотри, похож он… на меня?
– У него ваши глаза, – сказала Зоя.
– Да, твои глаза, Калерия… Владимировна…
– А невеста разрешает нам по-прежнему говорить на «ты»?
– Да, да, конечно!.. Мне всё равно.
– Ах, какая вы милая!.. Так бы и расцеловала вас. Я уже влюбилась, Геня, в твою невесту!.. Что ты молчишь? Можно подумать, что политические преступники очень горды…
– Преступники не бывают разговорчивы, – произнес я через силу и не узнал своего голоса: глухой, сухой, не мой голос.
– Ну, мы с Зоей Сергеевной развеселим тебя.
– Я не умею, – вздохнув, тихо сказала Зоя, встала, нагнулась к султану и стала с ним разговаривать.
– Вот его я поцеловала бы!..
– Вы?.. Что же… вам можно…
– А я им не дозволила… Не знала, кто они…
Калерия вытащила из колясочки султана, поправила на нем феску, прижала его пухленькую щеку к губам и потом протянула к Зое:
– Так и быть, целуйте!..
Зоя поцеловала султана и прошептала: «какая прелесть!», а Калерия протянула руки с султаном ко мне и, подражая детскому лепету, попросила:
– Поцелуйте уж и вы нас!.. Ну же, целуй скорее!..
Я повиновался. И когда я склонялся над ребенком и моя голова была близка к лицу Калерии, она прошептала:
– От него пахнет травой и земляникой…
…Не помню, как мы расстались с Калерией, и как ушли из сада, из проклятого сада злой красивой волшебницы Альцины… И не помню, о чем мы говорили с Зоей, когда я провожал ее до «Гранд-Отеля». Может быть, мы не говорили вовсе… Не знаю, ничего не знаю…
XLIII
Надо уехать, скорее уехать. Куда? Не знаю, но скорее, как можно скорее! Я боюсь вас обеих. Не знаю, которую больше. Я боюсь грустных, синих, как небо, глаз и боюсь черных, как эти южные ночи, и бесстыжих, как эти звезды, глаз. В одних – муки моей совести и печаль по светлой радости, в других – мой черный, омут, который ужасает и притягивает к себе всё сильнее и сильнее. Я хотел бы упасть пред тобою на колени, Зоя, и, рыдая, умолять тебя: приди и спаси! Скажи мне: «Милый, уедем, скорее, сейчас же уедем отсюда!..»
И я ни секунды не колебался бы, ни одной секунды. Клянусь тебе в этом! Я сказал бы тебе:
– Светлый ангел моей жизни! Ты еще раз спас меня от… да, может быть, от смерти! Я не знаю, что будет дальше…
Но ты не придешь, и напрасно я вздрагиваю всякий раз, когда заслышу легкие шаги по коридору, и бегу к двери, чтобы отпереть ее тебе, только тебе! Уже трижды стучала ко мне в дверь Калерия, и я ей не отпер. Ты уже знала от меня всю правду о том, что было между мной и этой женщиной. Знала и простила. А теперь, когда я сказал тебе еще новое, о чем и сам я узнал только здесь, ты замолчала и не хочешь, хотя на клочке бумаги, сказать мне: «прощай»… Я пошел бы к тебе и вымолил бы у тебя прощение, но я боюсь смотреть в твои чистые опечаленные глаза. Неужели же всё-всё разлетелось вдребезги и ничего не осталось для меня в твоем сердце?!.. Явился на свет новый маленький-маленький человек, с гуттаперчевой соской во рту, и, не умея говорить, сказал нам: «вы не можете любить друг друга»… Ты лжешь, Калерия: я не верю, что этот маленький человек – наш с тобой и что он… что от него пахнет травой и земляникой старого бора. Как узнать правду? Не узнаешь, никогда не узнаешь!.. Скажи мне правду, черное красивое животное, иначе я…
Плачет за стеной маленький человек, и его глухой плач наполняет всю мою душу и всё тело и страхом, и какой-то незнакомой странной радостью, и глупой гордостью, и тревожным беспокойством. Припав к стене, я слушаю, слушаю, слушаю и всё спрашиваю кого-то шёпотом:
– Неужели это – мой сын? Неужели это – наш сын?..
О чем он плачет, кормилица, мой сын? Не надо, чтобы он плакал. И почему около него нет матери? Мать? Разве это мать? Она живет в отдельном номере и только заходит посмотреть на ребенка. Где ты, мать? Или не слышишь, как плачет рожденный тобою маленький человек? Быть может, ты не вернулась еще с твоих верховых прогулок с каким-нибудь потерявшим голову болваном, которому, как и мне, суждено сделаться папенькой… У-у, красивое животное, тебя можно убить и не раскаиваться… Как я тебя ненавижу и как презираю!.. Уж, конечно, никто другой, как ты с своим новым любовником, не давали мне спать в первый день приезда, играя в любовь и ревность под самыми дверями моей комнаты… С кем ты теперь… Если я увижу, что ты и здесь продолжаешь свои романы без конца и без начала, я тебе… я не мальчик, которого можно не стесняться. Берегись, Калерия!..
Всё плачет. Не могу слушать равнодушно, словно кто-то дергает за душу. А кормилица бранится. Она, пожалуй, еще и поколотит маленького беспомощного человека. Ведь он никому не пожалуется… Только посмей! Посмотреть бы, что там делается, да боюсь натолкнуться на Калерию.
Тихо отомкнул замок двери, прислушался, выглянул в коридор… Никого. Вышел на цыпочках и, оглядываясь, как вор, приблизился к соседней двери. Щелка, виден свет.
– У, ты… Нет на тебя угомону… Спи, а не то… вот тебе!..
Не вытерпел, раскрыл дверь, дрожу от негодования.
– Как вы смеете колотить ребенка! Как вы смеете!..
– Что ты, я ведь так, потихоньку, в шутку, постращать…
– А где мать?
– Они уехали на какую-то гору… На Петрову гору, что ли…
– С кем?
– С мужем, да еще с каким-то… Надо бы вот мне отлучиться ненадолго, а как от него уйдешь?..
– Идите, я посижу… А они сами в котором номере?
– Они вверху, у них свои апартаменты… Так я в одну минуту…
– Давай его мне на руки.
– А не уроните?
– Ну, вот еще!
Кормилица сунула ребенка и ушла. Я прижал щеку ребенка к своей и стал ходить по комнате, весь наполненный какой-то особенной к нему нежностью и умиленной ласковостью…
– Миленький султан!.. Не плачь же, Христа ради, мой черноглазенький, мой хорошенький! Дай поцелую…
Я ходил, покачиваясь корпусом, и целовал горяченькую мягкую щечку.
– Где у тебя болит, где, цыпленочек, болит? О-оо, баю, баю, деточку мою… О-оо, баю…
Султан притих, закрыл глазки и нахмурил лобик. Я ходил и не отрывал глаз от маленького человечка… Ай, какой хмурый и недовольный! Ужасно смешной и милый… Хотел бы не отрывать своих губ от твоей щечки, да боюсь, что разбужу, и ты снова будешь терзать мое сердце своим жалобным плачем…. Боже мой, как я люблю тебя, беспомощный цыпленок! За что? Не знаю. Неужели ты – мой сын?.. Странно, невероятно, непонятно. Но мне хочется утащить тебя, детка, в свою комнату, тихонько положить на свою постель, запереть дверь и никому не отдавать тебя. Никому! Даже Калерии… Я весь ушел в созерцание спящего султана и в свои странные новые переживания и позабыл обо всем на свете. Вдруг раскрылась дверь, и на пороге появилась стройная фигура гибкой, одетой в амазонку женщины…
– Вот тебе раз! Новая кормилица!.. Трогательно… Какой ты милый…
– Не смейся: он только что успокоился… Разбудишь…
Калерия швырнула на пол хлыст, подошла ко мне, нагнулась над султаном, потом подняла на меня лукавые глаза и, воспользовавшись моей беспомощностью – на руках спал ребенок, – поцеловала меня в щеку и прошептала:
– Это по старой памяти.
– Оставь. Я выроню ребенка… У тебя муж…
– А у тебя – невеста.
– А, барыня!.. Я на минутку вышла, а их попросила поняньчиться…
– Если ты будешь, милая, заниматься амурами с лакеем, я должна буду…
– Что вы, барыня, какие тут амуры!..
– Не забывай, что ты кормишь ребенка…
– Я это хорошо помню… Не забывала… Барин спрашивает ключ от вашего номера.
– Нечего ему там делать… Возьмите ребенка!
Я осторожно передал кормилице султана и направился к двери.
– Геннадий!..
– Что?
Калерия подошла к двери.
– Мне надо сказать тебе несколько слов. Почему ты не отпираешь мне двери, когда я прошу тебя?
Мы медленно шли по коридору и тихо говорили.
– Ты чего-то боишься… Я хочу сказать тебе, что глупо бояться и бегать от меня. Я ничего дурного тебе не сделала. А если ты воображаешь, что подвергаешься опасности с моей стороны, то ты, голубчик, ошибаешься.
– Я ничего не воображаю…
– Что было, то прошло… Ты позволишь?
– Войди.
Вошли в мою маленькую комнатку. Калерия посмотрелась в зеркало и сказала:
– Что прошло, то будет мило…
– А если… не прошло? Тогда как?
Калерия расхохоталась и укоризненно покачала головой.
– Вот тебе раз… Это говоришь ты, жених!..
– Да, я… Не смей хохотать!..
– Ого, как строго!.. Ты и с невестой так же строг?.. Или там…
– Брось шутки, Калерия…
Она подсела ко мне на кровать, изобразила напуганную девочку и плаксиво пропищала:
– Не бу-уду…
Потом приблизила свое лицо к моему и, закрывая глаза, загадочно спросила:
– Помнишь?
– Погоди… Я хочу говорить серьезно. Убери с моего плеча руку.
– К вашим услугам… Только это, должно быть, очень длинно и скучно.
Кто-то боязливо стукнул три раза в нашу дверь и робко произнес:
– Калерия! Ты здесь?
Калерия встряхнула головой, словно к ней приставала муха, шагнула к двери и раздраженно и насмешливо сказала в щелку двери:
– Здесь.
– Ты скоро?
– Не знаю.
– Мне тебя надо.
– А мне вас – нет.
И, спокойно прихлопнув дверь, звонко щелкнула замочной пружиной.
– Кто?
– Муж… Ну, говори, что хотел… это… серьезное…
– Но тебя ждет муж. Быть может, оставим до завтра.
– Нет, говори. Пусть ждет… Я могу заставить его ждать до завтра.
Тяжело было начать и не подвертывалось слов, нужных слов…
– Я хочу… Мне необходимо знать, правда или ты лжешь, что… ребенок мой…
– Не твой, а – наш…
– Ну, это всё равно… Ты понимаешь о чем я говорю.
– Ну, дальше!.. Уж не думаешь ли ты, что я должна подарить тебе этого ребенка?
Улыбается и показывает кончик языка. Я теряю нить мыслей…
– Об этом не заботься: женишься – тебе Зоя подарит…
– Ах, Калерия, у тебя нет ничего святого…
– Да, у меня всё – грешное… Что же, однако, тебе от меня надо? Предупреждаю, что ничего святого дать тебе не могу. Быть может, ты хочешь, чтобы мы не были даже знакомы?.. Быть может, это знакомство не нравится твоей невесте?.. Сделай одолжение!..
– Нет, не то… Не говори о невесте… Нет ее у меня…
– Что ты говоришь? Я не понимаю тебя, голубчик…
– Нет. Понимаешь: нет, нет!.. Ты пришла и… нет ее, нет!
– Я?
– Да, ты! и еще он… там, за стеной… наш ребенок!..
– Ты ей сказал про него и про наши отношения…
– Да, сказал.
– Ты не мог этого делать, ты не имел права называть ей мое имя!.. Ты мог признаться, в чем тебе угодно, но выдавать меня ты…
– Ты можешь говорить мужу, что ребенок от него, а я…
– Нет, это другое… Я, если найду это нужным, скажу ему, что ребенок не его, но я не скажу без твоего разрешения, что он – наш с тобой.
– Я тебе разрешаю!.. Мне всё равно… Ты его не любишь, мужа?
– Зачем тебе это знать?
Я запутывался в собственных мыслях, всё больше переставал понимать, о чем и зачем я хотел говорить с Калерией, и только чувствовал, как палят меня черные огни глаз, как смеются мне красные губы, и как дразнит меня порывистое дыхание скрытой легким покровом груди…
– Я один, Калерия… Один!.. Меня никто не любит… Никто… – прошептал я и уронил голову на ее колени.
Она положила мне на голову руку и стала нежно скользить по волосам. И мне хотелось забыть всё на свете и лежать так на ее теплых коленях долго-долго… всю жизнь! Что-то шептала она ласковое, успокаивающее, я не разбирал слов и не хотел их понимать, а только хотел слушать тихий, ласковый, вкрадчивый бархатный голос… Так уже было когда-то давно, в старом бору, когда я рыдал от невозможности взять ее всю, овладеть ее душой, слиться с ней в одну трепещущую душу…
– Разве ты разлюбил уже свою невесту?..
– Не знаю… Пропало прежнее… Она сама… Она сама… Я не знаю… Не спрашивай! Вон опять плачет наш мальчик… Иди к нему!..
– Ты его любишь?
– Да. Должно быть, люблю… Если бы ты принесла его сюда и положила на мою постель!.. Я… Что же нам, Калерия, делать теперь?.. А ты всё такая же красивая!.. Как прежде… Зачем мы встретились?..
– Тук, тук, тук!..
– Кто там?
– Барыня!
– Ну!
– Барин просит наверх.
– Что ему надо?
– Они просят вас вместе с знакомым наверх… пить шампанское.
– Какой добрый!
– Муж? Да, очень… Чересчур…
– Ты уходишь, Калерия?.. Какие у тебя красивые руки!.. Когда же…
Калерия наклонилась к моему уху, повеяла горячим дыханием и, прошептав: «сегодня… не надо запирать двери», встряхнула головой и, щелкнув замком, вышла из комнаты. А я так и остался на месте, как сидел, с опущенной головой и руками…
– Не знаю… кого из вас я люблю больше… Сам не знаю. О чем ты, родной мальчик, плачешь?.. Перестань, не терзай мне сердца!.. Я тебя люблю очень, очень люблю. Больше всех…
XLIV
…Медленно-медленно стучат в коридоре часы, а ночь бежит быстро… Время тянется так лениво, а ночь уходит. Уже белеет занавес окна… Скоро из моря выкатится солнце и разбудит птиц и людей. Скоро в коридоре начнут ходить заспанные лакеи… Каких-нибудь два часа – и растают под пурпуром зари все волшебные сказки страстной южной ночи. Не придет. Обманула… Приподнимаю голову, прислушиваюсь и тяжело вздыхаю; опять не нахожу места рукам и ногам; горит лицо от горячей подушки: повертываю ее с одной стороны на другую, то поднимаю выше, то спускаю… Всё неудобно голове. Хочется пить, пересохло во рту, душно от собственного дыхания… Не придет! Не стоит ждать. Быть может, она даже забыла, что обещала сегодня ночью… Можно и днем выбрать часок, чтобы наедине переговорить обо всем. Ты, Калерия, пожалуйста, не думай, что мне важно, чтобы ты пришла сейчас, ночью… Но я должен знать, я потребую от тебя кончить всё сразу: теперь наша жизнь связана маленьким человеком. Мы не собаки. Я хочу, чтобы ты, Калерия, окончательно порвала с мужем, чтобы ты сказала ему, что ребенок, которого муж считает вашим, – не ваш, а наш, чтобы ты, Калерия, оставила всякие похождения и была моей женой, женой и матерью нашего ребенка. Я не могу мириться с мыслью, что ты, мать нашего ребенка, будешь принадлежать еще кому-то… Всё, или ничего!..
– Нет, не придет… Ух, как жарко!.. Как странно бьют часы в коридоре… Словно я опять в тюрьме и слушаю в форточку, как бьют часы на городской башне… Три часа… Не придет…
– Кто там?
– Тсс!
Неслышно ступает по полу, держит палец у губ и крадется, как белая мохнатая сибирская кошка. В легком, похожем на морскую пену, кружевном матинэ, в ярко-красном шелковом шафре на непослушных черных волнах волос, как ты прекрасна в сумерках перед рассветом!
– Ты похожа на волшебницу Альцину…
– Тсс! Вот так…
Она заперла замок двери, сбросила шарф и прошептала:
– Шла к маленькому Гене и зашла к большему… На полчаса, не больше.
– А я ждал, ждал, ждал…
– И теперь хочешь спать?
– Нет! Сядь сюда, ближе! Я хочу посмотреть в твои глаза и спросить тебя…
Скользнула и стала ласкаться, как прежде.
– Погоди!.. Скажи мне: можешь ты быть моей, только моей? Уйти от мужа и…
– Почему я знаю…
– Пусти руки! Сперва ответь… Я хочу, чтобы не было никакой лжи…
– Сейчас я тебя люблю. Очень. Довольно?
– Нет. Я хочу, чтобы мы были только втроем и всегда вместе: ты, я и наш ребенок… Ах, какая ты!.. Зачем ты так смотришь в мои глаза?.. От тебя пахнет шампанским, Калерия…
– Генек… Милый!.. Помнишь грозу в избушке на курьих ножках?.. Помнишь траву, от которой пахло земляникой?..
– Калерия… Какая ты… ты как пьяная!.. У тебя пьяные глаза…
– Да… Они опьянели от воспоминаний..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заря пламенеет на небе. Потухли звезды. В раскрытое окно тянет прохладный и мокрый соленый ветерок. Слышно, как вздыхает море, взметывая зеленую волну к розовым огням восходящего солнца…
Я прилег на подоконник, опустил голову на руки и дремлю под шум морского прибоя. А за стеной слышится голос Калерии, разговаривающей с проснувшимся султаном…
– Султан, милый маленький мой султан! Ты – мой… Ты этого не знаешь, что ты наш… Когда-нибудь ты… Завтра всё решится… Смотри, султан, когда я осенью буду сидеть в тюрьме, приходи чаще ко мне на свидание! С твоей мамой, вместе с мамой! А то я умру с тоски… Завтра я заставлю тебя, Калерия, сделать решительный шаг… Всё или ничего!.. Я не откажусь от дуэли, если это понадобится. Пан или пропал.
Уже поют в садах птицы… Уже просыпаются на берегу люди…