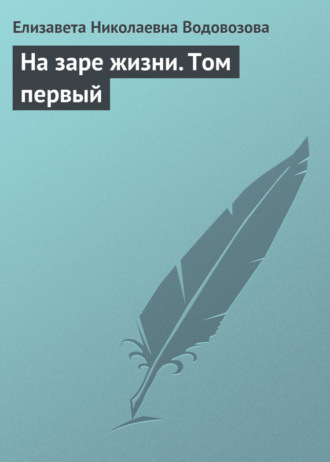
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том первый
Нюта совершенно иначе относилась к этой перемене: когда она в отсутствие матушки забегала ко мне за чем-нибудь, она торопливо спрашивала, о чем он со мной только что говорил, и при этом прибавляла: «А ты все-таки старайся каждый раз улизнуть от него! Ни за что не поверю, что он спроста к тебе подъезжает!» Но я недоумевала, зачем мне бегать от него: окружающие, как и я сама, считали меня взрослою девочкой, и мне казалось просто смешным выказывать ему страх, избегать его. Свои соображения и предостережения сестры я представила на суд матушки, и она вполне разделяла мой взгляд. «Феофан Павлович, – говорила она, – желает показать, что он не разговаривает со мною, потому что мы с ним крупно поговорили… У нас с ним свои счеты (меня всегда страшно смешило, когда матушка разговаривала со мной о чем-нибудь так, точно я ничего не видела, не слышала и не понимала, несмотря на то что о всех домашних новостях сама же говорила при мне), а ты с ним всегда была вежлива, вот он и хорош с тобою». Мне это показалось вполне убедительным, и я даже сама стала бегать к нему, когда меня одолевала скука. Но я не переставала удивляться одному: как только кто-нибудь проходил мимо наших окон, около которых мы с ним сиживали, он всегда спрашивал меня, как зовут проходивших, из какой они деревни, наши ли это крепостные или чужие, а затем тотчас же выходил из дому и становился на такое место, с которого он мог легко проследить, куда они направлялись. Заставая меня одиноко сидящею, он интересовался узнать, почему я не с Дуняшею; я отвечала ему, что я уже большая и вовсе не желаю, чтобы со мною постоянно торчала горничная, кроме тех случаев, когда она должна учить меня шить. «Да и маменька, – говорила я, – теперь уже не позволяет отрывать ее, когда она гладит или стирает белье в кухне». Он внимательно допрашивал, в какие дни это бывает, и, видимо, проверял себя, твердо ли их запомнил: «А где же Дуняша? Ее что-то не видно в девичьей! Ах да… ведь сегодня понедельник, – значит, она стирает в кухне! Правда?» Причину подобных справок и маневров я поняла позже, а в ту пору я не придавала им никакого значения. Тем не менее я очень скоро убедилась в том, что более всех его интересует Филька. После того как его, пьяного, вытащили из кладовой, он долго и сильно хворал: одни объясняли это тем, что он с водкой проглотил осколок стекла от разбитой посуды, другие утверждали, что это приключилось с ним от страха перед «барыней». Хотя матушка и пригрозила забрить ему лоб, но пока не выполняла своей угрозы: когда он поправился, наступило лето, и ей жалко было лишиться работника в горячую летнюю пору.
Когда крестьяне возвращались летом с полевых работ обедать и отдыхать, Феофан Павлович стал посылать меня посмотреть, что делает Филька; при этом он предупреждал, чтобы я о парне ни у кого не расспрашивала, а старалась бы узнавать все сама. Хотя муж моей сестры и сдал свое имение в аренду, но продолжал часто уходить туда, вероятно с целью возвратиться домой внезапно и узнать, что поделывали в его отсутствие Филька и Нюта. Если я была одна в то время, когда он приходил домой, он сейчас же спрашивал меня о них. Мои донесения были крайне однообразны: Нюта безвыходно сидела в своей комнате или на минуту забегала ко мне, а Филька после обеда спал на сеновале. Но когда я однажды кончила свой обычный доклад, он запальчиво закричал: «Как ты смеешь лгать?», дернул меня за руку и толкнул к окну, выходившему во двор, где я увидала Фильку, запрягавшего лошадь. В то же самое время Нюта выходила с кухаркой из нежилой избы (где хранился разный хлам), крыльцо которой расположено было в том же дворе. Я оправдывалась тем, что сестра и Филька, вероятно, только что вошли во двор, что не могу же я вечно бегать на сеновал смотреть за Филькой.
Как только я произнесла эти слова, он как клещами впился в мои плечи, повернул меня к себе и, остановив на минуту свои бегающие зрачки, стал смотреть на меня в упор таким взбешенным зверем, что меня начало всю трясти, а он с расстановкой и повелительно, точно стараясь внедрить в мой мозг каждое сказанное им слово, излагал программу, которой я должна была держаться в его отсутствие. По его словам, я обязана была в таких случаях бросать все свои забавы и зорко наблюдать «за ними» (я прекрасно понимала, кого он подразумевал под этим), должна знать, кто приходил без него к моей сестре, что они говорили между собою, куда она отлучалась без него, – одним словом, делать ему формальные доносы. За утайку чего бы то ни было, за ложь, а также и за то, если я передам сказанное им кому бы то ни было, он грозил пороть меня до крови.
Я была ошеломлена его выходкой, грубым дерганьем меня и толчками и еще стояла там, где он меня оставил, когда он вышел и тотчас же возвратился в мою комнату со свертком. «Ешь гостинцы, но помни, что я тебе приказал», – добавил он, бросив их на стол. Меня охватила такая злоба, что отшибло всякий страх, и, схватив пакет, я бросила его ему в лицо с криком: «Проклятый! Окаянный! Порченый!..» – одним словом, я выкрикивала ему прямо в лицо все прозвища, которые ему давали старшие. Пряники и леденцы рассыпались по полу, а он, схватив меня за плечи, со всей силы грохнул на пол и стал колотить по чем попало. Я кричала сколько хватало сил. Тогда он на минуту остановился и, придерживая меня одною рукой, другою начал вынимать свой носовой платок. Не знаю, что он хотел сделать с ним: меня ли бить, сделав из него жгут, как это было в моде в то время, или заткнуть им мне рот, чтобы я не кричала, как он часто к этому прибегал впоследствии… Но в эту минуту открылась дверь, Нюта бросилась на помощь ко мне и, загораживая меня от него, кричала ему, что сюда сейчас придут люди, донесут обо всем матушке, которая немедленно прогонит его. Он злобно оттолкнул сестру, дал мне несколько пинков ногою и быстро вышел из комнаты, а за ним и Нюта. Возмущенная до глубины души, я с нетерпением ожидала возвращения матушки, чтобы, рассказав ей обо всем, что я вынесла и выношу, осыпать ее градом упреков за то, что мне так скверно живется дома. Мое волнение и злоба к Савельеву еще не улеглись, когда вошла сестра. Обнажив перед ней мои руки и ноги, я указывала ей на ссадины и синяки, оставленные каблуками сапог ее мужа. Сестра бросилась обнимать меня, и ее слезы падали на мои руки и лицо. Вдруг она разразилась громкими проклятиями на свою тяжкую, горе-горькую долю и на своего «хищного зверя», осыпая в то же время страшными упреками матушку, которая против воли выдала ее замуж за изверга, за негодяя, какого еще свет не создавал. Эти проклятия и упреки в устах Нюты, прославляемой у нас за кротость, эта откровенность со мною, более чем с кем бы то ни было в доме, делали ее для меня впервые близкой и родной, проливали в мою душу бальзам и несколько успокаивали меня. Мой план все рассказать матушке Нюта нашла не только бесполезным, но крайне вредным для всех нас и прежде всего для меня самой. Я этого не понимала уже потому, что покойная няня очень сердилась на меня за то, что я не довела до сведения матушки всего того, что со мною однажды случилось в ее отсутствие. Но сестра убедила меня в том, что инцидент с ее мужем совсем другое дело: за то, что со мной проделали тогда крепостные, матушка имела право строго наказать их. Стращали же они меня, по словам сестры, только потому, что я была тогда еще маленькой девочкой и не могла понять всей нелепости их угроз. Но ее муж не крепостной, а такой же дворянин, как и матушка, которая может его только выгнать из своего дома. Но тут я напомнила сестре, что если матушка рассердится на него, то прикажет людям связать его и бросить в навозную телегу, как я это много раз слышала от крестьян, и что вот тогда-то я буду кидать в него палками и камнями, пока не проломлю ему голову.
Но Нюта отняла у меня всякую надежду на месть: она уверила меня, что муж ее уйдет при первом же приказании матушки, но непременно возьмет ее с собою в свой дом, где он будет тешиться над нею уже сколько душе его угодно, меня же он будет поджидать из-за каждого угла, чтобы здорово исколотить, да не постеснится при удобном случае и матушку пырнуть ножом. Сестра вполне убедила меня в том, что мне ничего не остается делать, как никогда ни при ком не проронить ни одного слова о его побоях, но тем не менее при всех говорить открыто, что я его ненавижу и боюсь, убегать и прятаться от него где попало. Она уверяла меня, что это легко будет удаваться мне, так как теперь он не только не может бегать, но и быстро ходить; к тому же он очень рассеян, плохо знает наши закоулки, и ему трудно будет находить меня.
Желание моей сестры заставить меня молчать о побоях, а впоследствии и об истязаниях, совершаемых надо мной ее супругом, было вполне понятно. Убедившись, что она до гробовой доски каторжною цепью скована с ненавистным для нее человеком, она, конечно, желала коротать свою каторгу, по крайней мере, в доме родной матери, а не у супруга, где она уже окончательно была бы предоставлена его полному произволу и должна была бы жить среди совершенно чужих для нее людей. Она правильно рассчитала, что если в доме кто-нибудь узнает о проделках со мною Савельева, то наверно донесет об этом матушке, а та уже сочтет своею священною обязанностью удалить его, несмотря и на то, что он возьмет с собою свою жену: погубив одну дочь, она не решится погубить и другую.
Для того чтобы я реже подвергалась побоям Савельева, Нюта то и дело забегала ко мне, шепталась со мною, советовала, куда и когда убежать от него, предупреждала, как удобнее улизнуть из дому так, чтобы он этого не заметил. На вопросы Савельева, обращенные ко мне, что поделывают Филька и жена во время его отсутствия, она заклинала меня говорить только правду. В программе, которую она начертила мне для моего поведения, она, конечно, не предвидела многого и не была настолько нравственно и умственно развитою, чтобы понять, в какое опасное положение она ставила меня, заставляя скрывать от матери все то, что со мною проделывает ее супруг. Без ее вмешательства и поддержки я не могла бы долго переносить того ужаса, тех истязаний и пыток, которые я начала испытывать от Савельева, и, конечно, так или иначе все передала бы матушке. Не понимала сестра и того, что вечный страх, который я постоянно испытывала, мог гибельно отзываться на моем физическом и нравственном здоровье. Будучи сама крайне несчастною, она не могла ни наблюдать, ни раздумывать над тем, что я в какие-нибудь полгода из здоровой, краснощекой девочки превратилась в бледного, нервного ребенка, то и дело раздражавшегося, плакавшего и пуще прежнего бредившего по ночам.
Однако после первого столкновения с Савельевым злобу на него в моей душе как-то вытеснила новая перспектива пускать в ход решительно все, что мне было доступно, – хитрости, извороты, быстроту ног, – лишь бы не оставаться с ним наедине. С утра до ночи думала я об этом и сочиняла различные планы. Первые мои попытки в этом направлении увенчались блестящим успехом. Утром, до обеда, Савельев никогда не выходил из своей комнаты, может быть из опасения впутаться со мною в «историю», так как ко мне в это время мог прийти священник, дни уроков которого не были точно назначены. Но как только матушка после обеденного отдыха уходила из дому, я начинала дрожать за свою безопасность и бежала куда глаза глядят. Если стояла дурная погода, я уходила к кому-нибудь из ближайших соседей. Но когда я однажды у Макрины играла в карты с ее дочерью, та показала мне на приближающегося по дороге Савельева. Я выбежала на их двор, где Терешка рубил дрова. В это время как все наши крестьяне, так и соседи знали о моем страхе перед Савельевым, и решительно все – и свои и чужие – старались приходить мне на помощь. Когда я подбежала к Терешке с просьбою спрятать меня, он немедленно втолкнул меня в сарай. Скоро появился Савельев и начал расспрашивать его, не видал ли он меня; он и его «барыни» отвечали, что я только что убежала от них. Нередко Савельев издали замечал меня у нашего скотного двора или недалеко от какой-нибудь избы нашего крепостного и кричал, чтобы я остановилась. Но я, чтобы замести след, разными обходами вбегала в избу, и баба или крестьянин, часто без. слов понимая, в чем дело, хватали меня на руки, подымали на полати, набрасывали на меня первый попавшийся зипун и, когда Савельев входил, говорили ему, что они видели, как я, заметив его приближение, бросилась к лесу или в поле. Иногда он меня уже почти настигал, а я чуть не перед его носом проваливалась в канаву или колдобину и на четвереньках подползала к какому-нибудь кустарнику или под мостик. В дни удачи я входила торжествующая в столовую, где матушка с молодыми уже садилась за ужин, и при этом злорадно посматривала на Савельева. Лицо его тогда искажалось от гнева, а зрачки еще беспокойнее бегали во все стороны.
Матушка скоро узнала о том, что я избегаю Савельева, боюсь его, прячусь от него; мне пришлось ей объяснить перемену моих отношений к нему тем, что он сам изменился ко мне и с такою злобою смотрит на меня, точно хочет ударить. Матушка успокаивала меня, говоря, что если он посмеет тронуть меня пальцем, она прикажет крестьянам его выдрать, но я понимала теперь всю несостоятельность этих успокоений. Однажды он был так обозлен на меня за мой торжествующий вид и за то, что его поиски не привели ни к чему, что, когда я пришла к ужину, он уже вскочил с своего места и двинулся ко мне, но на этот раз матушка заметила его искаженное злобою лицо и закричала на него вовремя. Он сейчас же опомнился, уселся на свое место и только прохрипел: «Скверная девчонка!» После его ухода Нюта поторопилась объяснить матушке его выходку тем, что он до невероятности ревнует ее к Фильке, а потому особенно раздражается на всех, и умоляла удалить этого парня.
Матушка наконец решила поступиться своим интересом, лишь бы облегчить положение дочери. Она отправила Фильку в город к купцу (державшему трактир), который выплачивал за него какое-то ничтожное вознаграждение, а затем решено было отвести его в воинское присутствие, чтобы получить за него рекрутскую квитанцию.
Исчезновение Фильки с нашего горизонта не надолго успокоило Савельева: в отсутствие матушки до меня то и дело доносились взволнованные голоса наших молодых. Теперь не только Савельев кричал на жену, но я нередко слышала резкие окрики и грубую брань, которыми сестра осыпала своего супруга, между тем как еще недавно она не смела и пикнуть перед ним. Вероятно, ее терпению приходил конец, а может быть, она нашла, что резкое и грубое отношение к нему легче его вразумляет. Как бы то ни было, но ее характер стал быстро меняться: сестра, прежде очень кроткая, теперь и матери все чаще позволяла себе грубо выкрикивать колкости. Пораженная этой переменой, матушка пробовала ее обрывать, бранить, кричать на нее, но ничто не действовало, и, вероятно чувствуя свою вину перед дочерью, она в конце концов старалась пропускать мимо ушей ее дерзости, а то и разражалась слезами.
К Савельеву пришел однажды его собственный крепостной с известием, что его мать умирает, и он немедленно отправился с ним. Дома у нас никого не осталось, кроме меня, и сестры, которая вдруг пришла в какую-то ажитацию: бегала то на скотный двор, то в деревню, то к ней приходили бабы, и они о чем-то шептались между собой. Это меня сильно заинтриговало, особенно тем, что когда я вошла в девичью, то застала Дуняшу с черным петухом в руках; тут же сидела незнакомая мне старуха с узелком и черным котом. Я отправилась к сестре и стала пытать ее; она в это время суетливо выдвигала ящики комода, вынимала белье и вещи своего мужа и откладывала их в сторону. Запретив говорить матушке обо всем, что я сейчас услышу и увижу (про мужа она ничего не упоминала), она сказала мне: «Все говорят, что Феофан Павлович „порченый“, – вот я и позвала ворожею, которая сумеет снять с него порчу». Когда она собрала вещи мужа, мы отправились с нею к «шептухе». Дуняша дала мне держать петуха, а сама побежала в кухню и возвратилась со сковородой, на которой пылали горящие уголья. Ворожея поставила на лежанку сковороду и, бормоча какие-то заклинания, насыпала на уголья порошки и сушеные травы, а затем, положив на руки вещи Савельева, держала их над дымом и смрадом, распространяемым сушеною травою и порошками, потрескивавшими на угольях. После этого она схватила петуха, поднесла его задом к самой жаровне, отрезала кончик пера от хвоста и бросила его на уголья, а его самого вышвырнула из окна тоже задом вперед. С котом был проделан тот же маневр, но в несколько иной форме: кончик его пушистого хвоста ворожея подожгла на угольях и, несмотря на то что он мяукал, царапался и вырывался, крепко держала его в руках до тех пор, пока не отрезала ему запаленный кончик и не передала этот пушок сестре со словами: «По трошке всыпай в евойную еду»; затем точно так же, как и петуха, выбросила кота в окно задом вперед. Все свои манипуляции ворожея сопровождала бормотаньем каких-то неведомых для меня слов, которые она произносила то в рифмах, то вразрядку. Подобную ворожбу я видала не раз, но из всех, нашептываний я часто потом повторяла про себя только заклинание (когда Феофан Павлович приближался ко мне), которое ворожея несколько раз произносила, выбрасывая петуха: «Ворогу – присуха, глазу лихому – кривуха, бабью кручину по ветру развей, порчу на шесток занеси и в песке затопчи».
– Вон! Убирайтесь вон отсюда! – закричал Савельев, открывая дверь и вытягивая меня из девичьей.
На этот раз, однако, я не очень трепетала: пока он тянул меня по комнатам, я выкрикивала фразы в таком роде: «Вы теперь не порченый!.. Ворожея сняла с вас порчу!» Он не дал мне договорить, со всей силы дернул меня за руку, которую крепко держал, и начал громко звать Нюту. Только что она успела отворить дверь, как он, не выпуская меня, подскочил к ней и поднял руку, чтобы ударить ее, но так как при своем огромном росте ему пришлось нагнуться к ней, она закатила ему здоровенную оплеуху и бросилась бежать. От неожиданного удара он точно остолбенел, стоял с минуту не двигаясь и тер себе щеку, но затем быстро принялся за меня, вынул из кармана носовой платок, крепко завязал мне рот и вытащил ремень и длинную веревку. Видно было, что он уже заранее заготовил для меня орудия пытки. Он отодвинул от стены длинный низкий стол (за которым в детстве занимались все мои братья и сестры), пригнул меня к нему, сорвал одежду, прикрепил к столу и начал жарить ремнем. Я не могла кричать, а только мычала, он тоже силился что-то сказать, но вместо слов с его уст срывались какие-то дикие радостные звуки. Вбежав к нам, Нюта начала оттягивать его, дергала сзади, наконец забежала с другой стороны и прикрыла меня собою. Вместо меня он стегал теперь ее по голове и рукам. Но ей скоро удалось как-то вырваться и она изо всей силы стала стучать в окно и кричать; только тогда он бросил меня и вышел из комнаты.
С того времени как я так страдала от сумасшедшего Савельева, прошло много десятков лет, а между тем до сих пор при воспоминании об этом мое сердце обливается кровью, руки дрожат и слезы так застилают глаза, что я минутами совсем не могу писать!.. Боже, сколько горечи и отравы влил он в мое существование, сколько ядовитых семян бросил он в мою детскую душу, какое тлетворное влияние оказывал он на развитие моих душевных сил и способностей!
Когда наши отношения с ним ясно определились, я стала пылать к нему неутолимою ненавистью: мой ум, все мои желания и помышления, вся моя сообразительность были исключительно направлены на то, чтобы куда-нибудь улизнуть так, чтобы он меня не заметил, позлить его, обмануть, причинить ему вред, как можно больше вреда такого жестокого, чтобы он, как мечтала я тогда, «извивался, как змей, корчился, как угорь на горячей сковороде, кричал и стонал бы от невыносимой боли». Ужаснее всего было то, что лишь только мои человеконенавистнические чувства к нему отвлекались чем-нибудь иным, тотчас же скрип его сапогов, шум отворяемой им двери или его фигура, мелькавшая издали, – одним словом, все каждую минуту наводило меня на прежние злые мысли. Голова моя была полна планами и соображениями, как бы привести в исполнение мои злостные замыслы. Заметив, что он часто заходил на сеновал (вероятно, для того, чтобы изловить меня, а может быть, и с целью разыскать воображаемых любовников своей жены), я наносила туда в один из углов камней и деревянных обрубков.
Савельев совсем не понимал обычаев и условий деревенской жизни, а я была прекрасно знакома с ними и пользовалась этим. При его приближении я засяду, бывало, в угол сеновала, и как только он входит, – в ту же минуту вскарабкиваюсь под крышу, но так, что меня не видно, а слышен только шорох, производимый мною. Бревна в углах наших построек для сена клали друг на друга так, чтобы оставались концы, которые не спиливались изнутри для того, чтобы взбираться по ним как по лестнице. Савельев входит и начинает бить палкой по сену, кричит, чтобы выходил тот, кто прячется, а я не подаю голоса. Тогда он выходит из сеновала и снаружи обходит всю постройку кругом. Нужно заметить, что крыша сеновала была укреплена только на углах, и от нее до бревенчатых стен оставалось значительное пустое пространство, чтобы сквозняк мог свободно просушивать сено. Взобравшись на самый верх, я хотя и утопала в сене, но все же могла пробираться, придерживаясь за стены, внутри, и притом с тою разницею, что Савельев, обходя постройку снаружи, не видел меня, а я могла наблюдать за всеми его движениями; при этом я бросала ему на голову то камень, то обрубок. Но это не удовлетворяло меня потому, что я мало наносила ему вреда, – камень обыкновенно лишь задевал его и вызывал злость и недоумение, – он не мог понять, кто швыряет в него. Тогда я надумала другое: за нашим двором была яма (колдобина, как у нас ее называли), куда скидывали всевозможные отбросы и выливали помои. Эту яму не всегда можно было обойти, чтобы по-, пасть в поле, а потому через нее переброшена была доска. Когда Савельев уходил в поле, я знала, что он вернется тою же дорогою, а потому заменяла крепкую доску гнилою, надломленною, а чтобы скрыть свое вероломство, набрасывала на нее всякую дрянь и грязь. Когда под Савельевым подламывалась доска и он вылезал из колдобины весь выпачканный грязью, я торжествовала и злорадствовала, а когда мои козни не удавались, я приходила в отчаяние и плакала злыми-злыми слезами.
Если бы злоба, питавшая мое сердце, не знала отдыха, если бы моему уродливому, ненормальному образу жизни не было положено конца, присутствие Савельева в нашем доме совершенно развратило бы меня и, может быть, даже толкнуло на какое-нибудь преступление или на самоубийство. Но иногда проходил месяц и два, а он все не мог изловить меня. К тому же при нашей взаимной ненависти друг к другу и шансы на успех для него – напасть на меня, а для меня – улизнуть от него становились все более несоразмерными. Он хилел и ослабевал физически, я становилась все хитрее, все изобретательнее. Но в полной безопасности я чувствовала себя лишь тогда, когда жестокий кашель и кровохаркание, общее недомогание и упадок сил приковывали его к постели; не боялась я его и тогда, когда он после болезни начинал оживать, бродил по комнате, еле передвигая ноги, или сидел в кресле гостиной с опущенною головой. В такие моменты он не обращал на меня ни малейшего внимания, даже тогда, когда я проходила близко от него. Но вот он несколько поправляется, уже расхаживает своею обычною нервною походкою, то и дело поворачивает во все стороны свою беспокойную голову, а затем начинает выбегать на дорогу, становится на свой обычный обсервационный[33] пункт за изгородью палисадника и вытягивает свою длинную, исхудалую шею, чтобы посмотреть, куда направляются проходящие крестьяне, – это уже служило мне сигналом быть настороже. Обыкновенно после первого же такого проявления воскресения Савельева из мертвых ко мне подбегала сестра и испуганным шепотом бросала одно слово: «Берегись!»
И с этой минуты начинались мои скитания: я исчезала из дому, бегая к соседям, а от них – в ближайшие избы крестьян или на скотный двор, пряталась от него по сеновалам и сараям, залезала в кустарники, канавы и ямы под наваленной хворостиной.
Нередко, однако, я упускала удобный момент спрятаться от него: мне казалось, что он не настолько окреп и запасся силами, чтобы напасть на меня и истязать меня, – не принимала надлежащих мер и попадалась ему в руки. Возможно и то, что иногда его вялая походка, его индифферентные взгляды на проходящих мимо нашего дома и на приходивших к нам служили для него маскою, чтобы обмануть меня и жену. Попадалась я в его руки и потому, что временами меня вдруг охватывало какое-то непреодолимое отвращение вести цыганский образ жизни, бегать по избам, по чужим людям и прятаться где попало; в таких случаях я, несмотря на предостережение сестры, несмотря на то что для меня самой были очевидны признаки уже пробуждавшихся в нем зверских вожделений, вдруг усаживалась за свой столик, принималась за чтение или куклу, успокаивая себя тем, что он еще плох.
Несколько позже я не отдавалась в его руки без борьбы. Я поняла, что когда он спрашивает меня о том, что делала Нюта в его отсутствие и кто приходил к нам в это время, ему было все равно, что бы я ему ни ответила, – дело кончалось одним и тем же: он осыпал меня ударами, привязывал к столу и сек до крови ремнем, который он теперь уже всегда носил в своем кармане. Вот потому-то, когда он заставал меня одну в то время, когда в доме никого не было, кроме нас троих, я вскакивала со своего места, как только он отворял дверь, бросала в него книгами, склянками – всем, что было под руками, – бежала к двери, а когда он схватывал меня, я плевала на него, кусала его руки, кричала, пока он не завязывал мне рот.
Он не мог достаточно насладиться мучительством, которое он причинял мне; я думаю так потому, что он никогда не кончал экзекуции по собственной инициативе: хлопнувшая дверь, внезапный шум, стук или грохот телеги, проехавшей по двору (где бы Савельев ни застал меня, он всегда тащил меня на расправу в мою детскую, окно которой выходило во двор), а еще чаще крик Нюты: «Идут!» – вот что только заставляло его прекратить истязание надо мной и убраться восвояси. Случалось и так, что Нюта вбегала в комнату не только с обычным криком, но и с палкою, которою со всей силы ударяла его сзади; тогда он немедленно бросался за нею, а я с неимоверными усилиями уже самостоятельно распутывала веревки и сходила с своего эшафота, с своей голгофы.
Да, для девочки моих лет это была настоящая Голгофа. Кровавые рубцы на теле не заживали иногда очень долго и заставляли меня сильно страдать от боли. Так как они нередко оказывались кровавыми и весьма заметными в субботу, то есть в день, определенный для бани, Нюта, чтобы скрыть следы преступлений своего мужа, объявляла матушке, что Дуняша не умеет промывать моих густых и вьющихся волос, а потому она сама будет мыть меня в бане. Этот новый демократический обычай мыться в бане без помощи прислуги Нюта ввела для себя очень скоро после своего замужества. Когда она в первый раз отправилась туда со мною без горничной, я поняла, почему ей это было необходимо: все тело ее тоже было в синяках, ссадинах и кровоподтеках. На мой вопрос, неужели и ее, как и меня, он бьет ремнем, она ответила, что прежде он бил ее чем попало, а в последнее время, когда она сама при его нападениях то замахнется на него, то треснет его палкой, то ударит его по щеке, он стал с нею осторожнее; зато ночью, когда она спит, он зачастую набрасывается на нее и начинает ее щипать. Когда она вскакивает с постели и делает вид, что бежит к матушке, угрожая ему рассказать ей об его побоях и поднять на ноги людей, – он не только прекращает истязание, но становится перед нею на колени и просит у нее прощения, но это не мешает ему нередко на другой же день проделывать с нею то же самое. Когда я услыхала это, у меня явилась к сестре страшная жалость, и я начала утешать ее тем, что он скоро умрет. Но она горько возразила: «Жди!.. Как же! Нет, милая моя, такое адское исчадие переживет всех! Раньше он меня с тобою вгонит в могилу, а потом уже сам околеет!»
Слова сестры произвели на меня ошеломляющее впечатление и усилили мою душевную тревогу: мой страх перед чем-то еще более ужасным, чем то, что я уже испытывала, овладел мною всецело, – и я не находила себе места. Крайне тяжкое душевное состояние было результатом неосторожных слов сестры. Отсутствие самых элементарных понятий о том, что можно сказать при ребенке и чего нельзя, приносило детям много вреда. И это характерное свойство педагогов того времени особенно отражалось на мне. Прежде я отдыхала душой и телом хотя в периоды болезни Савельева, а если она продолжалась долго, мой страх перед ним исчезал, и я спокойно играла в куклы или читала, – теперь и в такое сравнительно покойное для меня время мною овладела какая-то щемящая тоска и страх быть вконец замученною Савельевым.
Я серьезно спрашивала себя: «Если я умру от руки Савельева, буду ли я причислена к лику святых?» После долгих размышлений на эту тему я пришла к заключению, что и при погибели мученическою смертью, чтобы быть причисленною к лику святых, необходимо молиться богу, поститься и ходить в церковь, – и я стала усердно молиться. Религиозное настроение усиливалось еще тем, что после слов сестры я уже окончательно потеряла надежду на смерть Савельева. Меня окутал какой-то мрак, невыразимая тяжесть давила мою грудь, я видела одни только ужасы и в настоящем, и в будущем: двух близких моему сердцу существ, которых я так горячо любила, которых считала своими ангелами-хранителями, не было со мною: моя дорогая няня была в могиле, моя любимая сестра Саша не приезжала домой даже на лето.
Вспоминая наставления покойной няни, я пришла к убеждению, что с моей стороны было большим грехом обращаться к богу только в те минуты, когда мне было что-нибудь от него нужно, и ждать немедленного исполнения моих желаний. Скоро дневная молитва перестала удовлетворять меня, и я мало-помалу приучила себя просыпаться для нее по ночам. Эта ночная молитва в совершенной темноте при абсолютной тишине, когда, кроме меня, все в доме спали, в двух шагах от матери, погруженной в глубокий сон, доставляла мне какое-то еще неведомое наслаждение. Порой я доходила до такого молитвенного экстаза, что не слыхала, как пробуждалась матушка, звала меня по нескольку раз, спрашивая, почему я плачу, что я шепчу, почему молюсь в такое время. Я всегда отделывалась одним и тем же ответом, варьируемым на разные лады: «Скучно… Тоска!»







