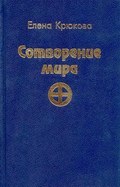Елена Крюкова
Изгнание из рая
Митя застегивал старые рабочие потертые джинсы. Черные джинсы, теплые, зимние. Отличные штаны, и в пир и в мир. Но позорно старые. Вытертые на сгибах. Если они украдут картинку благополучно и впрямь забогатеют, он первым делом купит на барахолке приличные джинсы. Эти-то совсем износились. А потом купит Иезавель бусы из искусственного розового жемчуга в ювелирном на Новом Арбате. Они висят там на черном бархате. Как розовые звезды. Боже, о чем он думает. Он напряг мышцы ног, огладил себя по коленям, зажмурился, затряс головой, потер руками лицо.
– Все о’кей, старик. Идем. У меня сердце бьется, как у космонавта. Можешь не сомневаться. А ты… – Отчего-то Мите захотелось ЭТО у него спросить, и именно теперь. – Ты на дело часто ходил?.. Ты… откуда все так знаешь, что да как?.. Или ты тоже… первый раз?..
Варежка, скрипя негнущейся «чертовой кожей» черной куртки, оглянулся на Митю через плечо так, будто бы он был опытный рыбак, а Митя – маленькая дохлая уклейка, попавшая случайно в сети с жирными отборными сазанами.
– Обижаешь, начальник, – кинул он весело. – Я уже отмотал срок. На Северном Урале, в Ивделе. Солдатики с собачками нас стерегли. Хорошенькие такие собачки были, откормленные. Собачек лучше кормили, чем людей. Я одну собачку там полюбил. Ну… как человека. Она мне всем была, и подругой, и другом, и санитаром, когда болел я, она мне свои косточки притаскивала, чтобы я погрыз, и какую-то травку в зубах приносила, из тайги. Лечебную, значит. Нет, друган, козлом я не стал, не ссучился. Меня так просто на шило не возьмешь. Паханы меня уважали. Но та собачка… да, собачка!..
Глаза Варежки увлажнились. Любить зверя как человека! Идти на человека, как на зверя. Те два хозяина картины были сейчас для Варежки – два зверя, и он должен был на них поохотиться, взять их, связать им лапы, как волку. Волка в Сибири привязывают, пойманного, к бревну и так несут на заимку, и он глядит из-под бревна красными горящими глазами, и во взгляде этом – все: и ужас, и мольба, и ненависть, и слезы. Только прощенья в этом взгляде нет. Нет прощенья.
Они с Варежкой спустились в старой коробке запаршивевшего лифта вниз, потряхиваясь, как на лебедке, нюхая запахи кошачьей и человечьей мочи, читая бессмысленные похабные надписи, выцарапанные ножом на стенке. Улица обняла их могучими снежными лапами. Снегопад. Хоть завтра и воскресенье, а тебе придется, Митенька, потрудиться на свежем воздухе, ибо в понедельник ты не разгребешь завалы. Есть один выход – соблазнить Королеву Шантеклэра и отвлечь ее от приема участка, но ведь она ни за какие деньги не соблазнится тобой.
– Динь-дилинь!. Динь-дилинь!..
Ого, у них в хатенке колокольчик. Как нежно, изысканно. Если у него когда-нибудь будет такая квартира…
Митя не успел додумать. За дверью зашаркали тапочки. Пожилой человек шел к двери, охал, кряхтел на ходу. Зацокал замок, и тут стоявший за дверью спохватился – а как же это, не спросив!.. такое время нынче страшное, того и гляди, влезут жулики какие!.. – и бормотнул тихим, слабым тенорком:
– Кто это там?.. поздно уже…
Варежка кашлянул. Подмигнул Мите. Выдернул из кармана припасенные черные шерстяные чулки с прорезью, один протянул Мите, другой живо натянул на голову. Митя ахнул про себя, увидев вместо лица Варежки черную тупую болванку с двумя сумасшедшими глазами, белки блестели в прорези, как рыбы в проруби.
– Нацепляй, что стоишь, как солдат на вышке!.. – прошипел Варежка шепотом, сложил губы трубочкой, приблизил лицо к двери и пропел:
– Валерий Петрович, добрый вечер вам, это я, Илья, слесарь ваш!.. Я у вас недавно был вот, да… это… тут инструмент один оставил, затолкал его в доброе место… вы, небось, и не нашли?.. а мне завтра надо, я по участку на ремонты иду… Вы не бойтесь, я не пьяный!..
За дверью молчали. Хозяин все еще сомневался: открывать – не открывать. Время было не слишком позднее, но не так, чтобы ранее – десять вечера. Москвичи не ложатся спать в десять, даже «божьи одуванчики». Телевизор… чаи… звонки друзей, родни… книжки, душ, тары-бары… Варежка досадливо прищелкнул пальцами. В двери не было окошечка. Валерий Петрович не мог видеть их черных страшных голов, обтянутых чулками.
– Ох, Валерий Петрович, – Варежка сделал голосок совсем обреченный. – Все, пиши пропало. Начальник мне в понедельник врубит по первое число… я в воскресный день-то на ремонты за пятницу договорился… а в пятницу я приболел… с похмелки сердце прихватило… в общем, хана мне!..
Ну просто заплачет сейчас. Митя блестел глазами в прорези маски. Митя готов был сам пожалеть несчастненького Варежку – так правдоподобна была его отчаянная мольба.
Ключ снова заскрипел в замке.
– Ну хорошо… сейчас, сейчас… я уже в халате… а Валечка спать уже легла… она сегодня вымылась, ванну приняла… что ж это вы, Илья, припозднились так, пораньше бы… и какой инструмент?.. нету у нас никакого инструмента…
– Под ванну я его сунул, под ванну… далеко…
– Ну только если далеко… ах…
Дверь не успела открыться настежь, как Варежка изо всех сил нажал на нее плечом, отдавил, вставил ногу между дверью и притолокой, схватил за руку хозяина, попытавшегося накинуть осторожную цепочку – а вдруг это все-таки не Илья, а просто у какого-то проходимца голос похож?!.. – налетел на него, смял, прижал к стене, и Митя влетел в прихожую следом, и тоже схватил Валерия Петровича за руку, и вдвоем, в диких черных масках, они держали беднягу за руки, будто собирались распять. Седой грузный мужчина с жирненьким подбородком беспомощно дергался, пытаясь вырваться, пытаясь крикнуть. Варежка выхватил из кармана стеклянную ампулу, отломил стеклянную верхушку, направил распыляющуюся морозную струю прямо в лицо, в нос старику. Валерий Петрович задергался, стал сползать по стене. Сдавленно вскрикнул:
– Валечка!.. Ва…
– Не бойся, мы тебя не убьем, дедушка, – внезапно грубым голосом из-под маски вякнул Варежка, – никакой я не Илья, и забудь обо мне, как меня и не было. И Валечку твою мы не кокнем. Пусть живет. Знать, судьба вам умереть своей смертью, доходяги. А вот кое-чем мы у вас поживимся. – Говоря это, он связывал толстому старику руки за спиной, ноги в щиколотках крепкой медной проволокой. Митя чуть не закричал: осторожней, не так сильно стягивай, это же медь, она ему кожу перережет, – как вдруг Варежка обернулся, и Митя увидел, как зло, бешено сверкнули его глаза из шерстяной щели.
– Ты, фраер!.. – выцедил он, вставил старику в рот кляп и перевернул его лицом вниз. – Что валяешься без дела, как газета в дальняке!.. Иди туда, в дом, там же Валечка, черт ее закатай, в свежей постельке почивать собралась!.. Давай, обработай ее, а я сейчас подключусь!.. Ты что, слабак, с бабой не справишься?!..
Митю опять затрясло, как тогда, на судьбоносной пьянке. Водочки глоток сейчас не помешал бы. Медлить нельзя. Сейчас Валечка расслышит как следует возню в коридоре, поймет, в чем дело, вылетит на балкон, если есть балкон, откроет окно и поднимет хай, или рванет трубку, наберет ноль-два… или она уже ее рванула… уже набрала..
Он пробежал огромную гостиную с аккуратно застланным белой камчатной скатертью круглым столом, с горками перламутровой посуды, фарфоровых сервизов, со старинными этажерками времен Александра Третьего, на которых штабелями были сложены старые, в лоснящихся темных переплетах, с золотым тисненьем, драгоценные книги, и вбежал, откинув портьеру, в спальню. На кровати, под одеялом, лежала распаренная, вся розовая, с тюрбаном полотенца на голове, на мокрых волосах, дородная пожилая женщина, похорошевшая после купанья, после горячей воды, кремов, лосьонов и притираний. Ее руки лежали поверх одеяла, как у послушной девочки. Впору ей было бы сложить ручки и прочитать молитву на ночь. Она глянула на ворвавшегося в спальню Митю – не Митю, а черную болванку в дворницкой штормовке – остановившимися, вылезшими из орбит глазами.
– Господи!.. Господи, помоги!.. – только и смогла, успела сказать она.
Митя набросился на нее. Проволока была у него в нагрудном кармане, в штормовке, Варежка сам клал ее туда, он хорошо помнил это. Но проволоки там не оказалось. Розоволицая выкупанная Валечка начала с ним бороться, сопротивляться ему. Она не кричала. На ее искаженном лице не было написано ничего, кроме страха. Она не хотела умирать. Она хотела жить во что бы то ни стало. Проволока! Где проволока! Почему нет проволоки!
Ничего себе, какая сильная матрона. Митя и она вцепились друг в друга, возились на кровати. Это было похоже на постельную сцену. А мог бы ты переспать со старухой?.. Нет, никогда. Со старухой можно только дружить. Старый человек – кладезь мудрости. Совсем рядом с собой, со своим лицом, затянутым в черный чулок, Митя увидел широкое стареющее женское лицо, со всеми морщинками, ямками, порами, с родинкой, из которой росли три жалких волосика. Увидел глаза женщины. Широко расставленные, как две воткнутых в булку изюмины, глаза, и в них – одна боль, одно отчаянье – последнее в мире.
– Не дергайся, – кусая губы под колючей душной шерстью, пробормотал Митя, – это не страшно, это совсем не страшно…
Внезапно женщина под его руками ослабла, стала хватать воздух ртом, закинула голову, зашарила руками вокруг себя. Он понял – она обмочилась: запахло аммиаком, простыня под ладонью увлажнилась. Все тело Валечки расплылось по кровати, будто она была прежде костью и стала нежданно мягким теплым тестом, и оно текло и текло с кровати на пол, текло сквозь руки, сквозь пальцы, и его было уже не собрать.
Она не шевелилась. Кисти покрывала, висевшего на спинке кровати, трепал сквозняк – форточка была открыта. Митя отпрянул. Он ничего не понял. Он подумал – ей плохо, плохо…
– Ей плохо, Варежка! Ей плохо!
Он все кричал: ей плохо, ей плохо!.. – несясь из спальни в гостиную, из гостиной в прихожую, чуть не сшиб с ног Варежку, ухватил его за руки, пытался втолковать ему, как же плохо ей, и надо найти на кухне сердечные капли, и накапать в стаканчик, и дать ей, – и плелся за Варежкой снова в спальню, и повторял это «ей плохо» до тех пор, пока Варежка, присев около кровати, не поднял знающей жесткой рукой, как заправский врач, веко Валечки и не заглянул ей в закатившийся глаз.
– Зрачки не реагируют на свет, нудило, – важным тоном произнес он, сплюнул на пол. – Она уж холодеет. Пощупай. Крепко же ты помял бабенку тут без меня. Жмурик совсем не входил в мои планы. Крутой ты оказался гармонист. Совсем не чайник. Что делать будем?.. А ничего. Придется папашу мочить. Другого выхода нет. Ты хоть картиняку-то видел?.. Объект, с позволенья сказать?..
Митя стоял недвижно, глядел на Варежку. В голове у него стучали бубны, звенели, бесились. Звон и стук наполняли голову, разрывали ее надвое, раскалывали. Он обнял обтянутую черной колкой шерстью башку обеими руками, сжал, как недозрелую тыкву.
– Она… умерла?!.. – глупо, ненужно спросил он.
– Нет, она притворяется! – раздраженно крикнул Варежка и ткнул Митю кулаком в грудь. – Хватит зевать, будто ты налим, которому печень веслом отбили!.. Закрой хайло!.. Двигай в гостиную, снимай со стены картинку!..
– Какую?..
– Она там одна, дурило!.. Одна-единственная висит!.. Это, видно, все ихнее наследье старого режима!.. память какого-нито дедушки, бабушки какой…
Митя попятился из спальни. Впал спиной в гостиную. «Она умерла, она умерла», – повторяли его дрожащие губы сами по себе, а внутри него кричало: я не виноват, нет, я не виноват. Я не ушиб ее… я не зашиб ее, не задавил… я не сделал ей ничего плохого!.. Люстра в гостиной, с дешевыми прозрачными пластмассовыми пластинами, сработанными под хрусталь, бросала пятна света на круглый стол. Над столом, напротив посудной горки, висела… эта вот ерунда?.. Митя непонимающе смотрел на картину. Митя даже расстроился. Да нет, это, наверно, совсем не то, о чем говорил Варежка. Маленькое такое полотно, с виду невзрачное, тусклое, то ли это свет от люстры тусклый, дешевый, то ли он странно ослеп от близости смерти. Он подошел ближе. Еще ближе. Глаза его стали привыкать к письму, к манере художника. Так, формат пятьдесят на шестьдесят, не особо впечатляет. И фигурки маленькие такие, хоть в лупу рассматривай. Что тут изображено?.. Он уткнул нос в картину. Масло, да. Как все скрупулезно выписано. Мастер был любитель подробностей.
Вдалеке мерцали высокие деревья, усыпанные непонятными плодами, похожими на лимоны, на апельсины – они ярким золотом, медными шкурками светились в темноте. Деревья напоминали наряженные Рождественские елки. Вровень с верхушками деревьев стоял ангел. Его громадные крылья распахнулись за его спиной, заслоняя туманное, все в тревожно-летящих тучах, мрачное небо. В руке ангел держал меч, похожий на язык огня – так неистово горел он в угрюмом сумраке. И у ног ангела, маленькие, крохотные, как букашки, убегали от его воздетого, поднятого над их головами огненного меча две человеческие фигурки – мужчина и женщина, полуголые, в шкурах, чуть прикрывавших их нагие, трепещущие тела. Женщина в ужасе закрывала простоволосую голову ладонями. Мужчина, оглядываясь, пытался защитить ее телом, грудью, прикрывал ее поднятой беспомощно рукой. Они бежали. Они спасались. Они уносили ноги от гибели.
Митя осовело смотрел на полотно. Картина висела на стене в тяжелой резной раме, покрытой густым слоем сусальной позолоты. А, вот почему она казалась тусклой – вызывающе богатое золото багета лезло вперед, приглушало колорит живописи. Он бы еще долго так глядел, уставясь, на картину, как резкий и злой крик Варежки вывел его из оцепененья.
– Ты, Митька!.. слышь!.. долго будешь пялиться!.. сдирай со стенки, ховай под куртку – и деру… только из рамы, из рамы высади… на черта нам рама, в раме она под полу не влезет… антиквары лучше без рамы возьмут, им за раму не платить…
– Дурак ты, Варежка, – разлепил заледеневшие губы Митя, – живопись надо и смотреть, и показывать в раме… без багета работа – как без одежды…
Он послушно выполнил приказ Варежки. Когда он снял картину и перевернул ее, чтобы вынуть ее из багета, он чуть не вскрикнул от удивленья. Картина была написана мастером не на холсте, а на меди. Тяжелая медная доска, загрунтованная особым образом. Митя понятия не имел, кто, где так писал картины. Он знал технику: масло, акварель, гуашь, пастель, – а в художниках и эпохах он разбирался так же, как Гусь Хрустальный – в богемском хрустале. Он не читал книжек о художниках. Он понятия не имел о ценности этой вещи. Стоило из-за нее огород городить, влезать в жилье наглым образом, в черных дурацких, малышовских масках, и потом, эта Валечка… эта Валечка…
– Может, все-таки вызовем «скорую»?.. – бесполезно спросил он Варежку, выбегая в переднюю. Варежка оттаскивал за ноги бесчувственного Валерия Петровича под вешалку, под беспорядочно висящие старые шубы и пальто.
– Черт, черт, – не отвечая Мите, бормотнул Варежка. – Ах ты, чертова работа какая. Загнулась тетка-то. Надо и ее старого жука для верности заделать. По правилу буравчика. А то потом хлопот не оберешься. Эх, не хотел я. Да видно, придется. – Он кинул взгляд на Митю. Митя поразился – подземный свет вылетал из его глубоко запавших под лоб глаз. – Но не мне ручонки марать. Я их уже немало замарал в житухе. Ежели что… ежели так… ты уже мочканул одну, значит, и второго осилишь.
Варежка метнулся в комнаты. Выбежал с подушкой в руках. Валерий Петрович вяло пошевелился. Рауш-наркоз отходил. Он просыпался. Его выкаченные глаза кричали: ужас!.. ужас!.. пощадите!.. – на бледном жирном лице.
– На! – Варежка кинул подушку Мите, тот поймал ее. – Дави его! Ну! Вали ему на рыло – и прижми! И так держи, пока он дергаться не перестанет!
Митя затряс головой. Все происходящее мелькало перед ним, как цветная наклейка на спицах. Медь картины холодила ему живот. Он прижимал ее к себе под курткой, как прижимают любовницу.
– Я… не буду!.. – затравленно взвыл он. Варежка стиснул угол подушки в кулаке.
– Значит, буду я, – неприкрытая злоба послышалась в его голосе. Митя подумал: да, именно такая злоба нужна, чтобы отважиться убить человека. И Варежка его сейчас убьет. Как убивал других, раньше. Тех, кого Митя не знал. Кто глядел перед смертью вот так же, такими же широко открытыми, полными безумья и ужаса глазами. – Опять я! Всегда я! Везде я! Варежка здесь, Варежка там! Мало того, что я тебя сюда привел, мало того, что я тебя в пай со всеми беру, мало того…
Он бормотал и бормотал безостановочно, подогревая себя, возбуждая, заводя неистовством. Валерий Петрович слабо дернул головой вбок. Варежка навалил подушку на лицо старика и накрыл подушку, лицо, дергающееся тело своим сильным, жилистым телом. Митя видел, как возили по полу ступнями в тапочках ноги старика, как вздергивались колени, будто бы по ним били врачебным молоточком. Еще вздрог. Еще судорога. Еще одна большая, длинная судорога прошла по всему грузному телу. Еще раз дернулась нога. И все затихло.
– Финита, – сказал Варежка, отлипая от распростертого на полу тела, поднимаясь с полу, отряхивая колени, отдуваясь, как после сделанной трудной работы. Сорвал с себя черный чулок. Отер ладонью лоб. – А ведь клятву себе давал, что на последнее мокрое дело иду. Заткнул я едальник одному козлухе тут… еще судимость заработал, еще шестерку. И то, мою вину не доказали. Фифти-фифти все разделилось. Следователь себе последние мозги поджег. Счастливо я отделался. А тут, видишь… – Он будто кипяток выплеснул из глаз на Митю, очумело прижимавшего картину к животу. – Видишь!.. Ничего ты не видишь!.. Ослеп от жути!.. В штаны наложил!.. Больше ни за что с фраерами на дело не иду!.. Ни за какие коврижки!.. Давай, чеши, двадцатой ножкой, сороконожка, за тридцать пятую не задень!.. Да не забудь черную чаплашку содрать, а то тебя керосинки неправильно поймут!..
Они вывалились на лестничную клетку. Пусто. Никого. Варежка аккуратно, чтоб защелкнулся замок-автомат, закрыл за собой дверь.
– Все ништяк, – он, внезапно повеселев, ткнул Митю больно локтем в бок. – Все оказалось простяк! Видишь, Митька, не так страшен черт, как его… малютки, ха-ха-ха!.. – Он оценивающе поглядел на закрытую дверь и присвистнул. – Когда завоняют, тогда менты приканают. Не раньше, чем через неделю-другую… Эх ты, хмырь, что приуныл?!.. Я думаю так – эта бирюлька на две, три штуки точно потянет!.. как пить дать!..
Он нажал на кнопку вызова лифта, навалился всем телом, как давеча – на лицо старика. Митю замутило. Холодная медь, прижимаясь к его горячему телу под курткой, казалось, прожигавшему рубаху, спасала его от позорной рвоты.
– Не вздумай усвистать с ней, – резко, прищурясь, обернулся Варежка к нему. Лифт полз по этажам, как черепаха. – Я тебя везде найду. Если ты сейчас, на улице, ломанешься от меня с ней – я тебя только так догоню. У меня с собой стреляющее шило. Классная такая штуковина.
Он обнажил в ухмылке зубы. Крепкие, блестящие, ровные, как на подбор, один к одному, белые зубы, как в Голливуде. Митя смотрел ему в рот. Лифт полз подозрительно долго.
– Ну что он, катафалк гребаный!.. – Варежка пнул железную исцарапанную дверь. – Еле тащится!..
Он нетерпеливо топтался перед железной дверью лифта. Он нетерпеливо рванул ее на себя, прежде чем железная лифтовая коробка оказалась напротив площадки.
Он занес ногу, перешагнул порог – и вместе с железным тесным бочонком ухнул вниз, вопя истошно, ввинчивая вой ввысь. Внизу раздался сильный грохот. Человеческий вой оборвался. Митя стоял с картиной под курткой и ошалело глядел в черный прогал, в пустоту, перевитую железными цепями и стальными костями, где мгновенье назад затих навсегда человек Варежка, только что убивший человека Валерия Петровича.
Он вышел на улицу. Его шатало. Он нес картину под курткой. Он старался не глядеть людям в лица.
Он понимал: ему надо прийти к своим, в дворницкий дом в Столешниковом, и все рассказать. Кому? И что? И зачем, главное, ЗАЧЕМ он будет рассказывать?.. Ему надо молчать. Молчать, как рыба. Сцепив зубы. Или нет, наоборот, радостно, беспечно улыбаясь. Картина?.. Он пощупал медь под курткой. Ну и что, картина. Какая ему разница. Повесит у себя в каморе. Нет! Не повесит. Придут эти, как их, Гунявый и Шапка, и увидят. И надают ему под ребра от души. Гунявый ведь знает о картине. Варежка его посвятил в свои слесарные изысканья. Нет, он спрячет картину под кроватью… за свои холсты…
Падал снег. Тошнота опять подкатила к горлу. Валерий Петрович жил на Юго-Западе. Пока Митя добирался к себе на «Охотный ряд», он много раз зажимал рот рукой, чтобы его не вырвало прямо в вагоне метро.
Сонька-с-протезом вышла навстречу ему в распахнутом на груди халате. О, это что-то новенькое. Соблазняет?.. И безруким хочется счастья. Нет, просто забыла запахнуться. Она сгребла халат над ключицами в горсть.
– Митечка, ой, Митечка!.. – запела Сонька-с-протезом соловьем, даже голову закинула, всю утыканную папильотками – она закручивала жидкие волосы не на бигуди, а на газетные бумажки. – Тебя тут разыскивали!.. Ой, такие, знаешь!.. Четверо, в темных польтах… шапки бараньи, темные… как они входную дверь открыли, ума не приложу!.. никто ведь им не открывал!.. и не звонили они… и кто им только ключ подсунул, таким страшным?!.. Они тебя, тебя спрашивали!.. Ой, и еще баба с ними!..
– Баба?.. – спросил Митя пересохшим ртом. Локтем прижал крепче медную доску к животу. – Какая еще баба?..
– Знатная бабец, Митька, ну, куда уж мне!.. Куда уж нам-то, горемычным!.. Красотка кабаре просто!.. Я прямо присела, когда ее увидала… ну вот те хрест, такая краля, ей бы в фильмах сыматься… про любовь…
– Рыжая?.. – выдохнул Митя. Под ложечкой у него похолодело.
– Ну, ты спросишь тоже!.. Она в таких мехах была – отпад!.. Сдохнуть от горчичника!.. Шапка, как митра, – во, песец голубой, таких в тундре стреляют на Аляске, не у нас…
– Что сказали?!.. Когда еще придут?!..
– А ничего… Потоптались и ушли… И я ничего не сболтнула лишнего, ты не думай!..
– Спасибо тебе, Сонечка. Ты золотая девочка.
Митя наклонился, поцеловал Сонькину изморщенную, всю в трещинах от соды и горячей воды, единственную лапку. Сонька-с-протезом подрабатывала судомойкой в ближнем кафе. Ее живая рука ловко собирала со столов чашки и блюдца, как грибы, а мертвая помогала живой. Цирк, да и только.
Было уже за полночь. Он вошел в каморку. Закрыл дверь на ключ. Флюр, Рамиль и Гусь Хрустальный уже давно дрыхли. Они поняли: у него своя жизнь, он делает что хочет, – и не приставали к нему. Не спал только Янданэ. Когда он шел мимо его каморы, он увидел свет, сочащийся из-под двери. Монгол читал свои буддийские занудные мантры. Он подошел к голому столу. Не включал свет – голую, как в гестапо, лампу. Зажег свечу. Свет свечи упал на синий спичечный коробок, на солонку с горкой серой крупной соли, на дешевое, с синим стеклом, сработанным под сапфир, кольцо, купленное на вернисаже в Измайловском парке – туда он тоже ездил продавать свою мазню. Осветил маленький топор – он нашел его, когда колол лед около магазина «Восточные сладости». Кто его швырнул под дверь магазина?.. Выпал ли он из сумки мастерового человека, потерял ли его такой же, как Варежка, шедший с топором, чтобы… Не думать. Слышишь ты, не думать. Об этом думать запрещено. И Валечка умерла вовсе не от страха. И не оттого, что он слишком сильно прижал ее. Просто у нее было слабое сердце. Сердце слабое было.
Митя вынул из-за пазухи картину. Варежка лежит там, в лифте, на дне железной шахты. А он – вот он, живой. И картина – у него.
Он приставил медный квадрат к стене. Примерил: как оно будет смотреться. А ничего. Жалко раму. Мощный был багет. Старинный, судя по всему. Безграмотный Варежка. Зачем он его послушался.
Митя, в прыгающем свете свечи, подкрался к своим холстам, притиснутым к оклеенной газетами стене, и затолкал картину вглубь холстов. Смешно, конечно. Так ее любой… фраер найдет. Он усмехнулся криво. Фраер. Забавное словцо. Будто кличка кота. Такой пушистый кот, Фраер, с бантиком на шее.
Он сел на табурет перед столом и закрыл глаза. Он не хотел есть, не хотел пить. Он не мог спать. Свечной язык плясал перед ним. Перед голым столом, перед солонкой, синим кольцом и острым топором сидел совсем другой человек. У него шкура была другая. У него было все другое внутри.
Наутро он не пошел на участок – небывалое дело. Он выспался всласть. Встал, умылся в грязной ванне, поставил чайник на грязной кухне. Похлопал старую Мару по загривку – она впотьмах, в коридоре, искала с похмелья вход в кухню, не могла найти. Мара, Мара, где только ты берешь копейку на выпивон. Крадешь, что ли, в Тверском гастрономе у зазевавшихся хозяек из карманов, старая кляча.
Воспоминанье о картине придавало ему силы. Он думал о картине – и радость захлестывала его. От вчерашней тошноты и ужаса не осталось и следа. Труп Варежки там, в шахте… два мертвых старческих тела в квартире на Юго-Западной… Это сон. Это все лишь сон. Вся жизнь – это большой сон, то красивый, то уродливый. Его бедняцкий сон должен закончиться. Скоро он оборвется. И начнется прекрасная богатая явь. Даже штуки, жалкой штуки долларов хватит ему для того, чтобы безбедно прожить полгода в Москве, меняя баксы на рубли. А там… За полгода много воды утечет. И с ним случится счастливый случай. Ведь случился же он… теперь.
Он, умывшись и побрившись, попив пустого, без сахара, крепкого чаю, похожего на чифир, придирчиво перебрал свою одежду, выбирая что поприличнее. Он сегодня назначил себе отдых. Пусть Королева Шантеклэра побесится вволюшку. Он отправлялся на вернисаж в Центральный Дом Художника. Он видел афиши давным-давно и запомнил. Игорь Снегур – вот как звали выставлявшегося художника. Митя понятия не имел, кто такой Игорь Снегур. Он увидел на афише фотографию седого, представительного красавца в бороде и усах и подумал: вот великий мэтр, а я жалкий салага, так пусть он меня научит уму-разуму, если я к нему приклеюсь. Надо же мне, наконец, приклеиться к московскому мэтру.
Он вышел из дворницкого дома, даже благоухая одеколоном – старая Мара, расщедрившись, дала ему пошлого тройного одеколону, побрызгаться, из своих неприкосновенных опохмелских запасов.
Центральный Дом Художника гудел, шуршал, шелестел, ахал, охал, восторгался, плевался, свистел, смеялся, шушукался, сплетничал, молчаливо замирал. Выставка Игоря Снегура, известного авангардиста шестидесятых годов, взбудоражила всю Москву. Мэтр не старел. Он как законсервировался в блистательной седобородой красоте, в юношеской живости подтянутого сухопарого тельца – низкорослый, с бородкой клинышком, с глазами как два бешеных свечных огня, Игорь работал как проклятый, как вол, выпуская из-под своей кисти, из-под неистового мастихина работы одну за другой. Он заваливал холстами посольства. Его полотна маститые галеристы показывали в Вене и Гамбурге, в Стокгольме и Нью-Йорке. На аукционе в Париже один его с виду невзрачненький холстик продался за пятьдесят тысяч франков. Игорь был одним из самых богатых людей в Москве. Он не кичился богатством. Он, сменивший четыре дома и пятерых жен, оставался все тем же – веселым, бесшабашным, безудержно щедрым, устраивавшим попойки и вечеринки для друзей с поистине царским размахом, дающим сколько угодно и всегда, в любое время суток и года, тому, кто нуждается и попросит – и чаще всего безвозмездно. Это была именно та жизнь, которая устраивала Снегура. Он был рожден для такой жизни. И Бог дал ему ее. И Снегур щедро платил Богу той же монетой – он работал на износ, на излом, еле успевал покупать краски, холсты, подрамники.
– Вы видели… видели… вон, на том холсте, справа?.. какое безобразие!.. Если искусство будет идти в эту сторону, и такими семимильными шагами…
– Бросьте! Художник создает свое пространство. Оно выше требований толпы. Толпа клянчит, канючит: сделай так, чтобы нам понравилось!.. А художник рычит: а выкусите!.. это вам понравится потому, что я – так!.. – сделаю…
Митя шатался от холста к холсту. Пялился, таращил глаза. Он понимал – он безмозглый щенок, и он не умеет в живописи ни черта. Надо учиться. А учатся вот у таких, как Игорь – он это тоже хорошо понимал. Ну не у арбатских же малеванцев, лелеющих на зализанных холстиках то сосенки и березки, то святого Георгия со змием, то обнаженную бессчетную русскую Венеру с дынными грудями и тыквенным животом, было ему учиться. Да, он уже был умен, если это понимал.
Около одного полотна он замер, не шевелился. Стоял как вкопанный. На холсте не было ничего, кроме линий и пятен. Абстракция чистой воды. Никаких фигур. Пятна, линии, плоскости складывались в музыку. Холст звучал. Митя слышал тихую музыку. Ему казалось – он сходил с ума. Испугавшись самого себя, он отступил от холста – и наступил на ногу маленькому человечку, тоже внимательно, рядом с ним, рассматривавшему картину.
– Недурно?.. – спросил человечек, вытянув палец вперед.
– Ого-го, – сказал Митя восхищенно. – Более чем. Я бы хотел так… писать.
Человечек повернулся к Мите живо.
– Вы художник?..
– Боюсь, что нет, – сказал Митя скромно. – Пытаюсь быть… стать им.
– Приходите ко мне, – сказал человечек и быстрее молнии выдернул из нагрудного кармана клетчатой ковбойки визитку. – Это не домашний адрес. Это мастерская. У меня квартиры нет. Мне мастерской достаточно, я там живу. Игорь меня зовут. Давай на ты. В общем, закончится эта бодяга, мой вернисаж, приходи, прямо сегодня вечером, посидим, выпьем, я потом к тебе в мастерскую приду, погляжу твои работы. Эй, эй! – замахал он руками, заметив когорту телевизионщиков с камерами в руках и журналистов с записными книжонками, надвигающихся на него угрожающе. – Ну вас к лешему!.. потом, потом… Ненавижу прессу и рекламу, – словно прося прощенья, повернулся он к оторопевшему Мите, – зачем человеку лишняя информация?.. кто ее ест, кто глотает ее?.. зачем я миру нужен?.. ну, картины, это да, а я-то тут при чем?..
Это был великий Игорь Снегур собственной персоной.
Митя слонялся по вернисажу допоздна, до закрытия Дома Художника. Потом погрузился в метро и поехал к Снегуру. Мастерская Снегура располагалась на Старом Арбате, в одном из живописных арбатских двориков, особенно красивых сейчас, зимой, заснеженных, искристо-сахарных. Еще только подходя к мастерской, он услышал вопли, веселые крики, раскатистый смех, визги. Карнавальная ночь. Отмечают открытие выставки. Тут полна коробочка, и это все великие люди, высокие гости. Снегур художник знаменитый, у него в мастерской, уж верно, бывает избранное общество, не бомжи вроде него или Янданэ. Он трижды нажал на звонок. Звон вплыл ладьей в разливы и переливы смеха и тостов. Дверь распахнулась, чуть не сшибив Митю с ног.