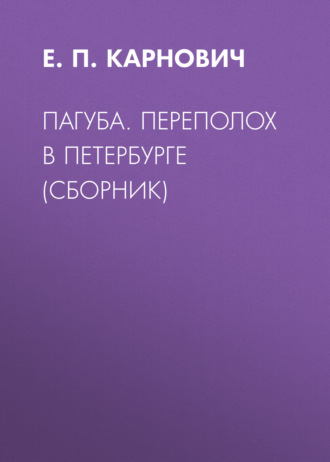
Е. П. Карнович
Пагуба. Переполох в Петербурге (сборник)
XV
Прошло более четырех лет со смерти Ягужинского, когда воцарилась императрица Елизавета Петровна. Против семейства Ягужинского она не имела ничего на сердце, но не то следует сказать об отношении ее к семейству Головкиных, из которых самый видный представитель очутился сперва возле плахи, а потом, хотя и помилованный, но опозоренный, томился вместе со своею женой в Собачьем Остроге, в отдаленных местностях Сибири, около мало кому ведомого Якутска.
Ягужинская не могла переносить страданий своего любимого брата и изыскивала все способы, чтобы возвратить его из ужасного изгнания или, по крайней мере, хоть несколько облегчить его участь. Сделать что-нибудь такое могло только лицо, пользовавшееся особым доверием и чрезвычайным расположением государыни. Графиня Анна Гавриловна пыталась достигнуть этого через Воронцовых, Шуваловых и Разумовского, но легко понять, что участники переворота 25 ноября 1741 года не могли заговорить о помиловании графа Михаила Гавриловича или о каком-нибудь к нему снисхождении.
«Если замолвить о Головкине доброе слово, – думали они, – то, в сущности, это будет значить, что мы умаляем свои личные заслуги. Не от слишком же важных врагов освободили мы цесаревну, если теперь сами начинаем просить за такого главного злодея, каким был Головкин. Не велика, значит, была его вина, если он вызывает теперь к себе сострадание в тех, которые обрекли его не на ссылку только, но и на жестокую смертную казнь. Довольно и того, что кроткая царица оказала ему неизреченное милосердие. Кто может также поручиться, что, получив свободу, он не начнет приискивать средств, чтобы сломить своих врагов и при случае отомстить им?»
По этим весьма основательным и вполне последовательным соображениям ни Шуваловы, ни Воронцовы, ни Разумовский не могли быть ходатаями за Головкина. Еще менее мог явиться в таком качестве Лесток. При своей подозрительности, опасаясь каких-либо предприятий со стороны бывших «адгерентов» правительницы, он не только не думал о пощаде их, но «хотел погрузить их так, чтобы они не выплыли». Мало того, на возбуждаемых упомянутыми «адгерентами» опасениях он думал вернее упрочить свое положение при императрице, начавшее казаться ему шатким. Духовник государыни был не таким человеком, который, молясь во храме Божьем «о страждущих», был бы на деле готов помочь им своим представительством у земной царицы.
– Извини, брат Михайла, – говорил однажды в сильном раздражении Алексей Петрович, – хотя я и младший тебе брат, но в настоящем случае не могу удержаться, чтобы не дать тебе доброго совета. Дожил ты почти до пятидесяти лет холостяком, а теперь вдруг вздумал жениться. Уже это одно, по моему мнению, составляет большую ошибку. Поверь мне, что не по тебе будет супружеская жизнь, к ней нужно попривыкнуть смолоду, и в этом отношении я, как человек женатый, более сведущ, нежели ты.
Казалось, Михайла Петрович на внушения своего брата не обращал никакого внимания. Он, задумавшись и заложив за спину руки, ходил по комнате мерными шагами, не отвечая ничего на замечания, делаемые ему Алексеем Петровичем.
– Неблагоразумие с твоей стороны заключается, впрочем, не в одном только этом. Ты занимаешь при дворе такую важную должность, пользуешься особым расположением государыни и вдруг берешь жену из опального семейства. Если, положим, нам и не нужно искать поддержки в родственных связях, потому что мы сами за себя постоять сумеем, то все же некстати родниться нам и с такими фамилиями, которые навлекли на себя немилость.
– Боишься ты, значит, Алексей Петрович, что брак мой может отозваться и на тебе? – усмехнулся гофмаршал.
– Да что ж ты думаешь, разве это невозможно? Разве не могут наши недоброжелатели припутать нас к разным факциям и конспирациям, ссылаясь на твое родство с Головкиными?
– Если это и так, то теперь поздно отсоветовать мне жениться на Анне Гавриловне, да и я слишком ее полюбил, чтобы мог отказаться от ее руки.
Министр с неудовольствием пожал плечами:
– Делай как хочешь, но знай наперед, что я на твоей свадьбе не буду; я не хочу наживать себе неприятностей из-за твоей запоздалой любви.
– Твоя воля, – отозвался равнодушно граф Михайла. – Прощай, я ухожу.
– Будь счастлив, боюсь только, чтобы не пришлось тебе вскоре раскаяться в своем неосмотрительном союзе.
Братья расстались между собой более чем холодно, так как каждый из них положил мысленно не иметь друг с другом никаких сношений.
В словах обер-гофмаршала своему мнительному брату о своей сильной страсти к вдове графа Ягужинского не было ничего напускного. Он полюбил Анну Гавриловну с тем пылом, который казался уже несвойственным его годам, когда порывы и увлечения уступают место старческой холодности и себялюбивым расчетам. Ягужинская могла, впрочем, понравиться ему. Она была теперь в полном расцвете своей если и не блистательной, но обольстительной красоты. В петербургском обществе она считалась самою скромной и вполне безупречной женщиной и составляла по своему поведению совершенную противоположность младшей сестре своей Анастасии, бывшей замужем за князем Никитою Юрьевичем Трубецким, за которого пошла она, не чувствуя к нему никакого расположения. В это время молодой ветреницы уже не было на свете. Трубецкой похоронил ее в 1735 году, но хорошо ее помнил. Помнил ее и историк князь Щербатов, который писал о ней следуюшее:
«Слюбился князь Иван Алексеевич Долгорукой с Трубецкою, рожденною Головкиною, жил с нею и пил с ея мужем, бивал и ругивал его, бывшего генерал-майором кавалергардского полка».
Подвыпивший крепко на какой-то пирушке Иван Долгорукий схватился с Трубецким и принялся колотить его и, наконец, в ярости своей дошел до того, что призвал прислугу и приказал ей вышвырнуть рогоносного кавалергарда за окно, и только заступничество Степана Васильевича Лопухина спасло его от предстоявшего ему полета.
Влюбившись по уши в молодую вдовушку, гофмаршал завел с нею почтительно-любовную переписку.
«Каково вы, мой друг Аннушка, сию ночь почивали, – писал ей Михайла Бестужев, – я худо спал для того, что болезнь моя вчера ввечеру немного прибавилась, нежели днем была, а теперь о них ничего не слышу, и никакого знака на ноге нет; я бы очень желал ко двору выехать должность мою исправить.
Понеже сего дни куртаку (куртага) не будет, пожалуй, приедь ко мне, друг мой; пробавим вечер вместе; мне грустно, когда вас не вижу, хотя вам и не так, то для меня учините».
Жених, начинавший уже чувствовать приступы подагры, старался нравиться Ягужинской и другими способами, без которых может обойтись молодой человек в отношении любимой им женщины. Он хлопотал по разным делам вдовой графини и, уведомляя ее о результатах своих хлопот, писал ей следующие нежные строки:
«А что до меня касается, то я не премину, где надлежит и где полезность увижу, крайнее старание и попечение о том иметь, ибо вам уже видно и приметно о моей истинной вам преданности и особливой венерации, и ничего так на свете не желаю, яко и с вашей стороны таких же сантиментов к вашему верному слуге, в каких я к вашей дражайшей и любезнейшей персоне нахожусь; сии слова не суть комплименты, но от истинного сердца происходят».
«Третьего дни, – продолжал влюбленный обер-гофмаршал, – будучи у господина Лестока, вы изволили мне позволить к себе писать; я в той надежде к вам и пишу, не сумневаяся, что вы удостоите меня своим благосклонным и приятным изветом, еже много поспешит моему облегчению; весьма мне прискорбно, что я не сподоблюся на куртаге вас видеть; когда вы туда мимо моего двора поедете, хоть уж тогда спамятуйте обо мне, вашем верном слуге, который от сердца любит и почитает и дражайшие ваши ручки целует».
Императрица, узнав о предстоящей женитьбе своего обер-гофмаршала на графине Ягужинской, не только не выразила своего неудовольствия против этого брачного союза, но, поздравив старого холостяка со вступлением в супружество, пожелала лично обменять их кольца при обряде обручения. Проведав об этом, Алексей Бестужев пожалел что он поторопился своим отказом приехать на свадьбу брата из пустого опасения, что своим там присутствием не угодит императрице. Теперь же он сам поехал к брату заявить, что он с большим удовольствием явится как на его обручение, так и на его венчание. Разумеется, что при таких условиях отказа в приглашении быть не могло. Но мнительный министр пал, однако, в новое сомнение: он знал переменчивость в благосклонности императрицы и полагал, что ею оказано было внимание брачущейся чете только потому, что государыне не хотелось казаться мстительной, хотя в душе она и не была расположена к Ягужинской, как к сестре человека, которого считала своим злейшим врагом, и, кроме того, ей было хорошо известно как о тесной дружбе сестры к брату, так и о том, что Ягужинская постоянно оплакивала злополучную долю, постигшую бывшего вице-канцлера. Не забывала также Елизавета, что сама Ягужинская была другом правительства Анны.
Стоя под венцом с обер-гофмаршалом, Анна поздно уже стала обдумывать, что она поступила опрометчиво, сделав такой решительный шаг. Бестужев, пылавший к ней такою пламенною страстью, вовсе не нравился ей, а тут еще, как на беду, приходило ей на мысль сравнение первого ее мужа, статного и красивого молодца, с своим дряхлеющим новым супругом.
Графиня Анна мысленно укоряла себя в том, что связывала себя брачными узами с человеком, которого она не только не любила, но который ей даже вовсе не нравился. Согласие ее отдать свою руку и свое сердце такому человеку не примирялось с ее прямодушием, и она оправдывала себя только тем, что пожертвовала собою для облегчения тяжелой участи так горячо любимого ею брата. Ягужинская рассчитывала, что Алексей Бестужев, все сильнее и сильнее становившийся при императрице, вскоре, по всей вероятности, приобретет на нее непреодолимое влияние и что тогда он в качестве родственника графа Михайла Гавриловича Головкина явится усердным за него ходатаем. Она ничего не знала о происшедшей между братьями размолвке по поводу брака и упускала из виду, что Алексей Бестужев был настолько осторожен и себялюбив, что ни за что не стал бы хлопотать не только о совершенном помиловании, но даже хоть о некотором снисхождении к человеку, имя которого государыня не могла слышать равнодушно. Для Елизаветы, кипевшей жизнью, не представлялось ничего ужаснее, как вместо пышных и разноцветных нарядов надеть на себя черную рясу и клобук с таким же покрывалом и из обширных золоченых зал дворца перебраться в тесную простую келью. Между тем Головкин, стараясь сделать Анну Леопольдовну императрицею, готовил цесаревне Елизавете такой неприглядный наряд и такое неудобное и томительное помещение, и, разумеется, ей нелегко было забыть такую «конспирацию» вице-канцлера.
Последствия неохотного и плохо рассчитанного брака Ягужинской с Бестужевым не замедлили обнаружиться. Она с первых же дней после свадьбы стала тяготиться ласками своего пожилого супруга, который и с своей стороны, проведя всю свою жизнь на свободе, как холостяк, начал тяготиться своим положением и обязанностями мужа. Между молодыми возникли размолвки, которые, может быть, и окончились бы со временем благополучно, если бы Анна Гавриловна не убедилась, что все ее расчеты на спасение брата через Бестужевых были напрасными.
При первом заявлении Анны Гавриловны насчет этого она выслушала от своего супруга резкий отказ. Он объявил, что из-за свадьбы с нею он разошелся с своим братом. «Впрочем, – добавил супруг, – и помимо этого брат мой никогда не согласился бы своею просьбою за такого тяжкого преступника навлечь на себя неудовольствие государыни или – что для него было бы еще хуже – подозрение в сочувствии к образу действий бывшего вице-канцлера, которому уже и так ее величество явила знак своего милосердия, даровав ему жизнь, тогда как столь презренный злодей, – заметил Бестужев, – не заслуживал бы такого милосердия за совершенные им факции».
Таким образом, прежняя графиня Ягужинская, а ныне графиня Бестужева-Рюмина вместо участия и утешения встретила не только полную холодность, но и резкое порицание любимого ею брата. Вскоре начавшиеся между супругами размолвки перешли во взаимную вражду, с той и с другой стороны начали слышаться укоры и упреки; но муж и жена, боясь сделаться предметом насмешек со стороны общества, таили происходившие между ними несогласия так искусно, что все считали их счастливою супружескою четою, жившею душа в душу.
Узнав о том, что императрица отнеслась благосклонно к браку Ягужинской с Бестужевым, Бергер нашел, что теперь наступила благоприятная пора, чтобы попросить руки ее падчерицы. С неудовольствием проведал об этом дерзком намерении граф Михайла Петрович. Он, не стесняясь нисколько, заявил своей жене, что, вступая с нею в брак – не как уже с Головкиною, которая была ему равная, но как с Ягужинскою, вдовою какого-то проходимца, чуть ли не жидовской породы, – до некоторой степени унизил фамилию Бестужевых. Он стал хвалиться тем, что Бестужевы служили русским государям разные дворянские службы уже в десяти поколениях; что фамилия его происходит от знатного английского рода Бестюров, как в том удостоверяла присланная из Англии братьям Бестужевым-Рюминым королевская грамота. Граф Михайла полагал, что принять в свое, хотя и отдаленное, свойство сына какого-то безвестного лифляндского мызника он считает крайним позором как для самого себя, так и для всех своих фамилиантов.
Пронырливый кирасир проведал о таких рассуждениях нового вотчима Настеньки и понял, что всякие относительно ее искания при таких неблагоприятных условиях будут напрасны. Такому отзыву обер-гофмаршала вторил и его брат, Алексей.
«Хорошо же, – думал Бергер, злобясь на Бестужевых, – я когда-нибудь покажу таким зазнающимся господам, что Бергер может быть не хуже их по своему положению в их обществе. Я выйду в люди во что бы то ни стало!»
XVI
Предания о красоте некоторых женщин, как и народные предания, бывают иногда очень живучи. Такие предания и даже письменные свидетельства сохранились и о красоте Натальи Федоровны Лопухиной. Хотя такого рода предания обыкновенно преувеличиваются и приукрашиваются, но в основании они бывают верны, и нельзя сомневаться, чтобы современники Лопухиной не восхищались ее прелестями, как молодой женщины. Годы, однако, брали свое, и как роскошно распустившийся цветок, просуществовав в своей красоте короткий срок, начинает увядать, так, конечно, стала увядать и Лопухина. Ей ко времени настоящего рассказа шел уже сороковой год. Она имела несколько человек детей, в числе которых был старший сын Иван Васильевич и старшая дочь Анастасия, очень миловидная, лет семнадцати, девушка, не обещавшая, однако, быть такой роскошной красавицей, какою была ее мать. Женственные свои прелести Наталья Лопухина, рожденная Балк, получила в наследство от своей матери, происходившей из семейства Монс, известного своею красотой, а также и постигшими его бедствиями.
Хотя Наталья Федоровна и увядала, но время до известной степени щадило ее и не налагало на нее отпечатка ее возраста, так что она казалась, по отзывам современников, слишком моложавою для своих лет, и молва о том, что она первая красавица, поддерживалась по старой привычке. Так называет ее в своих записках леди Рондо, а, конечно, такому отзыву женщины о женщине можно поверить. Но замечательная красота Лопухиной в соединении со счастливою для женщины моложавостью и вдобавок заносчивость красавицы, привыкшей к поклонению обожателей, возбуждали в представительницах женского пола в Петербурге враждебное к ней чувство, и в числе таких женщин была цесаревна Елизавета Петровна.
Повод к вражде со стороны Елизаветы подавала отчасти и сама Лопухина, желая соперничать с нею в красоте, а Елизавета – в особенности с летами – стала очень щекотлива в этом отношении. Соперничая с Елизаветой, как женщина с женщиной, Лопухина хотела уподобиться ей и по своим нарядам и, проведав, – что тогда в Петербурге было не трудно, – в каком платье цесаревна собирается быть на куртаге или на балу, заказывала себе такое же платье и являлась в нем в общество, раздражая тем цесаревну. При Анне Ивановне и в особенности при правительнице такие весьма чувствительные уколы, наносимые Елизавете Лопухиною, совершенно безнаказанно сходили с рук легкомысленной Наталье Федоровне. Мало того, такие проделки вызывали при дворе Анны Леопольдовны веселый говор и насмешки над Елизаветой, которая не пользовалась тогда не только никаким почетом, но даже и вниманием, и с затаенным раздражением должна была переносить те мелкие обиды, какие позволяли себе наносить ей лица, приближенные к Анне Леопольдовне.
У Лопухиной был неизменный друг и любовник – гофмаршал граф Рейнгольд Иванович Левенвольд. Она страстно его любила и была предана ему беспредельно.
В свою очередь и Левенвольд, желая угодить обожаемой им женщине, старался при каждом удобном случае чем-нибудь кольнуть и раздражить цесаревну Елизавету, а по его должности, как гофмаршала, таких случаев представлялось немало. Он то как будто забывал или опаздывал пригласить цесаревну на какое-нибудь придворное торжество или празднество или делал подобного рода приглашения не с той почтительностью, на какую имела право Елизавета по своему положению в императорском семействе. Елизавете внушали, да и сама она понимала, что в таком оказываемом ей неуважении со стороны гофмаршала, человека, отличавшегося вежливостью и даже изысканною утонченностью в обращении с женщинами, был виноват не столько он сам, сколько действовало на него постороннее влияние.
– Левенвольд настолько любезен и предупредителен с дамами вообще, что он никогда не позволил бы себе оказать мне какую-нибудь невежливость, – говорила в своем кружке Елизавета.
– В особенности с молодыми и прекрасными дамами, – добавлял кто-нибудь из присутствовавших, – и чрезвычайно странно, что он дает вашему высочеству повод жаловаться на него.
– Нисколько не странно, – перебивала с досадой Елизавета, – он в руках у Натальи, а она подбивает его против меня. Чтобы угодить ей, он все готов сделать.
Когда Елизавета вступила на престол, то Левенвольда, независимо от возведенных против него обвинений в зловредном политическом умысле, обвиняли еще и в том, что «в торжество дня рождения принца Ивана для ее императорского высочества цесаревны Елизаветы был поставлен стол с прочими дамами в ряд». Левенвольд на такое обвинение отвечал, что «сие учинено было по приказанию бывшей правительницы, а не по его рассуждению».
– Я, – объяснялся бывший гофмаршал перед своими судьями, – возражал, не будет ли то для ее высочества обидно. «Положи тарелку так, как я приказываю, – сказала мне правительница, – а как я войду, то сама сделаю, как надобно».
Такое оправдательное объяснение Левенвольда, как и объяснение его против обвинения в «злокачественной конспирации», уважены не были. Захваченный в каземат Петропавловской крепости в полной силе, статным и красивым мужчиной, Левенвольд вышел оттуда, чтобы идти на плаху, изможденным, дряхлым старцем, еле передвигавшим ноги, с седыми космами волос, беспорядочно спускавшимися на лицо и на плечи, худой, бледный, с отросшею растрепанною бородою, – и, конечно, никто бы не мог узнать в этом жалком колоднике блестящего гофмаршала, щеголявшего еще не так давно в великолепном модном парике, в бархате, шелку, кружевах, лентах и бантах.
Несмотря, однако, на ту перемену, которая произошла в Левенвольде в короткое время, чувство пылкой к нему страсти нисколько не изменилось у Натальи Федоровны. В день, назначенный для совершения казни над ее любовником, она сходила с ума и в припадках отчаяния хотела наложить на себя руки, но когда дошла до нее весть, что Рейнгольд избавлен от смерти, она пришла в какой-то дикий восторг и дала обещание быть мстительницей за него, если ей не удастся быть его спасительницей. Эта последняя задача оказалась, однако, неосуществимою, и потому Наталья Федоровна решилась взяться за первую, но мщение это проявлялось уже слишком по-женски.
Живя с Рейнгольдом, как с мужем, Лопухина до его ссылки вполне довольствовалась домашнею жизнью и редко являлась в обществе. Теперь чувство мщения подсказывало ей иное… Ей казалось, что она должна как можно чаще показываться на глазах у государыни, представляясь веселой, и тем самым показывать Елизавете, что она равнодушно переносит изгнание своего любовника.
С своей стороны, Елизавета, по-видимому, совершенно равнодушно отнеслась к демонстрации, задуманной Лопухиною. Государыня делала вид, будто она вовсе не замечает свою статс-даму. Императрица не удостаивала ее своим разговором и только легким, почти пренебрежительным кивком отвечала на почтительные и обязательные для Лопухиной придворные реверансы.
Такое хладнокровие Елизаветы еще сильнее возбуждало чувство злобы в сердце Натальи Федоровны.
«Не постою я ни за чем, – думала она, – я выведу ее из терпения».
И недолго пришлось ей ждать.
Был назначен большой бал во дворце.
Балы эти были обыкновенно костюмированные и представляли не только пестрое и странное, но и забавное зрелище. Классическая мифология была тогда при всех дворах в большом ходу, но богов и богинь Древней Греции и Древнего Рима даже на Западе, кроме ученых и поэтов, все прочие знали очень плохо. Так, например, в Париже на театральных сценах вместо насколько возможно более обнаженной Венеры являлась актриса, затянутая в корсет, в огромных фижмах[15], с напудренной головой, с черными мушками на лице, в перчатках и с веером в руках. Ахиллес выходил на сцену в мундире тогдашних французских кирасиров, имея на латах лилии как знаки королевского герба дома Бурбонов. Понятно, что в подобных случаях Петербург вдавался в еще большие несообразности. Хотя ученые классики, члены тогдашней Петербургской академии наук, и принимали деятельное участие в составлении рисунков для фейерверков и транспарантов для «илуминаций» и заготовляли все это в классическом вкусе, но почему-то не требовалось их мнений относительно богов, богинь, полубогов, полубогинь и героев, появлявшихся с того света на придворные костюмированные балы.
Балы эти при Елизавете отличались роскошною и разнообразною обстановкой. На них являлась в лицах вся греческая мифология. Кавалер, прибирая себе имя языческого божества или прославившегося в древности героя, прицеплял или пришпиливал какой-нибудь отличительный его признак и затем оставался во всех принадлежностях своего повседневного костюма. Общим же убранством для всех богов и богинь были обыкновенные белые тоги, из-под которых у мужчин были видны шелковые, плотно охватывающие икры чулки и громадных размеров парики; с левого бока у богов болтались шпаги, а распахнувшаяся тога обнаруживала иногда андреевскую или александровскую звезду или ленту, а у некоторых дам знаки ордена великомученицы Екатерины. Носы у иных богов были оседланы очками, а богини употребляли лорнетки. Все русские дамы той поры сильно румянились, и обычай этот был не наносный с Запада, но коренной московский, перебравшийся и в Петербург.
Кроме представителей древнего языческого мира на придворные балы Елизаветы являлись также представители всех национальностей, преимущественно же были тут турки, персиане и венециане. От обязанности быть в каком-нибудь характерном костюме освобождались, по особому разрешению государыни, только высшие сановники, а также все без исключения иностранные дипломаты, которые, являясь на придворный маскарад, обязаны были накидывать только домино поверх обыкновенно носимой ими одежды.
Были также заведены при дворе Елизаветы так называмые «метаморфозы», то есть такие маскарады, на которые дамы являлись в мужском, а кавалеры в женском платье.
Тот бал, на который собиралась выехать Лопухина и раздражать, сколь возможно более, императрицу, не был, однако, костюмированным балом.
Надобно сказать, что императрица Елизавета сделала запрет, чтобы ни одна из дам не смела являться на балы в таком платье, какое будет надето на государыне. Требовательность эта была гораздо обширнее, нежели те средства, какие представлялись для ее исполнения. Даже перед самым выходом на бал государыни трудно было, хотя бы и через камер-фрау, узнать, во что оденется императрица. Для нее бывало приготовлено в уборной несколько нарядов, так что только какая-нибудь случайность решала окончательный выбор одного из них. Очень часто случалось, что приехавшая на бал дама, увидев или узнав заранее, что наряд или головной убор императрицы близко подходит к ее наряду, спешила уехать поскорей с бала, чтобы переменить платье или изменить прическу.
Разумеется, что Лопухина, как статс-дама, более чем все другие придворные и так называемые городские дамы должна была соображаться с таким распоряжением императрицы. Но легкомыслие и задор брали у Лопухиной перевес над благоразумием, и она, узнав, что императрица собирается быть на предстоящем бале одетой очень просто, в шелковой робе светло-розового цвета, с приколотою в волосы только розою, сама оделась точно так же.
Собравшиеся в большой дворцовой бальной зале кавалеры и дамы стояли на местах, указанных им церемониймейстером, или «конфузионмейстером», как титуловался граф Санти, заведовавший порядком на придворных балах. Все ожидали выхода императрицы, которая, делая свой туалет медленно и заботливо, заставляла подолгу ждать своего выхода. Прошло уже более часа в напрасном ожидании; но вот по знаку, поданному «конфузионмейстером», в зале все смолкло: широко распахнулись двери из внутренних апартаментов императрицы, и она, предшествуемая обер-гофмаршалом графом Бестужевым-Рюминым и сопровождаемая дежурною статс-дамою, женою обер-гофмаршала, и фрейлинами, вступила торжественно в залу «при игрании на трубах и при битии в литавры».
У Лопухиной, стоявшей между дамами на самом видном месте, радостно забилось сердце при появлении императрицы: на ослушнице статс-даме было надето платье такое, что его трудно было отличить и по цвету, и по качеству материала, и по покрою, и даже по разным мелким принадлежностям дополнительной отделки от того платья, какое было на императрице. Мало того, в волосах как той, так и другой было по одной только розе. Ничем нельзя было оказать более неуважения к государыне и выразить сильнее полного пренебрежения к ее запрету, как, заметив такое сходство нарядов, все-таки явиться перед нею. Лопухина же, напротив, постаралась попасть поскорее на глаза государыне, которая, опираясь на руку канцлера князя Черкасского, торжественно стала обходить залу.
Увидев наряд Лопухиной, императрица быстро выхватила свою руку из руки своего кавалера. Лицо ее приняло гневное выражение, и, тяжело дыша, она скорыми шагами вышла одна на середину залы. Все в изумлении обратили на нее свои взгляды, не понимая, что такое случилось. Растерянный Черкасский остановился как вкопанный на том месте, где так неожиданно удалилась от него Елизавета, и с ужасом думал, не оказал ли он какой-нибудь невежливости или неловкости перед ее величеством.
– Настя! – сказала императрица, обращаясь к бывшей при ней в тот вечер дежурной фрейлине Ягужинской. – Подай мне ножницы.
Молодая девушка поспешно запустила руку в карман своей робы и вынула оттуда небольшой несессер, в котором были потребованные государыней ножницы, а также булавки, иголки и шелк. Такой несессер обязаны были иметь при себе дежурные фрейлины на случай, если бы пришлось привести в порядок туалет государыни.
– А ты, Наталья, поди сюда! – гневно крикнула Елизавета, подзывая к себе напроказившую статс-даму повелительным движением руки. – Становись здесь на колени! – грозно крикнула государыня, топнув ногой и указывая пальцем на пол.
Побледневшая, несмотря на румяна, Лопухина исполнила это приказание, а Елизавета, взявши от фрейлины ножницы, срезала розу, бывшую на голове Лопухиной, и растрепала ее прическу. Из глаз Лопухиной выступили слезы.
С трудом в своем бальном наряде поднялась Лопухина на ноги. Никто из окружавших кавалеров не решился помочь ей, и она, шатаясь, вышла из залы и упала в обморок, разразившись громкими рыданиями.
– Это что такое? – спросила императрица окружавших ее.
– Лопухиной сделалось дурно, – отвечали ей.
– И поделом ей, другой раз не посмеет издеваться надо мной! – проговорила Елизавета.







