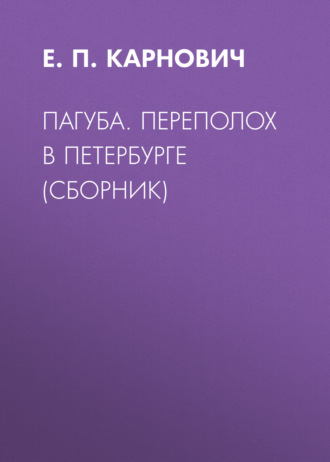
Е. П. Карнович
Пагуба. Переполох в Петербурге (сборник)
XXIV
– Ты, матушка, мне все твердила чтобы я не водил дружбы с Фридрихом; а теперь оказывается, что он может тебе пригодиться, – говорил матери Ванюша Лопухин, возвратившись домой после сильной гулянки. Хотя Наталье Федоровне было под сорок лет, но она, сохранив еще признаки своей замечательной красоты и будучи очень моложавой, казалась не матерью, а только старшею сестрой своего сына, которого, несмотря на его раннюю молодость, сильно помяли и состарили беспрерывные кутежи.
– Не нравится мне твой Бергер, оттого-то я и старалась принимать его как можно реже, – с выражением неудовольствия отозвалась Лопухина. – Мне все сдается, что ты познакомился с ним на свою пагубу.
– Он славный малый. Ты плохо его знаешь. Да, впрочем, что о том толковать! Во всяком случае, он теперь тебе человек пригодный. Едет вот в Соликамск на смену прежнего караульного офицера при Рейнгольде Ивановиче.
Лопухина вздрогнула и в смущении опустила вниз глаза.
Любовные отношения ее к Левенвольду были известны ее сыну. Об этом очень часто говорил ему его отец не только в пьяном, но и в трезвом виде, да и сама Лопухина не скрывала своей привязанности к Левенвольду, плача и горюя при всех об утрате любимого ею человека.
– Через него могла бы ты послать весточку Рейнгольду Ивановичу. Вот бы обрадовался он!
– Нет, Иванушка, не стать мне это делать. Теперь идут такие строгости: Лесток за всеми присматривает, как цепная собака; всюду у него шпионы. Да и на Фридриха разве можно положиться? Он все сейчас разболтает и без злого умысла. Писать я Рейнгольду Ивановичу ничего не буду, а пусть Бергер передаст только на словах, чтобы граф не унывал и что, быть может, скоро будет перемена в его судьбе. Хочу я просить отца Якова, пусть он перед исповеданием государыни доложит ей, что Рейнгольд Иванович претерпел за его пустые провинности более, нежели следует. Да кстати, пусть скажет Бергер графу, что оставленные им у меня пожитки, уцелевшие от конфискации, сгорели в нашем московском доме.
– Хорошо, я попрошу его об этом, а еще было бы лучше, если бы ты ему написала обо всем хорошенько. Бергер нас никому и ни за что не выдаст, да и стыдно было бы ему это сделать при моей с ним дружбе.
Наталья Федоровна сомнительно покачала головой.
«Как бы хотелось мне быть на месте этого Бергера, – думалось ей. – Он увидит моего дорогого Рейнгольда». И все былое так живо, так отчетливо воскресло в ее памяти.
Иванушка не настаивал более на своем предложении и сказал матери, что он сегодня же увидится с Бергером и в точности передаст ему поручение матери и даже приведет его с собой к ней.
– Нет, не делай этого! – возразила она, предчувствуя, что свидание с отъезжающим в Соликамск Бергером будет ей слишком тяжело, и не уверенная, что при прощании с ним она не выскажет того, что могло бы навлечь пагубу и на нее, и на Левенвольда.
В то время, когда это происходило в доме Лопухиных, Бергер, будучи у своего приятеля Фалькенберга, горячился и выходил из себя до бешенства.
Ранним утром ему принесли повестку из полковой канцелярии с требованием, чтобы он немедленно явился туда. Такие повестки всегда были крайне для него неприятны, так как они посылались или по случаю особого наряда в караул, или для исполнения каких-нибудь чрезвычайных поручений по службе, или же для того, чтобы задать Бергеру головомойку за какую-нибудь проделку, и, наконец, для предъявления поступивших на него в полк жалоб от кого-либо из его многочисленных кредиторов. Как ни неприятны были Бергеру требования его явки в канцелярию во всех этих случаях, но все-таки он никак не ожидал того, что готовилось ему теперь. В полковой канцелярии объявили ему, что он без малейшего промедления должен с порученной ему командой отправиться в Соликамск и оставаться там три года, поступив на смену того караульного офицера, который состоял при бывшем графе Левенвольде. Это неожиданное распоряжение сильно поразило кирасира. Оно расстраивало все честолюбивые виды его на будущее. Прожить несколько лет в таком отдаленном захолустье, как Соликамск, да еще состоя безотлучно при ссыльном, значило то же самое, что самому отправиться в ссылку. Выход в отставку из военной службы был тогда невозможен. Офицеров «абшидовали» или увольняли только за дряхлостью или по такой очевидной болезни, которая делала решительно невозможным исполнение ими каких бы то ни было служебных обязанностей не только в строю, но и в канцелярии, в вагенбурге, в госпитале, при провиантских магазинах или в запасных складах. Офицеров, заявлявших о своих болезнях, строго свидетельствовали и «до излечения от болезней» отправляли на службу в дальние гарнизоны, где всегда было или, по крайней мере, предполагалось найти для них какое-нибудь занятие до тех пор, пока даже действительно больной мог кое-как волочить ноги.
Правда, что Бергер мог взять по болезни временный отпуск, но получение его в ту пору было чрезвычайно трудно, да и обходилось очень дорого. Кроме неполучения за время отпуска жалованья, проситель должен был отсчитать порядочную сумму и полковому командиру, и полковому адъютанту, и полковому лекарю или – что делалось чаще – подарить им известное число крепостных душ. В то время насчет этого существовала даже определенная такса. Но у Бергера не было ни денег, ни крепостных, а всего хуже было то, что получив отпуск, он должен был выехать из столицы в свои деревни или для хозяйства, или для поправления здоровья, чтобы в месте расположения гвардейских войск «не подавать зловредного примера своим праздношатательством».
Но этот выезд и был всего тяжелее для кирасира, так как ему наклевывалась теперь богатая невеста, вдова солидных лет после одного богатого немецкого негоцианта, и Бергер, достаточно разочаровавшийся насчет возможности составить себе блестящую партию, мирился с мыслью жениться на этой вдове или, иначе, поживиться на ее счет.
Как в прежнее время он добивался не только знакомства, но хотя встречи с блестящим гофмаршалом, так теперь с ужасом думал о том, что ему придется постоянно проводить с ним время, как с несчастным и ничтожным ссыльным. Отлынуть от поездки в Соликамск было невозможно, так как полковое начальство с радостью воспользовалось этим случаем, чтобы выжить из полка нелюбимого всеми офицера.
Получив такое неожиданное назначение, Бергер прямо из полковой канцелярии отправился к Фалькенбергу, чтобы сообщить ему о своем горе и посоветоваться с ним насчет того, что ему предпринять при таких обстоятельствах. Майор, со своей стороны, не только не утешил и не ободрил изгоняемого из Петербурга поручика, но даже, напротив, навел на него большее уныние.
– Слыхал я, любезнейший мой Фридрих, не раз, – говорил Фалькенберг, – что офицеров, отправляемых для надзора за ссыльными, вместо положенных трех лет держат там в продолжение целого десятка годов. Забудут да и не присылают смены: делай что хочешь, а с места уехать нельзя. Достанется так, что только ой-ой! А ты, поверь мне, не выживешь и месяца в этой глуши – умрешь там с тоски. Не найдешь ты там ни женщин, ни карт. Наверное, там нет ни бильярда, ни хороших вин, к которым мы уже порядочно попривыкли благодаря этому дураку Ваньке Лопухину. Не встретишь ты там и подходящей тебе веселой компании, не найдешь там и порядочной невесты, а уж о каком-нибудь особом счастье и говорить нечего. Пропадешь ты в этом проклятом Соликамске ни за что. Нужно во что бы то ни стало отделаться от этой поездки. Станешь потом каяться, да уж поздно будет.
– Что же делать? – спросил растерянный Бергер.
– Ищи счастья. Знаешь, быть может, русскую пословицу: «На ловца и зверь бежит»?
В чрезвычайном раздражении Бергер вышел от своего приятеля и, идя по Красной улице, встретился с шедшим к нему Лопухиным.
– Ну, что, приятель, едешь в Соликамск? Нечего сказать, удружили тебе. Там ты свидишься с Левенвольдом и, быть может, отпишешь нам, как он поживает, – почти кричал на всю улицу неосторожный на язык Лопухин.
– Болтай потише, а то, того и гляди, попадешь к Ушакову в тайную канцелярию, – строго сказал Бергер.
– А что ж? Там любопытно побывать разок, – отшутился подполковник. – Пойдем-ка лучше закусить к Беглеру; я возьму особый покоек, разопьем хорошенького винца, да кстати я передам тебе поручение от моей матери.
Поручик при этих словах вдруг повеселел, но потом сильно призадумался. В голове у него мелькнуло, что, чего доброго, при своем безысходном положении он может поймать «важную птицу». Однако, как ни был он нравственно распущен, но все-таки приостановился при мысли, что он для этого должен будет сделаться предателем своего доверчивого друга; но вслед за тем он твердо решился пожертвовать всем, чтобы не только отделаться от предстоящей поездки в Соликамск, но, статься может, и выйти в люди.
Кроме надежды выведать что-нибудь от болтливого и простодушного подполковника Бергер, который всегда был не прочь поесть и попить на счет своего приятеля, очень охотно согласился принять его предложение, сделав вид, что его вовсе не занимает то поручение, какое мать Иванушки хочет дать ему к Левенвольду. Когда Лопухин порядком подвыпил, Бергер, который на попойках был гораздо покрепче головою, чем его товарищ, а на этот раз и пил осторожнее, чем всегда, желая сохранить полное присутствие памяти, завел речь с Лопухиным о поручении, даваемом Бергеру матерью почти совсем опьяневшего Лопухина. Но, как оказалось, этот пьянчуга совсем забыл о том, для чего он пригласил Фридриха в отдельную комнату.
– Скажи твоей матушке, что я очень охотно исполню ее поручение, хотя бы при этом были и большие опасности. Я так люблю ваше семейство, что готов для вас сделать все, – с притворным добродушием начал Бергер.
Эти слова окончательно расположили к Бергеру доверчивого подполковника, который только теперь вспомнил о поручении своей матери.
– Ведь вот подумаешь, – принялся болтать он, – что случается на белом свете. Был я при дворе принцессы Анны Леопольдовны камер-юнкером, состоял я, значит, в полковничьем ранге, а теперь определен подполковником, да и то не знаю куда. Каналья Лялин и Сиверс произведены в важные чины, один из матросов, а другой из кофешенков, за скверное дело. Да и что нынешняя государыня? Такая ли была наша голубушка правительница! Все любили ее, да и теперь рижский гарнизон склонен к принцу Ивану Антоновичу. Послали бы меня туда командиром, так показал бы я себя. Впрочем, и без меня легко быть перемене; будет же она непременно через несколько месяцев, – завирался все далее подполковник, в то время как собеседник его молчал и, навострив уши, только слушал, видя, что его товарищ отлично выбалтывается сам по себе, без всяких расспросов. – Да и мы, Лопухины, нынешней-то царице не очень угождаем. Отец мой написал к матери из деревни, чтобы она никакой милости у государыни не искала и ко двору не ездила бы. А сам я после того, как был в последнем маскараде, ко двору не хожу…
– Думаю я, что не одни вы, Лопухины, пошли бы против государыни? – спросил Бергер.
– Об этом что и говорить! – уверенным голосом отозвался Лопухин. – Почитай, все знатные персоны будут против нее. Нынешняя государыня больше простой народ любит, потому что сама просто живет, а знатных персон не жалует.
На лице Бергера при упоминании о знатных персонах выразилось заметное удовольствие. Он видел, что нападает теперь на след «важной птицы», а это куда как было прибыльно для доносчиков. Последствием каждого государственного, хотя бы и незначительного, преступления было в ту пору по порядку, заведенному еще при царях московских, «взятие на государя», всего движимого и недвижимого имения, принадлежавшего виновному, так что все его семейство подвергалось полному разорению. Такая отписка продолжалась и при Петре Великом, и после него, только под новым названием – под названием конфискации. Поэтому падение каждого знатного и богатого вельможи было предметом радости и надежды всех близких ко двору лиц. На отобранное у него имение они налетали, как стая хищных птиц на лакомую добычу. Каждый выпрашивал себе кто дом, кто деревеньку, и по тогдашним понятиям раздача конфискованных имуществ была в нравственном смысле даже обязательною для верховной власти, чтобы устранить оскорбительную мысль, будто она умышленно отбирает имущество виновных, чтобы пользоваться им. Не говоря уже о том, что при Елизавете продолжалась еще раздача имений, конфискованных у Меншикова и у Долгоруковых, при ней шло раздаривание и движимой собственности. Она раздавалась тем, кто находился в особенной милости и умел выпросить что-нибудь. Так, например, правительница подарила своей любимице баронессе Юлиане Менгден конфискованные у Бирона два великолепно вышитых золотом кафтана; но так как Юлиана не успела еще их сбыть, то они были конфискованы у нее и оставались в придворном складе до тех пор, пока император Петр III не приказал их подарить какому-то немецкому актеру.
Бергер очень хорошо знал, что при таких раздачах не были забываемы и доносчики, а если бы как-нибудь случайно и забыли их, то стоило только напомнить об услуге, оказанной доносом, чтобы получить безобидное вознаграждение. Теперь в воображении его представлялись и те деревни, и тот дорогой скарб, который он может получить, если ему удастся подать донос не на какого-нибудь жалкого майора Шнопкопфа или бедного пастора Грофта, но на знатных персон, вотчины которых раскинулись на широкое пространство и у которых в сундуках и в подвалах хранилось немало денег и разной дорогой рухляди.
– Эй, брат Иван, – поддразнивающим голосом перебил Лопухина Бергер, – кажись, ты вздор несешь! Кто же, например, из знатных, кроме вашей семьи, может быть недоволен государыней? Ну, скажи-ка!
– Как кто? – словно обиженный недоверием своего собеседника, крикнул подполковник. – Да вот хоть бы оба брата Бестужевы. Послушал бы только, что говорят они о государыне! – приврал Лопухин, никогда не слыхавший ничего такого ни от них самих, ни от других.
Бергер как нельзя более обрадовался такому неожиданному сообщению, сделанному Лопухиным. Ему незачем было удостовериваться в справедливости сказанного ему. Было довольно сослаться на Лопухина, чтобы притянуть к делу братьев Бестужевых.
«Они действительно важные птицы, да, по всей вероятности, ничем так не угодишь Лестоку, как сделав на них навет», – думал Бергер, слышавший не раз об ожесточенной вражде между Алексеем Петровичем и Лестоком.
– Ты все, Иван Степанович, болтаешь попусту о том, что мне не нужно, да и не хочется вовсе знать, – равнодушно сказал предатель, – а о деле-то, кажется, совсем забыл. Что же хочет поручить мне твоя матушка в Соликамск?
Лопухин передал Бергеру просьбу своей матери.
– Отчего же не сделать такого одолжения, – проговорил Бергер. – Только вы смотрите не проболтайтесь чего-нибудь на мою пагубу.
Затем Бергер еще более подпоил своего товарища, который, почувствовав, что голова его слишком отяжелела, прилег на канапе и вскоре громко захрапел, отрезвляясь от сильного опьянения, а между тем Бергер, оставив его в трактике спящим, вышел потихоньку из заведения, в котором так радушно угощал его подполковник.
XXV
Было прекрасное июльское утро, когда граф Лесток, переехавший на лето в свой загородный дом, отправился на прогулку по прилегавшему к этому дому сосновому парку.
Дом Лестока, находившийся на Фонтанке, в конце нынешнего Лештукова переулка, представлял в ту пору прекрасное летнее местопребывание на реке, которая была гораздо глубже и быстрее, чем ныне. Она не была засорена ничем ни с берегов, ни с барок, которые только изредка проходили по ней, и доставляла окольным, весьма немногочисленным прибрежным жителям чистую и свежую воду. Стояло жаркое лето, и Лесток, желавший хорошенько отдохнуть в эту пору, не принимал никого по делам и сам оставался на своей даче безвыездно. Он не ездил даже в Петергоф, где проводила лето государыня. Поездки туда сильно раздражали его, так как он при каждой из них ясно видел, что благосклонность к нему императрицы заметно уменьшалась. Государыня принимала его сухо, отклоняла то словами, то взглядами его любезности и шутки, которые она в прежнее время выслушивала так охотно. Редко, да и то лишь вскользь, говорила она с ним о неважных государственных делах; что же касается дел важных, то они и решались и исполнялись теперь очень часто без предварительного с ним совещания и даже большею частью без его ведома. Лесток знал, что он оттеснен от государыни своим противником, и оттеснен так ловко, что ему едва ли будет возможно восстановить свое прежнее значение. Влияние Бестужева возрастало с каждым днем, и вице-канцлер получил – как тогда говорили – «всерешающий голос», а мнение его стало господствовать в совете императрицы, так что Лестоку приходилось, собственно, подчиняться желанию Бестужева.
Лейб-хирург, так много думавший о себе, в особенности после исполнения задуманного им переворота, не только не желал занимать приниженного положения, но не мог даже переносить ничьего соперничества. Теперь, прогуливаясь по тропинкам парка, он размышлял, каким бы способом избавиться ему от Бестужева, и ни свежий воздух раннего утра, ни господствовавшая кругом его тишина, ни живительный запах смолистых елей и сосен, пригреваемых все выше подымавшимся солнцем, нисколько не успокаивали его чрезвычайного раздражения.
Размышляя об этом, граф шел по узкой тропинке парка, когда услышал позади себя торопливые шаги бежавшего к нему человека. Две прекрасные английские собаки, сопровождавшие его, остановились, но не залаяли, и это было знаком, что к хозяину бежал кто-нибудь из домашних. Действительно, Лестока догонял один из прислуживавших ему лакеев.
– К вашему сиятельству пришел какой-то офицер и требует, чтобы вас видеть, – запыхавшись доложил он.
– Разве ты, олух, не знаешь, что я никого теперь не принимаю? – сердито крикнул Лесток. – Гони его вон!
– Он приказал подать вашему сиятельству эту бумагу.
Лесток взял из рук лакея сложенную по-старинному и запечатанную наглухо бумагу, на обратной стороне которой был, по тогдашнему обычаю, прописан полный титул Лестока, потребовавший строчек десять убористого письма.
Лесток раскрыл бумагу и прочел в ней следующее:
«Осмелившийся предстать пред вашей высокографской персоною офицер имеет донести о злодейском умысле на превысочайшую особу ее императорского величества всемилостивейшей нашей государыни, вседражайшей матери отечества, а также и на персону вашего высокографского сиятельства».
– Ступай, – сказал Лесток лакею, – и проведи господина офицера в приемную, вели от меня ему там подождать и скажи ему, что его сиятельство сам изволит прийти к нему.
Если последняя часть сообщения о злом умысле против самого Лестока встревожила его, зато первая часть сильно обрадовала. Лесток вспомнил, как удачно поддержал он свой пошатнувшийся у императрицы кредит сочиненными им двумя заговорами: сперва заговором камер-лакея Турчанинова, а потом заговором лейб-кампанцев; а теперь, думал он, представляется очень кстати третий подобный случай, которым следует умело и ловко воспользоваться. Он сообразил, что не станет же офицер так настойчиво домогаться из-за каких-нибудь пустяков личного свидания с таким грозным и могущественным вельможею, каким считал себя сам Лесток и каким считали его другие. Он чуял, что из ожидающего его доноса ему можно будет раздуть важное дело и убедить государыню в необходимости доверяться единственно ему, Лестоку, так как все другие лица, приближенные к ней, не знают, что делается около них.
Возвратясь домой, граф приказал позвать в кабинет пришедшего офицера, и туда явился незнакомый Лестоку рыжий кирасир.
«Ты кто такой?» – хотел было спросить Лесток.
Но прежде чем Лесток успел обратиться с этим вопросом, вошедший сам заявил о себе.
– Имею счастье явиться к вашему сиятельству! Я поручик кирасирского полка Фридрих Бергер, – отрапортовал он зычным голосом, вытянув руки по швам и придерживая свой огромный палаш.
– Ты имеешь сообщить мне о злом умысле на превысочайшую особу ее императорского величества?
– Точно так, ваше сиятельство, а также и о злом умысле на высокографскую персону вашу.
– Об этом после. В чем заключается твой донос и можешь ли ты подтвердить его?
– Если бы не мог подтвердить его, никогда не осмелился бы явиться к особе вашего сиятельства, – бойко отозвался кирасир.
– Хорошо. Расскажи, в чем дело.
Бергер, подготовившись заранее, без запинки передал разговор свой с Лопухиным, придав этому разговору такие выражения, которые могли усилить важность доноса, и в заключение упомянул, что Лопухин проболтался и о вражде Бестужевых к государыне.
Лицо Лестока вспыхнуло от радости.
– Так он упоминал о Бестужевых? – торопливо спросил Лесток, как бы не веря в справедливость тех сообщений, которые он теперь слышал. – А свидетелей твоего разговора с Иваном Лопухиным ты имеешь?
– Не имею, ваше сиятельство, мы говорили пока один на один, да я и не предвидел, что у нас будет такой разговор.
– Ты должен вызвать еще раз Лопухина на такой разговор, но так, чтобы при этом был свидетель, и вообще заняться этим делом.
– Очень сожалею, ваше сиятельство, что не могу исполнить вашего приказания. Я получил по команде приказ немедленно отправиться в Соликамск, чтобы содержать караул при бывшем обер-гофмаршале Левенвольде.
– Это пустяки! Я сейчас же велю написать в военную коллегию, чтобы приостановили твою отправку, а если хорошо поведешь дело, то не только совсем останешься в Петербурге, но я тебя никогда не забуду, – покровительственным тоном сказал Лесток. – Да, кстати: тебе могут понадобиться деньги, а у тебя их, наверное, нет, – продолжал он, подойдя к бюро и вынимая оттуда горсть червонцев.
Лесток бросил на письменный стол червонцы, так приятно зазвучавшие в ушах жадного Бергера.
– Возьми их себе, – сказал он, указывая пальцем на стол. – Граф Лесток хорошо оплачивает оказываемые ему услуги. С своей стороны, ты должен главным образом доискиваться до Бестужевых; разведай также о маркизе Ботта д’Адорно, бывшем австрийском посланнике. Узнай, в каких отношениях был он с Бестужевыми и о чем они толковали…
Бергер не столько слушал даваемые ему инструкции, сколько думал о лежавших перед ним червонцах. Он подошел к столу, загреб их пальцами и по обычаю того времени униженно поцеловал щедрую на этот раз руку своего высокого патрона и милостивца.
Бергер ушел от Лестока чрезвычайно довольный свиданием. Он так легко добился своего главного желания остаться в Петербурге, да сверх того в кармане у него теперь побрякивало столько золота, сколько едва ли когда-нибудь там бывало. Гнусность поступка не только не смущала, но даже вовсе не щекотала его совести. Как человек бессердечный, он только радовался тому, что наконец-то давно желаемое счастье повезло ему.
От Лестока Бергер отправился к Фалькенбергу и, вопреки состоявшемуся между ними соглашению, не сказал ни слова о свидании с Лестоком, но только пригласил его на прощальную пирушку, которую, как говорил Бергер, он хочет задать, получив от казны на дорогу столько денег, сколько он никогда не ожидал. При этом Бергер, выхватив из кармана горсть червонцев, данных ему Лестоком, показал Фалькенбергу, который очень охотно согласился прийти в заведение Бергера на напутственную пирушку своего приятеля.
От Фалькенберга Бергер пошел к Лопухину, который еще не совсем оправился от вчерашней попойки. Лопухин, помятый, заспанный, мутными глазами смотрел на кирасира, уверявшего, что ему ни с кем так не тяжело расставаться, как с таким добрым товарищем, каким был для него Иванушка. Лопухин от души расцеловал своего приятеля, и на глаза его набежали слезы при мысли, что ему скоро придется расставаться с дорогим Фридрихом. Он очень охотно согласился на приглашение Бергера, и 17 июля они втроем сошлись в условленном месте.
Началась обычная попойка. Сперва Иванушка осовел, потом его, обыкновенно не крепкий, рассудок помутился, и он, растерянно смотря на своих собеседников, принялся болтать все, что приходило ему на ум и на что по временам наводил его Бергер.
– Нынешние государственные управители, – болтал Лопухин, – все негодны, вовсе не такие, как были прежние, Остерман и Левенвольд, и только один Лесток – проворная каналья. Да недолго ему хозяйничать. Король прусский станет помогать императору Ивану Антоновичу, а наши, я надеюсь, за ружье не возьмутся.
– А скоро это будет? – спросил Фалькенберг, наметивший, с своей стороны, Лопухина как орудие своего счастья и не зная, что Бергер уже предупредил его.
– Скоро, очень скоро будет, – пробурчал подполковник.
– Тогда уж ты, Иванушка, меня не забудь, – попросил Фалькенберг.
Лопухин ничего не отвечал и только пожал плечами.
– А нет ли кого побольше, к кому можно было бы забежать? – спросил в свою очередь Бергер.
– Есть: австрийский посол Антон Еронимыч Ботта д’Адорно, – сказал Лопухин, позабывший под влиянием выпивки, что маркиз уже восемь месяцев тому назад уехал в Берлин.
– Да ведь к нему прямо сунуться нельзя, – возразил Бергер, – а вот нельзя ли обратиться к нему через кого-нибудь из здешних знатных персон? – спросил Бергер.
– Да хотя бы через мою матушку; она с ним близко знакома.
– Э, да что через твою матушку! Напрасно! Я заметил, что она ко мне, по неведомой мне причине, с некоторого времени неблагосклонной оказывается, тогда как я ей истинный доброжелатель и исполню в Соликамске все, что она изволит приказать мне.
– Спасибо тебе, дружище! – пробурчал Лопухин, протягивая Бергеру свою ослабевшую руку. – Та-та! – вдруг забормотал он, усиливаясь ударить себя ладонью по лбу. – Что я таким беспамятным стал? Да чего же лучше – через Анну Гавриловну Бестужеву. Вот кто истинная приятельница маркиза, ох, какая она закадычная его приятельница!
Указание Лопухина на графиню Анну Гавриловну пробудило в Бергере чувство мстительности за неудачную попытку к сватовству, а всего важнее для него было это указание потому, что он увидел, что выходит на тот путь, который наметил ему Лесток.
– Да ты, Иван Степанович, не городишь ли вздор? Будто Бестужева Анна Гавриловна, такая большая приятельница маркиза Ботта? – подзадоривал Бергер подполковника.
– Что ни на есть самая большая, – проговорил тот, опорожнив шкалик мадеры и ставя его на стол.
Всех этих сведений Бергеру было весьма достаточно, чтобы заявить Лестоку о ходе дела. Под предлогом, что ему надобно собираться в дорогу, Бергер вскоре оставил Лопухина и Фалькенберга и, несмотря на позднее время, нанял извозчичью тележку и поскакал к Лестоку. Не доезжая до его загородного дома, он из предосторожности отпустил извозчика и пошел пешком.
Лесток собирался уже ложиться спать, когда ему доложили о приходе офицера, который был у него утром и которого он приказал допускать к себе во всякое время дня и ночи. Лесток внимательно и с удовольствием выслушал рассказ Бергера и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал с ловкостью беззастенчивого сыщика, желающего выслужиться как можно более перед тем, на кого ему приходится работать. Бергер в докладе своем упомянул о том, что на этот раз, согласно наставлению его сиятельства, свидетелем продерзостных речей Лопухина был майор Фалькенберг.
– Ты, брат, не пеняй на меня, если я завтра утром прикажу арестовать тебя. Не бойся, ничего тебе дурного не будет, но я должен так поступить. Понимаешь? – вразумительно сказал Лесток.
– Понимаю, ваше сиятельство.
– Теперь ступай домой. Вскоре увидимся. Смотри не пугайся, а я тогда, еще раз повторяю, тебя не забуду.
Лесток, имея в виду, что при начале дела, которому он придавал такую важность, к нему многие могут являться с доносами, изветами и сообщениями, приказал, в отмену своего прежнего распоряжения, допускать всех приходящих к себе. Майор Фалькенберг первый воспользовался таким дозволением.
Оставшись с сильно подвыпившим Лопухиным, он уже без Бергера продолжал около подполковника свои разведки, надеясь, что собранными при этом сведениями он превзойдет своего отъезжавшего в Соликамск товарища. Фалькенберг с трудом, при помощи трактирного слуги, вывел Иванушку из трактира, усадил его на извозчичью тележку и повез его домой.
«Экой этот Бергер простофиля, – думал Фалькенберг, сидя рядом на тележке с поддерживаемым им тщедушным подполковником, который качался из стороны в сторону и сползал и садился вовнутрь тележки. – Упустил он счастливый случай и теперь попрет с своей дряхлой командой в Соликамск. Ну а я, брат, не таковский: коли счастье пришло, то сумею им воспользоваться».
Явившись на другой день к Лестоку, Фалькенберг был допущен беспрепятственно к графу, который сделал вид, что он ничего еще не знает «о злодейском умысле против ее императорского величества и о продерзостном поношении особы его высокографского сиятельства». Лесток внимательно выслушал рассказ майора и убедился, что рассказ этот, с некоторою переиначкой слов, в сущности, сходен с тем, что доносил ему Бергер, то есть оказывалось, и это было всего важнее для Лестока, что жена гофмаршала графа Бестужева порицает государыню и была в дружеских отношениях с Боттою. Этого, как раскинул Лесток своим коварным рассудком, будет достаточно, чтобы примешать к делу ненавистного вице-канцлера и погубить его.
С большими смягчающими оговорками в похвалу лейб-медику Фалькенберг передал еще и то ему, что Лопухин дерзнул назвать и его высокую персону «проворной канальей». При этих словах Лесток не обнаружил ни малейшего гнева и только подумал: «Нашелся же человек, который хотя и слывет дураком, но отлично разгадал меня».
Граф, поблагодарив майора за его верноподданническую преданность государыне, а также и за сообщение о «неистовых словах» Лопухина против собственной его, Лестока, персоны, наградил и Фалькенберга червонцами, но, как доносчика уже второстепенного, не так щедро, как Бергера. Лесток обещал майору свое покровительство, сказав, что если Фалькенберг разведает еще что-нибудь по столь важному государственному делу, то может явиться к нему во всякую пору.
Майор ушел от Лестока чрезвычайно довольный, как и Бергер, своим свиданием и без малейшего угрызения совести, и в голове его роились мысли о той блестящей будущности, которая, быть может, ожидает его в скором времени.







