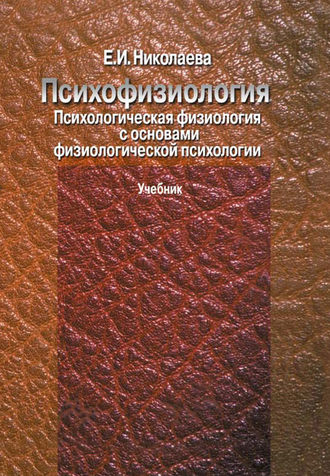
Е. И. Николаева
Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник
Биохимическая асимметрия полушарий головного мозга
Морфологические различия в полушариях мозга сопряжены с биохимическими, которые могут быть увеличены введением веществ. Показано, что у обезьян под воздействием нейропептидов гипоталамуса (вазопрессина и тиролиберина) усиливалась активность доминирующего полушария (Соллертинская, Шорохов, 2003). Если разделить морских червей планарий на две половины и ввести в каждую нейропептиды, то восстановление правых половин происходит существенно быстрее. В свою очередь ингибиторы восстановления интенсивнее подавляют процессы регенерации у левых половин. Это свидетельствует о наличии биохимической асимметрии уже на уровне первых носителей билатеральной асимметрии (Шейман и др., 2004).
Асимметрично в мозге распределены как моноамины (группа медиаторов, например, дофамин), так и фермент, участвующий в их утилизации – моноаминоксидаза. После комиссуротомии у крыс обнаруживается различное содержание дофамина в левом и правом стриатуме, ацетилхолина – в стриопаллидарной системе.
У крыс в полосатом теле, противоположном предпочитаемой конечности, концентрация дофамина больше на 10–15 % (Glick, 1985). По другим данным этот параметр зависит от пола, поскольку плотность дофаминовых Д2-рецепторов в стриатуме выше у самцов слева, у самок – справа. У самцов крыс по отношению к самкам в лобной коре правого полушария выше уровень серотонина.
Высказано предположение (Tucker, Williamson, 1984), что левое полушарие имеет большие концентрации дофамина, тогда как правое – норадреналина. Выраженная асимметрия концентрации норадренергических нейронов найдена в таламусе, особенно в его правом вентро-латеральном ядре и слева – в подушке (Oke e.a., 1978).
Возбуждающие и тормозные медиаторные системы в перинатальный период формируются под воздействие стероидных половых гормонов (Моренков, 2004). В новой коре уровень эстрогеновых рецепторов выше у самок крыс справа, у самцов – слева. У самок в базомедиальной зоне гипоталамуса справа выше, чем слева, содержание гонадотропин-релизинг гормона (Gerendai, Halasz, 1997). Нейроактивные стероиды – производные прогестерона – действуют на ГАМК-А рецепторы. При активации этих рецепторов, которых больше всего в лимбических структурах, усиливается функция ГАМК-ергической системы (Моренков, 2004).
Содержание ГАМК выше в черной субстанции, верхних коленчатых телах и n.accumbens справа, а в вентральной покрышке, вентромедиальном таламусе и хвостатом ядре – слева (Starr, Kilpatrick, 1981).
M. Ramirez с соавторами (1992) изучал симметрию активности некоторых пептидаз в ретине и переднем гипоталамусе у крыс. Оказалось, что активность выше в левой стороне обеих структур в световой период и больше справа в темноте. Поскольку их связывает ретиногипоталамический тракт, возможно, что через него и осуществляется асимметричное влияние на мозг. Можно предположить, что активность пептидаз свидетельствует о доминировании разных полушарий в различные часы суток.
У крыс-правшей в правом полушарии ниже концентрация молибдена, чем в левом, поэтому можно предположить, что энергетический обмен, который контролируется флавопротеидными ферментами с молибденом в качестве активной группы, асимметричен и выше в левом полушарии. Различны концентрации (выше у левшей) кадмия, марганца, серы (Клименко, 2004).
Тимоциты (клетки тимуса) левой доли железы правополушарных доноров обладают достоверно большим стимулирующим эффектом на иммунный ответ, чем тимоциты правой доли. Тимус левополушарных доноров обнаруживает меньший стимулирующий эффект (Абрамов и др., 2004).
У человека выявлена асимметрия в количественном содержании медиаторов в нейронных структурах, обслуживающих мышечный тонус, речь, письмо, репродуктивную функцию. Описана асимметрия холинеэстеразной активности в моторных и речевых центрах (Кононенко, 1980). Таким образом, химическая асимметрия наслаивается на морфологическую, причем данные о химических особенностях более противоречивы.
Методы исследования функциональной асимметрии
Формулирование современных принципов функциональной асимметрии мозга связано с возникновением новых методов исследования, таких как картирование мозга, комиссуротомия, тахистоскопия, проба Вада, дихотическое тестирование. Каждый из этих методов, позволяя открывать новые факты о функциях полушарий, одновременно собственными рамками ограничивал их интерпретацию. Именно поэтому столь велики современные противоречия и в фактах, касающихся исследуемой проблемы, и в их трактовках.
Картирование мозга было предложено канадским исследователем У. Пенфилдом (Penfild, Rasmussen, 1950), который при операциях по поводу эпилепсии раздражал открытый мозг слабым электрическим током. Во время подобных операций удаляется участок мозга, провоцирующий генерализованную судорожную активность. Удаление ткани мозга на левой его половине чревато заменой эпилепсии на афазию, поэтому необходим метод, позволяющий определять границы центра речи. Это и попытался сделать У. Пенфилд, раздражая электрическим током область, подлежащую удалению.
Мозг не имеет болевых рецепторов, поэтому во время локальных операций можно использовать лишь местную анестезию, чтобы снять боль, сопровождающую вскрытие черепной коробки и мозговых оболочек. Пациент в это время находится в сознании и может сообщать о своих ощущениях, возникающих при раздражении слабым током отдельных участков мозга. Оказалось, что часто подобное воздействие ведет к появлению простых ощущений (запахов, видений, звуков и т. д.), движений, а при помещении электродов в область, ответственную за речь, – молчанию (афазической остановке). По результатам этих исследований, призванных помочь конкретному человеку сохранить речь, были получены карты мозга, дающие информацию о специализации каждого полушария. Позднее, используя более современную технику, исследователи точнее локализовали речевую функцию (гл.16).
Комиссуротомия – это операция по хирургическому рассечению комиссур. Ее делают больному тогда, когда несколько эпилептических очагов в одном полушарии генерируют судорожную активность, которая затем охватывает весь мозг. Рассечением комиссуры, добиваются ограничения очага возбуждения, если нет иных способов излечения. Впервые подобную операцию у человека сделал У. ван Вегенен в 1941 г. Однако она не привела к ослаблению судорожной активности. Позднее хирурги Ф. Фогель и Дж. Боген повторили ее. Они полагали, что неудача у предшественников объяснялась неполной перерезкой комиссур, поэтому возбуждение, ведущее к судорожной активности, передавалось через сохранные связи. Успешный результат, полученный ими, подтвердил это предположение.
Психологическое обследование больных, перенесших подобную операцию, не выявило выраженных нарушений интеллекта, тогда как общее состояние резко улучшилось. Отмечено лишь некоторое ухудшение решения пространственных задач, связывания имен людей с их лицами, исчезновение сновидений. Однако специальные исследования обнаружили изменения, обусловленные разрывом межполушарных связей. Например, больной после комиссуротомии с завязанными глазами легко называл предмет, который помещали ему в правую руку. Если же предмет находился в левой руке, то он не мог его назвать, но на ощупь узнавал среди других предметов (Рис. 4.10.). С течением времени ситуация менялась, и через 14 лет после операции испытуемый называл 25 % а через 15 лет – 60 % предметов, которые предъявлялись в левую руку (Gazzaniga е.а., 1996). Итак, после операции левое полушарие, формирующее вербальный ответ, не знает того, что происходит в правом, но через определенное время эта способность к взаимодействию возвращается, по-видимому, через подкорковые структуры.

Рис. 4.10. Зрительно-тактильная ассоциация осуществляется больным с расщепленным мозгом. Изображение ложки на экране вспыхивает для правого полушария: левой рукой больной находит ложку среди других предметов за экраном. Тактильная информация от левой руки проецируется, главным образом, в правое полушарие, но слабый «ипсилате-ральный» компонент поступает и в левое полушарие. Этого обычно недостаточно для того, чтобы больной мог назвать (используя левое полушарие) предмет, который он взял (Газанига, 1974).
Многочисленные эксперименты выявили у таких больных на фоне перцептивной разобщенности (разъединения на уровне восприятия) поведенческое единство (Sergent, 1987). Мозг у них, несмотря на операцию, представлял собой целостный орган, поскольку интеграция в нем происходила на уровне подкорки. Исследователи подтверждали это следующим примером. Больного с расщепленным мозгом просили называть цвет включенной лампочки. Зажигали лампочки зеленого и красного цвета. При предъявлении сигнала в левое полушарие испытуемый легко справлялся с заданием. При предъявлении лампочки в правое полушарие он вначале часто ошибался, но позднее разработал тактику, позволившую отвечать достаточно точно. После правильного опознания цвета он не менял своего решения. Если же отвечал неверно, то затем морщил лоб, качал головой и давал другой, правильный ответ. Авторы объясняют этот феномен следующим образом. При предъявлении лампочки в правое полушарие, левое, вынужденное отвечать, случайным образом определяло лампочку. Правое полушарие видело цвет, но не могло передать левому информацию из-за перерезки комиссуры. Поэтому после неверного ответа оно невербально (покачиванием головой и т. д.) осведомляло левое полушарие об ошибке, что позволяло корректировать ответ. Авторы (Газзанига, 1974) назвали это явление перекрестным подсказыванием.
Введение в подобные эксперименты тахистоскопа позволило глубже понять специализацию полушарий мозга в когнитивной сфере. Тахистоскоп – прибор, позволяющий предъявлять изображение на очень короткое время (100–120 мс). Необходимость использования такого прибора обусловлена тем, что каждые 200 мс у человека возникают саккадические движения глаз, смещающие изображение предмета на сетчатке. Это эволюционное приобретение позволяет видеть неподвижное изображение. При попадании фотона на колбочку (светочувствительную клетку на сетчатке глаза), в ней происходит биохимическая реакция. На время реакции рецептор выключается из восприятия, и информация о поступлении следующего фотона не достигает мозга. Неподвижный предмет временно становится невидимым (так происходит с лягушкой, которая может умереть от голода перед неподвижным кусочком мяса). Если же (как у человека), глаз периодически двигается, то неподвижное изображение попеременно попадает на разные участки сетчатки и воспринимается мозгом постоянно.
Тахистоскоп позволяет предъявлять информацию на отрезок времени, меньший, чем 200 мс, за который изображение не успевает сместиться. Если испытуемому, перенесшему комиссуротомию, закрыть один глаз, его взгляд фиксировать в центральной точке, а слева или справа от нее предъявлять с помощью тахистоскопа изображения, то можно направлять информацию только в одно полушарие.
Если стимул попадает в левое полушарие, больные точно называют его. Если же изображение предмета подается в правое полушарие, то они утверждают, что видят лишь вспышку света, поскольку левое полушарие не может знать о том, что видело правое. Однако на ощупь левой рукой они легко выбирают этот предмет из многих других. В одном из подобных исследований, испытуемой предварительно показали четыре фотографии людей и дали имя каждому персонажу. Затем ей тахистоскопически предъявили химерное изображение человека (составленное из половин лиц двух разных персонажей, например, лиц взрослого и ребенка). Больная всегда сообщала имя того, чья половина лица находилась в правом поле зрения (то есть попадала в левое полушарие). Если же ее просили не отвечать словами, а показывать фотографию, которая соответствует изображению, то испытуемая выбирала того, чье лицо было предъявлено в левое поле зрения (правое полушарие). Следовательно, она не замечала химерности изображения, полагая, что видит нормальное лицо. Эти данные свидетельствуют о способности каждого полушария достраивать недостающую информацию до целого изображения. Мы уже упоминали этот феномен – зрительное завершение – стремление человека закончить изображение, от которого представлена только половина, достроив оставшуюся часть симметрично (Sperry, 1966, 1982).
Это явление позволяет объяснить удивительный факт: в норме люди воспринимают лица окружающих симметричными, хотя реально они таковыми не являются. Несимметричность человеческих лиц доказана в экспериментах, в которых испытуемым предъявляли нормальные лица людей и лица, составленные из правой половинки и ее зеркального отражения и левой половинки и ее зеркального отражения (Рис. 4.11). Испытуемые по-разному воспринимали лица, чаще всего полагая, что левые половинки более эмоциональны. В любом случае большинство лиц весьма асимметричны, хотя окружающие воспринимают их симметричными. По-видимому, мозг использует феномен зрительное завершение, при котором для ускорения опознания левое полушарие достраивает лица встречных людей по их половине. Но при желании, вглядываясь в лица, мы можем воспользоваться всеми сведениями, хранящимися в правом полушарии, и увидеть реальность.

Рис. 4.11. Образцы химерных лиц. А – обычные фотографии. Б – химерные фотографии, составленные из правых половинок лиц. В – химерные фотографии, составленные из левых половинок лиц (Фотографии любезно предоставлены Н. Гладких).

Рис. 4.12. Модель слуховой асимметрии в норме, предложенная Д. Кимура. А. При монауральном предъявлении стимула на левое ухо информация передается правому полушарию по ипсилатеральным путям. Испытуемый правильно называет слог «Ба». Б. При монауральном предъявлении стимула на правое ухо информация посылается к левому полушарию по контралатеральным путям и к правому по ипсилатеральным. Испытуемый правильно называет слог «Га». В. При дихотическом предъявлении передача в ипсилатеральных путях подавлена, поэтому «Га» поступает только к левому (речевому) полушарию. Слог «Ба» достигает левого (речевого) полушария только через комиссуры. Вследствие этого слог «Га» идентифицируется обычно более точно, чем «Ба», что фиксируется в виде «эффекта правого уха» (Спрингер, Дейч, 1983). 70 % леворуких и у 19 % праворуких, имевших травмы в первый год после рождения (Rusmussen, Milner, 1977).
Еще одна исследовательская процедура, названная именем автора, предложена Дж. Вада – проба Вада (Wada, Rasmussen, 1960; Wada, 1977). Она позволяет нейрохирургам в процессе операции на мозге определить полушарие, контролирующее речь. Для этого в одну из сонных артерий помещается канюля (стеклянная трубочка), через которую вводится амитал-натрий (снотворное из группы барбитуратов). Полушарие, получившее снотворное, засыпает, что позволяет фиксировать состояние и функции другого. Благодаря этой процедуре выяснилось, что у 95 % праворуких людей центр речи расположен в левом полушарии, у остальных 5 % – в правом; но и у 70 % леворуких центр речи также находится в левом полушарии, у 15 % – в правом и у оставшихся 15 % – в обоих полушариях. Более поздние данные (Woods e.a., 1988) уточнили, что у 5 % праворуких людей центр речи имеет не правостороннее, а билатеральное расположение. У 103 больных эпилепсией обнаружена либо левосторонняя, либо двусторонняя локализация центра речи, то есть утверждается, что только правосторонней локализации центра речи нет (Loring е.а., 1990). По другим данным, правостороннее расположение встречалось как исключение и предопределялось наследственностью и полом (Tan, 1991). По-видимому, это связано с тем, что при ранних травмах (до года) правое полушарие может брать на себя утраченные функции левого полушария. Возможно, поэтому оно контролирует речь у Д. Кимура из Монреальского неврологического института обратила внимание на то, что иногда испытуемые точнее идентифицируют (узнают) информацию, прослушанную каким-либо одним ухом. Она усовершенствовала методику одновременного предъявления информации в оба уха, которую впервые предложил Д. Е. Бродбент еще в 1954 г. Д. Кимура назвала этот новый метод дихотическим прослушиванием. На каждой дорожке магнитной ленты магнитофона одновременно записывали одно число из пары, которые затем через стереофонические наушники предъявлялись испытуемому таким образом, что одно из чисел попадало в одно ухо, второе одновременно с первым – в другое. После предъявления трех пар чисел испытуемых просили воспроизвести все запомненные ими слова вне зависимости от того, каким ухом они были услышаны. Оказалось, что здоровые праворукие люди числа, услышанные правым ухом, вспоминают лучше тех, которые предъявляются в левое. Это явление Д. Кимура назвала «эффектом правого уха» (Kimura, 1961).
Каждое полушарие получает проекции от обоих ушей, поэтому слуховая информация доступна каждому полушарию. Вот почему результаты этих экспериментов были достаточно неожиданны. Д. Кимура объяснила «эффект правого уха» большей мощностью контралатеральных проекций в кору больших полушарий по сравнению с ипсилатеральными и подавлением информации, приходящей по ипсилатеральным путям, информацией, поступающей по контралатеральным путям. В этом случае при одновременном предъявлении информации разница в мощности путей становится значительной (Рис. 4.12).
Пробы с параллельным введением амитал-натрия и дихотическим прослушиванием подтвердили эффективность дихотического прослушивания в предсказании локализации центра речи (Kimura, 1961). В то же время были выявлены и различия в результатах двух проб. Так проба с амитал-натрием выявляла левополушарное расположение центра речи в 95 % случаев, а дихотическая – только в 80 %. Невысокая корреляция была обнаружена и между дихотическим тестированием и тахистоскопическим предъявлением информации (Hines, Satz, 1974). Кроме того, повторное дихотическое или тахистоскопическое исследование не всегда дают одни и те же результаты.
Все это может быть обусловлено особенностями проводящей системы головного мозга испытуемых, их состоянием, типом изучаемых процессов при дихотическом и тахистоскопическом исследованиях, стратегией испытуемых в работе с тестовым заданием. Несогласованность результатов может объясняться скрытыми сдвигами внимания к одной стороне пространства при активации одного из полушарий (Kinsburne, 1974).
Позднее Д. Кимура показала, что правым ухом воспринимались лучше не только слова, но и любая вербальная информация, например, фонемы и слоги (Kimura, Folb, 1968). Кроме этого, она же описала и «эффект левого уха» для невербальной информации, которая лучше припоминались, если попадали в правое полушарие.
В течение долгого времени исследователи не фиксировали внимание на различии записей ЭЭГ при отведении от электродов, располагающихся слева и справа на голове. Это связано с неуверенностью в том, что под симметричными участками черепа располагаются симметричные участки мозга, а также с невысоким техническим уровнем обработки ЭЭГ. В конце 20 столетия благодаря возникновению компьютерной обработки произошел бум ЭЭГ исследований, направленных на оценку возможностей полушарий в когнитивных процессах.
Общим результатом использования разнообразных методик было знание того, что вся вербальная информация перерабатывается преимущественно в левом полушарии, невербальная – в правом. В настоящее время новые возможности позволяют одновременно оценивать результаты томографического исследования, ЭЭГ записей и химического анализа.
Эти эксперименты дали значительные результаты, которые позволили, с одной стороны, глубже понять работу полушарий мозга, с другой стороны, привели к разочарованию, поскольку не позволили свести их работу к простым схемам. Полушария не обнаруживают четкой дихотомии во владении теми или иными функциями.
Психофизиологическая асимметрия
Под психофизиологической асимметрией понимается своеобразие психической деятельности и сопровождающих ее физиологических процессов, связанных с активностью левого или правого полушарий. О необходимости разграничения мозговой и психической асимметрии неоднократно писали Т. А. Доброхотова и Н. Н. Брагина (2003; 2004).
За сто лет исследования функциональной асимметрии именно психофизиологические исследования принесли наиболее сенсационные результаты. Они были отмечены присуждением в 1981 г. Нобелевской премии американскому неврологу Р. У. Сперри. Используя комиссуротомию, позволившую разделить работу полушарий, он смог вычленить вклад каждого из них в познавательные процессы. Он предположил наличие в каждом полушарии мозга своей системы восприятия, намерений, различного опыта, собственной памяти и опыта познания, которые в зависимости от состояния могут быть доступными или недоступными для другого полушария. Из этого автор сделал вывод о возможности отдельного самосознания у каждого полушария (Sperry, 1982).
Анализируя в дальнейшем гипотезы о причинах возникновения функциональной асимметрии, можно четко проследить влияние метода, которым пользовались исследователи, и их собственной позиции на сделанные ими умозаключения. Р. У. Сперри использовал метод разделения полушария, поэтому полученные им фундаментальные результаты удобно интерпретировать с точки зрения их раздельной работы. Клинические работы существенно противоречат друг другу, поскольку в наблюдаемых симптомах отражается поражение как корковых, так и подкорковых структур, между которыми наблюдаются реципрокные отношения, а потому результат зависит от локализации конкретного повреждения. Данные, полученные позднее, при использовании новых неинвазивных методов все более и более свидетельствуют о значимости совместной деятельности полушарий, распределенной активности многих областей каждого из них, вносящей специфический вклад в определенную деятельность.


