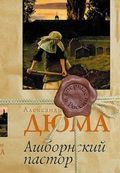Александр Дюма
Две Дианы
XXXIII. Смертный одр королей
Екатерина Медичи тоже в эту ночь не тратила даром времени. Она отправила к королю Наваррскому кардинала Турнонского и заключила с Бурбонами письменное соглашение. Затем до рассвета она приняла канцлера л’Опиталя, который сообщил ей о предстоящем приезде в Орлеан ее союзника – коннетабля. Она рассказала л’Опиталю все, что происходило в спальне короля, и тот обещал ей к девяти часам прибыть в большой зал ратуши, находившийся рядом с королевскими покоями, и привести с собой сторонников Екатерины. Наконец, она вызвала к половине девятого Шапелена и еще двух-трех королевских врачей, которые в силу собственной их посредственности ненавидели гениального Амбруаза Парэ.
Когда все предосторожности были приняты, она раньше всех появилась в комнате короля, который только что проснулся. Она сначала подошла к постели сына, постояла несколько мгновений, поникнув головой, как и подобает скорбящей матери, поцеловала его повисшую руку, уронила несколько слезинок и села в кресло с таким расчетом, чтобы не спускать с него глаз.
Герцог де Гиз вошел сразу же за ней. Обменявшись несколькими словами с Марией, он подошел к брату и спросил:
– Вы успели что-нибудь сделать?
– Увы, я ничего не добился.
– Счастье против нас. Сегодня с утра в приемной Антуана Наваррского толпится народ.
– Что слышно о Монморанси?
– Ничего. Очевидно, он подходит к городским воротам.
– Если Амбруазу Парэ не удастся операция, прощай, наше счастье, – уныло заметил Карл Лотарингский.
В это время появились врачи, приглашенные Екатериной Медичи.
Екатерина самолично подвела их к постели больного, у которого возобновились боли. Врачи один за другим обследовали больного, а потом отошли в угол комнаты посоветоваться между собой. Шапелен предлагал некую припарку, чтобы вытянуть гной наружу, двое других настаивали на том, чтобы влить в ухо какую-то микстуру.
Они как раз собирались остановиться на последнем средстве, когда вошел в сопровождении герцога де Гиза Амбруаз Парэ.
Обследовав состояние больного, Парэ присоединился к своим коллегам.
Амбруаз Парэ был личным врачом герцога де Гиза, его научная слава уже упрочилась, и с таким авторитетом, как у него, нельзя было не считаться. Врачи ему сообщили о своем решении.
– Тут лекарства бесполезны, – громко заявил Амбруаз Пара, – надо спешить, ибо гной вот-вот проникнет в мозг.
– Так поторопитесь же, ради всего Святого! – воскликнула Мария Стюарт, расслышав его слова.
Екатерина Медичи и оба брата Лотарингские подошли к врачам и включились в разговор. Шапелен обратился к Парэ:
– Можете ли вы предложить, мэтр, другие средства? Более верные, чем наши?
– Могу.
– Какие именно?
– Нужно сделать трепанацию черепа.
– Трепанацию черепа – королю? – в ужасе воскликнули все трое.
– А в чем она состоит? – спросил герцог де Гиз.
– Эта операция еще малоизвестна, ваша светлость, – отвечал Амбруаз. – Дело в том, чтобы неким инструментом проделать в боковой части черепной коробки небольшое отверстие, величиной с мелкую монету.
– Боже милосердный! – с негодованием вскрикнула Екатерина Медичи. – И вы осмелитесь занести нож над головой короля?!
– Осмелюсь, государыня!
– Но это же убийство! – продолжала Екатерина.
– Государыня, – доказывал ей Амбруаз, – пробуравить череп осторожно, по правилам науки, – это не то, что раздробить его тяжелым палашом! А разве мы не умеем залечивать раны!
– Но можете ли вы, мэтр, ручаться за жизнь короля? – спросил кардинал.
– Один бог волен в жизни и в смерти нашей. Вы это, господин кардинал, знаете лучше меня. Я могу вас заверить в другом: иного выхода нет! Это единственная возможность, но она, конечно, только возможность.
– Но, однако, вы говорите, что ваша операция может пройти удачно! Не так ли, Амбруаз? – обратился к нему герцог де Гиз. – Скажите, вам уже приходилось делать ее? И с каким успехом?
– Да, монсеньор. Совсем недавно я оперировал так господина де ла Бретеш, что проживает по улице Гарпий, под Красной Розой, а если угодно вашей светлости вспомнить, такую же операцию я сделал господину де Пьенн во время осады Кале…
Должно быть, Амбруаз Парэ не без умысла вспомнил об осаде Кале, ибо герцог де Гиз не мог остаться равнодушным к этому факту.
– А ведь и в самом деле… – сказал герцог де Гиз. – Ну что ж, теперь я уже не могу колебаться… На операцию я согласен!
– И я, – заявила Мария Стюарт.
– Но только не я! – воскликнула Екатерина.
– Государыня, но ведь вам говорят, что это последняя возможность! – возразила ей Мария.
– А кто говорит? – переспросила Екатерина. – Амбруаз Парэ – еретик! Другие врачи так не думают!
– Вот именно, государыня, – подтвердил Шапелен, – мы все возражаем против предложения мэтра Парэ.
– Вот видите! – торжествовала Екатерина.
Тогда герцог де Гиз, вне себя от бешенства, подошел к Екатерине, отвел ее в сторону и сдавленным шепотом сказал ей:
– Слушайте, государыня, ведь вы хотите, чтобы ваш сын умер и чтобы уцелел ваш принц Конде! Вы столковались с Бурбонами, с Монморанси! Сделка состоялась! Я знаю все! Берегитесь!
Но Екатерина была не из тех, кого можно запугать. Герцог де Гиз просчитался. Она поняла, что тут нужна решительность, если уж герцог стал играть в открытую. Она бросила на него испепеляющий взгляд, затем метнулась к двери и распахнула ее настежь:
– Канцлер, сюда!
Канцлер л’Опиталь, согласно приказанию, ожидал в соседнем зале; при нем были все сторонники Екатерины Медичи, каких ему удалось собрать.
Услышав возглас Екатерины, он двинулся вперед. У открытой двери столпились любопытные придворные.
– Господин канцлер, – повысила голос Екатерина, – над особой короля желают произвести операцию, тяжелую и безнадежную. Мэтр Парэ намеревается просверлить ему голову каким-то инструментом. Я, мать короля, и со мною три врача… мы не допустим этого преступления. Учтите это, господин канцлер!
– Закрыть дверь! – крикнул герцог де Гиз.
Несмотря на ропот придворных, Габриэль все же захлопнул дверь. Канцлер остался в королевской спальне.
– Господин канцлер, – обратился к нему герцог де Гиз, – примите к сведению, что операция эта необходима и что мы, королева и я, ручаемся если не за исход ее, то за мастерство хирурга.
– А я, – воскликнул Амбруаз Парэ, – беру на себя всю ответственность, какая падет на меня! Да, я отдам свою жизнь, если не сумею спасти жизнь короля! Но время проходит! Посмотрите на короля!
И в самом деле, Франциск II лежал бледный, неподвижный. Казалось, что он уже ничего не видит, ничего не слышит. Он даже не отвечал на слова Марии, обращенные к нему.
– Так поторопитесь же, – сказала Мария Амбруазу, – поторопитесь, во имя господа! Попытайтесь спасти жизнь короля!
Канцлер невозмутимо заявил:
– Я не могу вам препятствовать, но мой долг велит мне учесть пожелание королевы Екатерины.
– Господин л’Опиталь, вы больше не канцлер, – холодно произнес герцог де Гиз и обратился к хирургу: – Действуйте, Амбруаз!
– Тогда мы, врачи, удаляемся, – сказал Шапелен.
– Пусть так, – отвечал Амбруаз. – Но теперь я требую абсолютной тишины. С вашего позволения, господа, лучше бы всем вам выйти. Если я здесь хозяин, мне одному за все и отвечать.
За эти минуты Екатерина Медичи не проронила ни слова. Она неподвижно стояла у окна и смотрела на двор ратуши, откуда доносился какой-то шум. Но в комнате на этот шум никто не обратил внимания.
Все напряженно следили за Амбруазом Парэ, который с завидным самообладанием готовил инструменты.
Но едва он наклонился над постелью Франциска, шум снаружи усилился и докатился до соседнего зала. Злобная, торжествующая улыбка пробежала по бледным устам Екатерины. Дверь с силой распахнулась, и коннетабль Монморанси в полном вооружении показался на пороге.
– Вовремя! – вскричал он.
– Что это значит? – произнес герцог де Гиз, хватаясь за клинок.
Амбруаз Парэ поднял голову и остановился. Двадцать дворян, сопровождавших Монморанси, ворвались вместе с ним в королевскую спальню. Вполне понятно, что в этих условиях удалить их из комнаты было просто невозможно.
– Если так, – с досадой буркнул Амбруаз Парэ, – я отказываюсь от операции!
– Мэтр Парэ! – вскричала Мария Стюарт. – Я королева! Я вам приказываю подготовить операцию!
– Государыня, я же говорил: основное условие – полная тишина, а здесь сейчас… – и хирург указал на коннетабля с его свитой.
– Господин Шапелен, – потребовал коннетабль, – примените ваше средство.
– Сию же минуту, – засуетился Шапелен. – У меня все готово.
И с помощью двух своих собратий он немедленно влил микстуру в ухо королю.
Мария Стюарт, Гизы, Габриэль, Амбруаз ничего не смогли поделать. Растерянные, окаменевшие от ужаса и собственного бессилия, они молчали. Зато говорил коннетабль:
– Вот и хорошо! И подумать только: без меня вы успели бы раскроить череп королю! Нет, уж предоставьте королям Франции умирать на полях сражений и пусть разит их меч врага, но только не нож хирурга!
Потом, упиваясь смятением герцога де Гиза, он добавил:
– Я прибыл, благодарение господу, как раз вовремя! Вы хотели, как мне сказали, отрубить голову принцу Конде, моему милейшему племяннику! Но вы разбудили старого льва в его логовище – и вот он здесь! Я освободил принца, договорился с запуганными вами Генеральными штатами и, как коннетабль, снял часовых, которых вы поставили у ворот Орлеана! С каких это пор охраняют у нас короля от собственных его верноподданных!
– О каком короле вы говорите? – спросил Амбруаз Парэ. – Скоро у нас будет другой король – Карл Девятый! Посмотрите, господа, – обратился он к врачам, – несмотря на вашу знаменитую микстуру, гной прорвался внутрь и теперь проникает в мозг…
По скорбному виду Амбруаза Екатерина поняла – все кончено.
– Вот и конец вашему царствованию! – не сдержавшись, сказала она герцогу де Гизу.
Франциск II в это мгновение резко привстал, широко открыл испуганные глаза, беззвучно произнес чье-то имя и тяжело рухнул на подушку.
Он был мертв.
Горестный жест Амбруаза Парэ подтвердил это.
– Это вы, государыня, убили свое дитя! – В ужасе и отчаянии Мария Стюарт бросилась к Екатерине.
Но та, впившись в свою невестку ледяным взглядом, злобно ответила:
– Вы, моя милая, не имеете больше права так разговаривать! Вы больше не королева! Ах, впрочем, вы королева Шотландии! Так мы и отправим вас туда. Царствуйте себе на здоровье среди ваших туманов.
После бурного порыва скорби силы вдруг изменили Марии, и с рыданиями она упала к подножию постели, на которой покоился король.
– Госпожа де Фиеск, – совершенно спокойно приказала Екатерина, – извольте немедленно разыскать герцога Орлеанского. А вы, господа, – обратилась она к герцогу де Гизу и кардиналу, – знайте, что Генеральные штаты, которые еще четверть часа назад были на вашей стороне, сейчас стоят за нас! Мы с герцогом Бурбонским постановили: я буду правительницей, он – главнокомандующим! Господин де Гиз, поскольку вы еще в должности великого магистра, извольте исполнить ваш долг: объявите о смерти короля Франциска Второго.
– Король скончался, – глухо произнес герцог.
И герольд повторил на пороге большого зала, как требовал обычай:
– Король скончался! Король скончался! Король скончался! Молите господа о спасении его души!
И тотчас же первый придворный сановник воскликнул:
– Да здравствует король!
Тогда госпожа де Фиеск подвела маленького герцога Орлеанского к королеве Екатерине, и та, взяв его за руку, вывела в залу и показала придворным.
– Да здравствует наш добрый король Карл Девятый! – раздались их крики.
Кардинал и герцог остались одни.
– Так и кончилось наше счастье! – печально покачал головой кардинал.
Честолюбивый герцог возразил:
– Наше – возможно, но не нашего дома! Мы еще проложим дорогу для моего сына.
– Как бы нам снова сговориться с королевой Екатериной? – озабоченно спросил Карл Лотарингский.
– Подождем, когда она рассорится со своими Бурбонами и гугенотами.
И, продолжая разговор, они покинули комнату через потайную дверь.
Мария Стюарт в это время целовала восковую руку Франциска:
– Увы! Никто, кроме меня, не плачет над тобой! Бедный ты мой, ты так любил меня!
– Но я тоже здесь, государыня, – с глазами, полными слез, сказал Габриэль де Монтгомери, все время державшийся в стороне.
– О, благодарю вас! – признательно взглянула на него Мария.
– Но я не только буду оплакивать его, – прошептал Габриэль, следя издали, как важно выступает Монморанси рядом с Екатериной Медичи. – Вполне возможно, что я отомщу не только за него! Если коннетабль снова стал всемогущ, мы еще с ним поборемся!
XXXIV. Прощай, франция!
Восемь месяцев спустя после кончины Франциска II, 15 августа 1561 года, Мария Стюарт готовилась к отплытию из Кале в Шотландию.
В течение этого времени она каждый день и каждый час противилась настояниям не только Екатерины Медичи, но даже и своих дядюшек, жаждавших удалить ее из Франции. Мария никак не могла решиться расстаться с этой милой ее сердцу страной, где она была счастлива и любима.
Несмотря на свою скорбь, она побывала по приглашению своего дядюшки кардинала Лотарингского в Реймсе и там, в Шампани, оставалась до весны. Потом, когда религиозная смута докатилась до Шотландии, она наконец решилась на отъезд. В решении этом сыграла свою определенную роль и ненависть Екатерины Медичи, преследовавшая ее всюду.
Итак, в июле она простилась со двором в Сен-Жермене.
В качестве вдовствующей королевы она получила ренту в двадцать тысяч ливров от доходов Турени и Пуату. Кроме того, при ней было множество драгоценностей. Такая добыча вполне могла бы соблазнить какого-нибудь «джентльмена удачи». Можно было также опасаться какого-либо выпада со стороны Елизаветы Английской, уже видевшей в молодой шотландской королеве свою соперницу. Поэтому несколько человек из дворян вызвались проводить Марию до ее резиденции. Прибыв в Кале, она увидела там не только своих дядюшек, но и многих блестящих придворных.
В порту уже стояли наготове две галеры, но тем не менее она провела в Кале еще шесть дней, ибо все провожавшие ее никак не могли с нею расстаться. Отплытие назначили на 15 августа. День выдался какой-то грустный, серый, хотя дождя и ветра не было. На берегу Мария, желая поблагодарить всех провожающих, каждому протянула руку для прощального поцелуя. И все подходили и почтительно, преклонив колено, касались губами этой прелестной руки. Последним подошел какой-то человек, следовавший за Марией от самого Сен-Жерменского предместья. Закутавшись в плащ и надвинув шляпу, он ехал позади всех и ни с кем не разговаривал.
Но когда он преклонил колено и обнажил голову, Мария узнала Габриэля де Монтгомери.
– Как, граф, это вы? Верный друг, я счастлива видеть вас! Как бы мне хотелось выразить свою признательность не только словами, но – увы! – здесь у меня нет другой возможности. Если бы вы согласились последовать со мной в бедную мою Шотландию…
– Таково и мое желание, – порывисто воскликнул Габриэль, – но одна важная причина удерживает меня во Франции. Есть некая особа, которая мне дорога и священна… я не встречался с ней два года, и она в это время…
– Неужели вы говорите о Диане де Кастро? – перебила его Мария.
– О ней, государыня. В прошлом месяце в Париже я получил от нее письмо. Она назначила мне свидание в Сен-Кантене 15 августа. Однако я смогу прибыть туда только завтра. Не знаю, зачем она меня призывает, но убежден: она не станет упрекать меня за то, что я хотел проститься с вами.
– Милая Диана! – задумчиво молвила Мария. – И она меня тоже любила, и она мне была сестрой. Возьмите и передайте ей от меня этот перстень. И поскорей поезжайте к ней. Возможно, она нуждается в вашей помощи. Прощайте! И вы, друзья мои, прощайте! Меня ждут.
Она решительно ступила на сходни. За нею поднялись на борт судна те, кто отправлялся с нею в Шотландию. Отирая слезы, она махала платком родным и друзьям, остававшимся на берегу. Наконец, когда галера вышла в открытое море, она заметила какое-то большое судно, входившее в порт. Но вдруг судно это ни с того ни с сего наклонилось вперед и, будто напоровшись на подводный камень, стало быстро погружаться в море. Это произошло так стремительно, что с галеры даже не успели спустить шлюпку. Через минуту морская пучина поглотила судно со всей его командой.
– Всемогущий боже! – воскликнула Мария. – Какое ужасное предзнаменование!
В это время ветер посвежел, и галера пошла под парусами. Берег таял на глазах у Марии, и она, опершись о перила, смотрела в сторону гавани, без конца повторяя:
– Прощай, Франция! Прощай, Франция!
Так она простояла до самой темноты, а когда ее пригласили к ужину, она в порыве отчаяния безудержно зарыдала:
– Прощай, моя дорогая Франция! Я не увижу тебя никогда!
Потом, отказавшись от ужина, она ушла в свою каюту, попросив рулевого разбудить ее утром, если покажется берег.
На сей раз судьба улыбнулась Марии: ветер стих, судно еле двигалось на веслах, и поэтому, когда день занялся, Франция была еще видна.
Когда рулевой постучал в каюту королевы, она была уже одета и, сидя на постели, смотрела в раскрытое окно на далекий, дорогой ее сердцу берег. Но радость ее была непродолжительна: ветер окреп, и вскоре Франция скрылась из виду. На море лег густой, плотный туман. Пришлось плыть наудачу, стараясь держаться нужного курса. И когда на третий день туман рассеялся, выяснилось, что вокруг судна громоздились скалы, и если бы оно продвинулось еще на два кабельтова, то непременно бы разбилось. Лоцман, измерив глубину, определил, что они находятся у берегов Шотландии, и галера, искусно лавируя между скал, наконец бросила якорь в одном из портов неподалеку от Эдинбурга.
Среди свиты Марии были остроумцы, которые говорили, что под покровом тумана она прибыла в страну, полную смут и смятений. Марию никто не ждал, и, чтобы добраться до Эдинбурга, ей вместе со свитой пришлось трусить на деревенских лошаденках. При виде этих кляч Мария невольно вспомнила породистых скакунов, на которых она гарцевала во время королевской охоты. Она уронила еще несколько скудных слезинок, сравнивая покинутую страну с той, в какой она теперь находилась. Но вот она улыбнулась сквозь слезы и сказала:
– Нужно запастись терпением тому, кто меняет рай на преисподнюю.
Так прибыла Мария Стюарт в Англию, которая, словно роковой палач, лишит ее впоследствии жизни.
Эпилог
Лишь на следующий день, 16 августа, Габриэль прибыл в Сен-Кантен. У городских ворот он увидел поджидавшего его Жана Пекуа.
– Вот и вы, господин граф! – обрадовался ткач. – Я так и думал, что вы приедете. Жаль только, что опоздали. Жаль!
– Опоздал?.. Но почему? – встревожился Габриэль.
– Да разве госпожа де Кастро не звала вас приехать пятнадцатого?
– Звала, но она отнюдь не настаивала именно на этом числе и совсем не сообщила, для чего я ей нужен.
– Так вот, господин граф, – объявил Жан Пекуа, – именно вчера, пятнадцатого августа, госпожа де Кастро постриглась в монахини.
У побледневшего Габриэля вырвался болезненный стон.
– Да, и если бы вы поспели вовремя, – продолжал Жан Пекуа, – вы бы как раз и помешали тому, что произошло.
– Нет, – еще больше помрачнел Габриэль, – я бы не смог это сделать, я бы сам не захотел помешать этому. Очевидно, само провидение задержало меня в Кале! Если бы я был здесь, то она, вручая себя богу, страдала бы от моего присутствия еще сильнее, чем от полного одиночества в эту торжественную минуту.
– Ну, одинокой-то она все-таки не была, – заметил Жан Пекуа.
– Конечно, – согласился Габриэль, – с нею были вы, Бабетта, ее друзья…
– Не только мы, – перебил его Жан Пекуа, – при ней находилась также и ее матушка.
– Что? Госпожа де Пуатье? – вскричал Габриэль.
– Да, господин граф, госпожа де Пуатье, она самая… Получив письмо от дочери, она поспешила сюда и уже вчера присутствовала при обряде… Она, наверно, и сейчас с новопостриженной.
Габриэль остолбенел от ужаса.
– Почему же она позвала к себе эту женщину?
– Но, ваша милость, ведь эта женщина – как-никак ее мать…
– Какая ерунда! – разъярился Габриэль. – Теперь я вижу, что мне действительно надо было быть здесь! Госпожа де Пуатье явилась сюда явно не для доброго дела! Я иду в бенедиктинский монастырь. Мне нужно во что бы то ни стало видеть госпожу де Кастро. Думается, что и она нуждается во мне! Идемте скорей!
Габриэля де Монтгомери ждали со вчерашнего дня и поэтому тут же пропустили в приемную монастыря. Там уже находилась Диана со своею матерью. Габриэль вновь увидел ее после долгой разлуки и, словно сраженный неодолимым вихрем, рухнул на колени перед решеткой, разделявшей их.
– Сестра моя… сестра моя… – только и мог он сказать.
И услышал в ответ ее ласковый голос:
– Брат мой!
Одинокая слеза медленно скатилась по ее щеке, хотя на губах ее и играла отрешенная улыбка.
Повернув голову, Габриэль заметил и другую Диану – госпожу де Пуатье. Она смеялась, и это был сатанинский смех.
Габриэль ответил ей лишь презрительным взглядом и снова обернулся к сестре Бени, тоскливо повторяя:
– Сестра моя…
Тогда Диана де Пуатье холодным и бесстрастным тоном спросила:
– Полагаю, что вы разумеете свою сестру во Христе, обращаясь к той, кого еще вчера называли герцогиней де Кастро?
– Что вы хотите сказать? Боже правый, что вы хотите сказать? – вздрогнул Габриэль.
Диана де Пуатье, не отвечая ему, обратилась к своей дочери:
– Дитя мое, кажется, настало время открыть вам тайну, на которую я вчера лишь намекала, а сегодня не должна и не могу больше скрывать от вас.
– О чем вы говорите? – обезумев, вскрикнул Габриэль.
– Дитя мое, – так же спокойно продолжала госпожа де Пуатье, – я приехала сюда из уединения, в котором по милости господина де Монтгомери пребываю два года… да, я приехала сюда не только для того, чтобы вас благословить… Сегодня, дитя мое, я нарушаю свое молчание! По скорби и по пылкости господина де Монтгомери ясно видно, что он без ума от вас. Так пусть же он забудет вас! Если он будет лелеять надежду на то, что вы – дочь графа де Монтгомери, то мысли его всегда будут возвращаться к вам… И это было бы преступлением. Преступлением, в котором я не хочу быть соучастницей! Итак, знайте, Диана: вы не сестра графа, а вы дочь короля Генриха Второго.
– О боже! – закрыла лицо руками Диана.
– Вы лжете! – гневно вскричал Габриэль. – Где доказательства?
– Вот! – И Диана де Пуатье, вынув из-за корсажа записку, протянула ему ее.
Габриэль судорожно схватил записку.
Между тем госпожа де Пуатье продолжала как ни в чем не бывало:
– Это письмо, как вы можете убедиться, было написано вашим отцом за несколько дней до его заточения. В нем он жалуется на то, что я была слишком неприступна, но тем не менее примиряется с этим, ибо верит, что скоро я стану его женой. О, в подлинности этого письма усомниться невозможно: ведь это его выражения, его почерк, не считая уже даты, которой оно помечено. Теперь вы видите, господин де Монтгомери, насколько преступны были ваши мечты о сестре Бени! Вы ни единой каплей крови не связаны с той, кто отныне Христова невеста!.. Теперь мы вполне в расчете, граф. Больше мне нечего вам сказать!
Прочитав письмо, Габриэль сам убедился: здесь не могло быть никакой ошибки. Габриэлю казалось, будто голос его отца из глубины могилы вещает ему истину.
Когда же он оторвал от письма воспаленный взгляд, то увидел, что Диана де Кастро, потеряв сознание, лежит у подножия аналоя. Он бросился к ней, но лишь натолкнулся на железные прутья решетки. Тогда он обернулся и увидел Диану де Пуатье. Она удовлетворенно улыбалась.
Теряя рассудок, он поднял на нее руку… Но, опомнившись, ударил себя по лбу и как безумный пустился бежать, на ходу восклицая: «Прощай, Диана, прощай!» Он боялся, что если задержится хоть на мгновение, то раздавит, как ядовитую змею, эту бесчестную мать!..
У ворот монастыря его ждал обеспокоенный Жан Пекуа.
– Не расспрашивай меня! Не говори со мной! – воскликнул Габриэль в каком-то исступлении.
Однако Пекуа смотрел на него с таким горестным сочувствием, что Габриэль тут же смягчился:
– Простите меня, я и в самом деле близок к помешательству. О, лучше мне ни о чем не думать!.. Да, да… для этого я скроюсь, я убегу в Париж… Проводите меня, если хотите, до городских ворот. И сделайте милость, не расспрашивайте меня, а расскажите лучше о своих делах…
Жану Пекуа очень хотелось отвлечь Габриэля от мрачных мыслей, и он поведал, что Бабетта чувствует себя превосходно и недавно подарила ему великолепного бутуза, что их брат Пьер собирается открыть новую оружейную мастерскую в Сен-Кантене и, наконец, что один пикардийский солдат, возвращавшийся к себе на родину, рассказывал о Мартен-Герре, который счастливо живет со своей умиротворенной Бертрандой.
Впрочем, Габриэль, ослепленный своим горем, слушал его плохо. Когда они подошли к парижской заставе, он сердечно пожал руку Жану Пекуа:
– Прощайте, друг мой, и спасибо за ваше доброе отношение. Передайте от меня привет всем, кто вам дорог. Я рад, что вы счастливы. Вспоминайте же хоть ненароком обо мне.
И, заметив, что в глазах Жана Пекуа блеснули слезы, Габриэль, не дожидаясь ответа, вскочил в седло и ускакал.
На следующий день он явился к адмиралу Колиньи.
– Адмирал, – сказал он, – я знаю, что религиозные гонения и войны незамедлительно возобновятся, несмотря на все попытки их предотвратить. Прошу учесть, что отныне я могу отдать делу Реформации не только свою мысль, но и шпагу. В ваших рядах мне будет легче защититься от одного из моих врагов и покарать другого…
Габриэль подразумевал Екатерину Медичи и коннетабля.
Нужно ли говорить, с какой радостью принял Колиньи товарища по оружию, доблесть и энергия которого были проверены им не раз. С того времени история жизни графа совпадает с историей религиозных войн, которые залили страну кровью при Карле IX.
В этих войнах Габриэль де Монтгомери обрел славу неустрашимого и грозного воина, и недаром при получении известия о каком-нибудь важном сражении Екатерина Медичи всегда бледнела, услыхав его имя.
Общеизвестно, что после резни в Васси[68] в 1562 году Руан и вся Нормандия открыто присоединились к гугенотам. Главным виновником этого грандиозного мятежа по праву считали графа Монтгомери.
В том же году он участвовал в битве под Дрё, где проявил чудеса храбрости.
Говорили, будто именно он выстрелом из пистолета ранил главнокомандующего коннетабля Монморанси и прикончил бы его, если бы принц де Порсиен не выручил коннетабля, взяв его в плен.
Известно также, что месяц спустя после этого сражения герцог де Гиз, вырвавший победу из неловких рук коннетабля, был коварно убит под Орлеаном неким фанатиком по имени Польтро. Тем самым Монморанси избавился от соперника, но в то же время потерял и союзника, и в битве под Сен-Дени в 1567 году ему уже не удалось отделаться легким испугом, как под Дрё.
Шотландец Роберт Стюарт вызвал его на дуэль, в ответ на что коннетабль ударил его эфесом шпаги прямо в лицо. Но в тот же момент кто-то выстрелил сбоку, и смертельно раненный коннетабль свалился с коня. В кровавом облаке, застилавшем ему глаза, он успел еще различить Габриэля де Монтгомери.
На следующий день коннетабль скончался.
Теперь у Монтгомери не было больше прямых врагов, но он не смягчил свои удары. Он казался непобедимым и неуловимым.
Когда Екатерина Медичи спросила, кто вернул Беарн под власть королевы Наваррской и сделал принца Беарнского генералиссимусом гугенотов, ей ответили:
– Граф де Монтгомери!
Когда на следующий день после Варфоломеевской ночи, в 1572 году, ненасытная в своей жажде мести Екатерина расспрашивала не о тех, кто погиб, а о тех, кто уцелел, первое имя, которое ей назвали, было именем графа де Монтгомери.
Монтгомери вместе с Лану бросился в Ла-Рошель. Ла-Рошель выдержала девять приступов, а королевская армия потеряла сорок тысяч человек убитыми и ранеными. Она почетно капитулировала, и Габриэль вышел оттуда цел и невредим.
Затем он помчался в Сансерр, осажденный губернатором Берри. В деле осады крепостей, как мы помним, Габриэль кое-что смыслил. Горсть сансеррцев, не имевших никакого оружия, кроме железных палок, в течение четырех месяцев противостояла шеститысячному корпусу. Они сдались лишь при одном условии: им были, как и ларошельцам, сохранены свобода совести и личная безопасность. Екатерина Медичи с возрастающей яростью видела, как ускользает от нее давнишний неуловимый враг.
Монтгомери покинул пылающий Пуату и явился в только что успокоившуюся Нормандию, дабы снова разжечь в ней пожар войны.
Выехав из Сен-Ло, он в течение трех дней взял Карантан и завладел валонским арсеналом. Все нормандское дворянство стало под его знамена.
Екатерина Медичи и король немедленно снарядили в путь три армии и объявили в Мане и Перше призыв двух возрастов. Во главе королевских войск стал герцог де Матиньон.
На этот раз, создав армию на манер королевской, Габриэль сам не командовал, а смешался с простыми протестантами и искал только одного – встречи с Карлом IX. Он составил замечательный план, суливший протестантам блестящую победу. Предоставив Матиньону со своим войском осаждать Сен-Ло, он тайком выбрался из города и направился в Домфрон, куда Франциск де Гелло должен был привести под его начало все дворянство Бретани и Анжу. С этими соединенными силами он собирался неожиданно обрушиться на королевские войска под Сен-Ло и полностью уничтожить их.
Но измена губит и непобедимых. Какой-то шпион оповестил Матиньона о тайном отъезде Монтгомери в Домфрон во главе отряда из сорока всадников.
Матиньону не так было важно взять Сен-Ло, как захватить Монтгомери. Он поручил осаду Сен-Ло одному из своих лейтенантов, а сам, захватив с собой два полка, шестьсот всадников и сильную артиллерию, ринулся к Домфрону.
В таких условиях всякий другой сдался бы без боя, но Габриэль де Монтгомери со своими людьми решил помериться силами с этой армией.
Двенадцать дней сопротивлялся Домфрон, семь яростных вылазок сделал граф де Монтгомери… Наконец, когда неприятель ворвался в стены города, Габриэль укрылся в башне, носившей имя «Гилльо де Беллем», чтобы там сопротивляться до конца.
Теперь с ним было не больше тридцати человек. Матиньон бросил на штурм башни целую батарею из пяти пушек крупного калибра, сотню кирасиров, семьсот мушкетеров и сотню пикейщиков.
Штурм длился пять часов, шестьсот ядер выпущено было по старому замку. К вечеру у Габриэля осталось шестнадцать человек, но он еще держался. Ночью он вместе с остальными забивал проломы в стенах, как простой каменщик.
Утром штурм возобновился. За ночь Матиньон получил подкрепление.
Мужества у осажденных было хоть отбавляй, но порох кончился.
Монтгомери, чтобы не попасть живым в руки врагов, хотел было пронзить себя шпагой, но Матиньон отправил к нему парламентера, который поклялся от имени своего начальника, что ему будет сохранена жизнь и дана возможность удалиться.