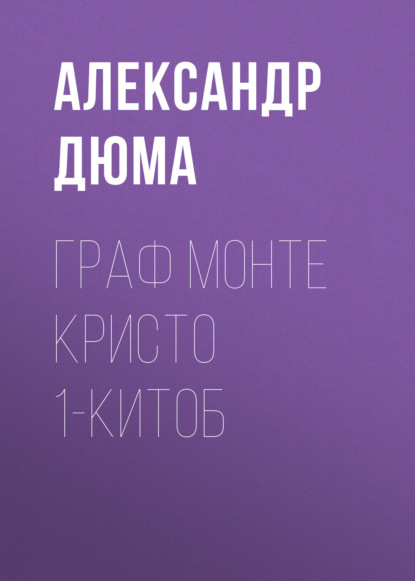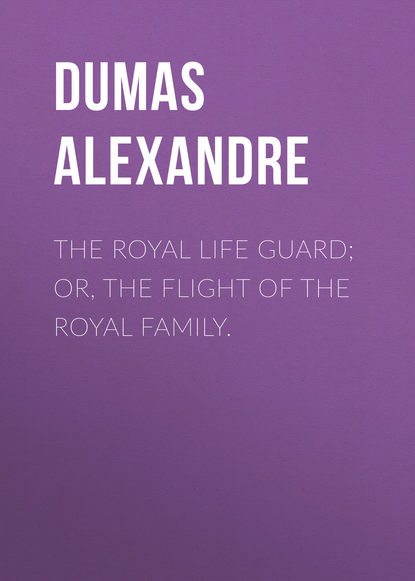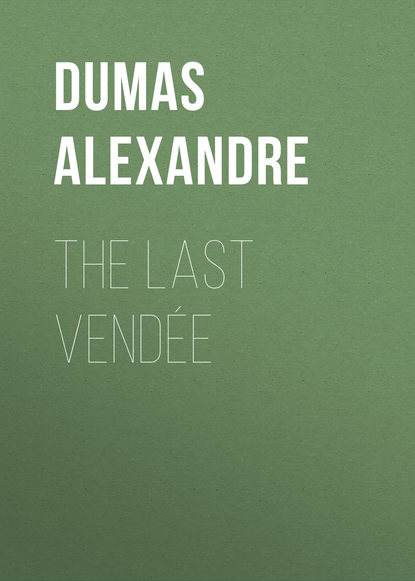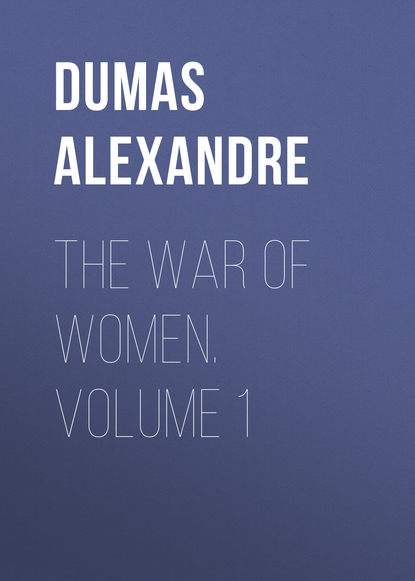Полная версия:
Александр Дюма Две Дианы
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Дюма
Две Дианы
Часть первая
I. Графский сын и королевская дочь
Случилось это 5 мая 1551 года. Восемнадцатилетний юноша и женщина лет сорока вышли из скромного сельского домика и неторопливо зашагали по улице деревушки, именуемой Монтгóмери.
Молодой человек являл собою великолепный нормандский тип: каштановые волосы, синие глаза, белые зубы, яркие губы. Свежесть и бархатистость его кожи придавали некоторую изнеженность, чуть ли не женственность, его красоте. Сложен он был, впрочем, на диво: крепок в меру и гибок, как тростник. Одежда его была проста, но изящна. На нем ловко сидел камзол темно-лилового сукна, расшитый шелком того же цвета; из такого же сукна и с такою же отделкой были его рейтузы; высокие черные сапоги, какие обычно носили пажи и оруженосцы, поднимались выше колен; бархатный берет, сдвинутый набок, оттенял его высокий лоб, на котором лежала печать не только спокойствия, но и душевной твердости.
Верховая лошадь, которую он вел за собою на поводу, вскидывала по временам голову и, раздувая ноздри, ржала.
Женщина по своему виду принадлежала если не к крестьянскому сословию, то, вероятно, к промежуточному слою между крестьянами и буржуа. Юноша несколько раз просил ее опереться на его руку, однако она всякий раз отказывалась, словно по своему положению считала себя недостойной такой чести.
Пока они шли по улице, ведшей к замку, который величаво вздымался над скромной деревушкой, нетрудно было заметить, что не только молодежь и взрослые, но и старики низко кланялись проходившему мимо них юноше. Каждый словно признавал в нем господина и повелителя. А ведь этот молодой человек, как мы сейчас увидим, сам не знал, кто он такой.
Выйдя за околицу, они свернули на дорогу или, вернее, на тропинку, круто ведущую в гору. Идти по ней рядом было просто невозможно, а поэтому – впрочем, только после некоторых колебаний и настойчивых просьб молодого человека – женщина пошла впереди.
Юноша молча двинулся за ней. На его задумчивом лице лежала тень какой-то тяжкой заботы.
Красив и грозен был замок, куда направлялись эти два путника, столь различные по возрасту и положению. Потребовалось четыре века и десять поколений, чтобы вся эта каменная громада сама стала господствовать над горою. Как и все строения той эпохи, замок графов Монтгомери отнюдь не представлял собой единого архитектурного ансамбля. Он переходил от отца к сыну, и каждый владелец, исходя из своих прихотей или потребностей, что-нибудь добавлял к этому исполинскому нагромождению камней. Квадратная башня, главная цитадель замка, сооружена была еще при герцогах Нормандских.[1] Затем к суровой твердыне стали присоединяться башенки с изящными зубцами, с резными оконницами, и вся эта резьба по камню с годами плодилась и умножалась. Наконец, длинная галерея с готическими окнами, построенная в конце царствования Людовика XII и в начале правления Франциска I,[2] завершила собою многовековое нагромождение.
Но вот путники наши подошли к главным воротам.
Странная вещь! Вот уже пятнадцать лет у этого великолепного замка не было владельца. Старый управляющий все еще взимал арендную плату, а слуги, уже постаревшие, все еще поддерживали порядок в замке, каждое утро отпирая ворота, словно в ожидании прихода хозяина, и каждый вечер их запирая, словно хозяин отложил свое возвращение до утра.
Управляющий принял обоих посетителей с тем дружелюбием, с каким относились все к этой женщине, и с тем почтением, какое все, по-видимому, питали к этому юноше.
– Господин Элио, – обратилась к нему женщина, – не позволите ли вы нам войти в замок? Мне нужно кое-что сказать господину Габриэлю, – показала она на юношу, – а сказать ему это я могу только в парадном зале.
– Какие могут быть разговоры, госпожа Алоиза! Конечно, входите, – сказал Элио, – и где угодно скажите молодому господину все, что у вас на сердце.
Они миновали караульную, прошли по галерее и вошли наконец в парадный зал.
Он был обставлен точно так же, как и в тот день, когда его покинул последний владелец. Но в этот зал, где некогда собиралась вся нормандская знать, уже пятнадцать лет никто не входил, кроме слуг.
Вот в него-то и вошел не без волнения Габриэль (читатель, надеемся, не забыл, что так назвала женщина молодого человека). Однако впечатление, произведенное на него мрачными стенами, величественным балдахином, глубокими оконницами, не смогло отвлечь его мысль от основной цели, приведшей его сюда, и, едва только за ними затворилась дверь, он сказал:
– Ну, добрая моя кормилица, хотя ты, кажется, и взволнована сильнее меня, теперь отступать уже некуда: придется тебе рассказать то, о чем обещала. Говори без страха, а главное – не медли. Хватит колебаться, да и мне не след ждать. Когда я спрашивал тебя, какое имя вправе я носить, из какой семьи я вышел, кто мой отец, ты отвечала мне: «Габриэль, я скажу вам это все в день, когда вам исполнится восемнадцать лет. Тогда вы станете совершеннолетним и будете иметь право носить шпагу». И вот сегодня, пятого мая тысяча пятьсот пятьдесят первого года, мне исполнилось восемнадцать лет и я потребовал от тебя соблюдения слова, но ты с ужасающей торжественностью ответила: «Не в скромном доме вдовы бедного конюшего должна я открыть вам глаза на то, кто вы такой, а в парадном зале замка графов Монтгомери!» И вот мы взобрались на гору, перешагнули порог замка родовитых графов и теперь находимся в парадном зале. Говори же!
– Садитесь, Габриэль. Вы ведь позволите мне еще раз назвать вас так?
Юноша в порыве глубокой признательности сжал ее руки.
– Не садитесь ни на этот стул, ни на это кресло, – продолжала она.
– Куда же мне сесть, кормилица? – удивился юноша.
– Под этот балдахин, – произнесла Алоиза с какой-то особой торжественностью.
Юноша повиновался.
Алоиза кивнула ему:
– Теперь выслушайте меня.
– Но и ты сядь, – попросил Габриэль.
– Вы позволяете?
– Ты что, издеваешься надо мной, кормилица?
Алоиза присела на ступенях у ног молодого человека, и он бросил на нее внимательный взгляд, полный благожелательности и любопытства.
– Габриэль, – начала кормилица, решившись наконец заговорить, – вам едва минуло шесть лет, когда вы потеряли отца. В тот же год я овдовела. Я выкормила вас: ваша мать умерла, произведя вас на свет, а я, ее молочная сестра, с того же дня полюбила вас, как родное дитя. Вдова посвятила свою жизнь сироте.
– Дорогая Алоиза, – воскликнул юноша, – клянусь тебе, не всякая мать сделала бы для своего ребенка то, что сделала ты для меня!
– Впрочем, – продолжала кормилица, – не я одна заботилась о вас. Господин Жаме де Круазик, досточтимый капеллан[3] этого замка, недавно почивший в бозе, старательно обучал вас грамоте и наукам, и никто, по его словам, не может вас упрекнуть по части чтения, письма и знакомства с историей прошлого… Ангерран Лориан, близкий друг моего покойного мужа, научил вас ездить верхом и владеть оружием, копьем и шпагой – словом, всем рыцарским искусствам, и уже два года назад в Алансоне на состязаниях по случаю коронации нашего государя Генриха Второго вы доказали, что хорошо восприняли уроки Ангеррана. Я же, бедная невежда, могла только любить вас и учить страху божьему. И ныне, восемнадцати лет от роду, вы – благочестивый христианин, ученый господин, мастер в ратном деле, и я надеюсь, что с помощью божьей вы будете достойны ваших предков, монсеньор Габриэль де Лорж, граф де Монтгомери.
Габриэль порывисто вскочил:
– Я – граф де Монтгомери! – Затем горделиво улыбнулся: – Что ж, я так и думал, я почти догадывался об этом. Знаешь, Алоиза, этими своими детскими мечтами я как-то поделился с маленькой Дианой… Но почему ты сидишь у ног моих, Алоиза? Встань, обними меня, святая женщина. Неужели ты перестанешь теперь смотреть на меня как на свое дитя только потому, что я наследник рода Монтгомери? Наследник Монтгомери! – с невольной гордостью повторил он, обнимая свою кормилицу. – Наследник Монтгомери! Стало быть, я ношу одно из самых древних и самых громких имен Франции… Одною из армий Вильгельма Завоевателя командовал Роже Монтгомери; один из крестовых походов на свои средства совершил Гильом Монтгомери… Нас связывают родственные узы с королевскими домами Шотландии и Франции, и меня будут называть своим родичем знатнейшие лорды Лондона и знаменитейшие представители парижской знати! Наконец, мой родитель…
Тут юноша оборвал свою речь, словно наткнувшись на препятствие. Но тотчас же снова заговорил:
– Увы, несмотря на все это, Алоиза, я одинок в этом мире. Я, отпрыск стольких царственных предков, – бедный сирота, лишенный отца! А моя мать! Умерла и она! О, расскажи мне про них, чтобы я знал, какие они были! Начни с отца. Как погиб он? Расскажи мне об этом.
Алоиза ничего не ответила. Габриэль изумленно взглянул на нее.
– Я спрашиваю тебя, кормилица, как погиб мой отец? – повторил он.
– Монсеньор! Это знает, быть может, один лишь господь бог. Граф Жак де Монтгомери однажды ушел из своего особняка в Париже и не вернулся обратно. Друзья и родственники тщетно разыскивали его. Он исчез, монсеньор. Король Франциск Первый велел нарядить следствие, но оно ни к чему не привело. Если он пал жертвой какого-то предательства, то его враги были очень ловки или очень влиятельны. Отца у вас нет, монсеньор, а между тем в часовне вашего замка недостает гробницы Жака Монтгомери: ни живым, ни мертвым его нигде не нашли.
– Оттого что его не искал родной сын! – воскликнул Габриэль. – Ах, кормилица, отчего ты так долго молчала? Не потому ли, что на мне лежал долг отомстить за отца… или спасти его?
– Нет, но только потому, что я должна была спасти вас самого, монсеньор. Выслушайте меня. Знаете ли вы, каковы были последние слова моего мужа, славного Перро Травиньи, для которого ваш дом был святыней? «Жена, – сказал он мне за несколько мгновений до того, как испустил дух, – не жди моих похорон, закрой мне только глаза и сейчас же уезжай из Парижа с ребенком. Поселись в Монтгомери, но не в замке, а в доме, который нам пожалован монсеньором. Там ты воспитаешь наследника наших господ, не делая из этого тайны, но и ничего не разглашая! Наши земляки будут его любить и не предадут. Главное – скрыть его происхождение от него самого, иначе он покажется в свете и тем самым погубит себя. Пусть он знает только, что принадлежит к благородному сословию. Затем, когда он вырастет и станет осторожным, рассудительным, доблестным и честным человеком – словом, когда исполнится ему восемнадцать лет, назови ему имя его и род, Алоиза. Тогда он сам рассудит, что должен и что может сделать. Но до тех пор будь настороже: страшная вражда, неискоренимая ненависть преследовали бы его, если бы его обнаружили! Тот, кто настиг и сразил орла, не пощадит и его племени». Сказав так, он умер, монсеньор, а я, послушная его завету, взяла вас, бедного шестилетнего сиротку, лишь мельком видевшего своего родителя, и увезла сюда. Тут уже знали об исчезновении графа и подозревали, что страшные и безжалостные враги грозят каждому, кто носит его имя. Здешние жители увидели вас и, конечно, узнали, но по молчаливому согласию никто не расспрашивал меня, никто не удивлялся моему молчанию. Спустя некоторое время мой единственный сын, ваш молочный брат, умер от горячки. Господу, видно, угодно было, чтобы я принадлежала всецело вам. Все делали вид, будто верят, что остался в живых не вы, а мой сын. Но вы стали походить – и по облику, и по характеру – на своего отца. В вас пробуждались задатки льва. Всем было ясно, что вам суждено быть властелином. Дань самыми лучшими фруктами, десятинная подать с урожая поступали в мой дом без всяких просьб. Лучшую лошадь из табуна всегда предоставляли вам. Господин Жаме, Ангерран и все слуги замка видели в вас своего законного властелина. Все в поведении вашем изобличало доблесть, размах, отвагу… И вот наконец вы, невредимый, вошли в тот возраст, когда мне позволено было довериться вашему здравому смыслу и благоразумию. Но вы, обычно такой сдержанный и осмотрительный, сразу заговорили об открытой мести!
– О мести – да, но не об открытой. Как ты думаешь, Алоиза, враги моего несчастного отца еще живы?
– Не знаю, монсеньор. Однако лучше рассчитывать на то, что живы. И если вы, допустим, явитесь ко двору под своим блистательным именем, но без друзей, без союзников и даже без личных заслуг, что же произойдет? Те, кому вы ненавистны, тут же заприметят ваше появление, а вы-то их не заметите. Они нанесут вам удар, а вы так и не узнаете, откуда он исходит, и не только останется неотомщенным ваш отец, но и вы погибнете, монсеньор.
– Поэтому-то я и жалею, Алоиза, что у меня нет времени приобрести друзей и чуточку славы. Эх, если бы я знал об этом два года назад! Но все равно! Это лишь отсрочка, и я возмещу потерянное время. Теперь мне всего лишь понадобится шагать вдвое быстрее. Я поеду в Париж, Алоиза, и, не скрывая, что я Монтгомери, промолчу, что мой отец – граф Жак. Впрочем, я могу назваться виконтом д’Эксмесом, Алоиза, то есть не прятаться, но и не привлекать к себе внимания. Затем я обращусь к… К чьей бы помощи обратиться мне при дворе? Может, к коннетаблю[4] Монморанси, к этому жестокому богохульнику? Нет, и я понимаю, отчего ты нахмурилась, Алоиза… К маршалу де Сент-Андре? Он недостаточно молод и не очень-то предприимчив… Не лучше ли к Франциску де Гизу? Да, это лучше всего. При Монмеди, Сен-Дизье, в Болонье он уже показал, на что способен. К нему-то я и отправлюсь, под его начальством заслужу свои шпоры, под его знаменами завоюю себе имя.
– Позвольте мне, монсеньор, еще сказать вам, – заметила Алоиза, – что честный и верный Элио имел время отложить немалые деньги для наследника своих господ. Вы сможете жить по-королевски, монсеньор, а молодые ваши вассалы, которых вы обучали военному делу, обязаны и рады будут по-настоящему воевать под вашим началом. Вы имеете полное право призвать их к оружию, вы это знаете, монсеньор.
– И мы воспользуемся этим правом, Алоиза, мы им воспользуемся!
– Угодно ли будет монсеньору теперь же принять всех своих дворовых, слуг, вассалов, которые хотят поклониться вам?
– Повременим еще, моя добрая Алоиза. Лучше вели Мартен-Герру оседлать лошадь. Мне надо съездить кое-куда поблизости.
– Не в сторону ли Вимутье? – лукаво улыбнулась Алоиза.
– Может быть. Разве не должен я навестить и поблагодарить старого Ангеррана?
– И вместе с тем повидать маленькую Диану?
– Но ведь она моя женушка, – засмеялся Габриэль, – и я уже три года – иначе говоря, когда мне было пятнадцать, а ей девять лет – являюсь ее мужем.
Алоиза задумалась.
– Монсеньор, – проговорила она, – если бы я не знала, как возвышенны и глубоки ваши чувства, я воздержалась бы от совета, который осмелюсь вам дать сейчас. Но что для других игра, то для вас дело нешуточное. Не забывайте, монсеньор, что происхождение Дианы неизвестно. Однажды жена Ангеррана, в ту пору находившаяся с ним в Фонтенбло в свите своего господина, графа Вимутье, застала, вернувшись домой, младенца в колыбельке и увидела тяжелый кошель с золотом на столе. В кошеле найдены были, кроме золота, половинка резного кольца и листок бумаги с одним только словом: «Диана». Берта, жена Ангеррана, была бездетна и с радостью принялась ухаживать за малюткой. Но по возвращении в Вимутье она умерла, и как я, женщина, воспитала мальчика-сиротку, так и он, ее муж, воспитал девочку-сиротку. Одинаковые заботы легли на меня и на Ангеррана, и мы вместе справлялись с ними; я старалась научить Диану добру и благочестию, Ангерран же учил вас наукам и ловкости. Вполне понятно, что вы познакомились с Дианой и привязались к ней. Однако вы – граф де Монтгомери, а за Дианой никто еще не являлся со второй половинкой золотого кольца. Будьте осмотрительны, монсеньер. Я знаю, что Диана – всего лишь двенадцатилетний ребенок, но она вырастет и станет красавицей, а при таком нраве, как у вас, шутить ни с чем нельзя, повторяю. Берегитесь! Может, она так и проживет свой век подкидышем, а вы слишком знатный вельможа, чтобы жениться на ней.
– Но я ведь собираюсь уехать, кормилица, покинуть и тебя и Диану, – задумчиво возразил Габриэль.
– Это верно. Простите старой своей Алоизе ее чрезмерные опасения и поезжайте навестить эту кроткую и милую девочку. Но помните, что здесь вас с нетерпением ждут.
– Обними меня еще раз, Алоиза. Называй меня всегда своим сыном, и благодарю тебя тысячу раз, дорогая моя кормилица.
– Будьте и вы тысячекрат благословенны, сын мой и господин!
Мартен-Герр уже поджидал Габриэля у ворот. Одно мгновение – и оба они вскочили на коней.
II. Новобрачная с куклой
Габриэль направился знакомыми тропами, чтобы поскорее добраться до места. И все же он замедлял иногда бег своего коня. Впрочем, аллюр благородного животного зависел, пожалуй, от хода мыслей его хозяина. В самом деле, самые разнообразные чувства – радость и печаль, восторг и уныние – сменяли друг друга в сердце юноши. Когда он чувствовал себя графом де Монтгомери, огонь загорался в его глазах и он пришпоривал скакуна, словно пьянея от бьющего ему в лицо обжигающего ветра. Затем он вдруг спохватывался: «Мой отец убит и не отомщен» – и отпускал поводья. Но тут же вспоминал, что он будет сражаться, что страшным и грозным станет его имя, что он воздаст по чести своим врагам, – и опять пускался вскачь, как бы уже летя навстречу славе. Однако стоило ему подумать, что для этого предстоит расстаться с маленькой Дианой, как он снова впадал в уныние и постепенно переходил с галопа на медленный шаг, будто пытаясь этим отсрочить мучительный миг разлуки. И все-таки он вернется, отыскав недругов своего отца и родителей Дианы! И Габриэль несся вперед так же стремительно, как и его надежды. Когда он приехал, радость окончательно восторжествовала над грустными мыслями.
За изгородью, окружавшей фруктовый сад старого Ангеррана, Габриэль увидел сквозь листву деревьев белое платье Дианы. Привязав лошадь к ивовому пню, он перескочил через изгородь и, сияя от радости, упал к ногам девочки.
Но Диана залилась слезами.
– Что случилось? – воскликнул Габриэль. – Что нас так жестоко огорчило? Не побранил ли нас Ангерран за то, что мы разорвали свое платье или не выучили молитвы? Не улетел ли наш снегирь? Говори, Диана! Верный твой рыцарь, готовый утешить тебя, стоит перед тобой!
– Увы, Габриэль, ты ошибаешься, тебе не быть больше моим рыцарем, – отозвалась Диана, – и потому-то я и плачу.
Габриэль подумал, что Ангерран назвал Диане его настоящее имя и поэтому она, наверно, хочет его испытать. И он ответил:
– Разве может что-нибудь заставить меня отказаться от того титула, который ты предоставила мне и который я ношу с такой радостью и гордостью? Погляди – я у твоих ног!
Но Диана, казалось, не понимала его слов и, заплакав еще сильнее, уткнулась прямо в грудь юноши.
– Габриэль! Габриэль! Нам нельзя будет отныне видеться.
– Кто же нам помешает? – весело спросил он.
Она подняла свою белокурую красивую головку и, взглянув на него синими, полными слез глазами, с важностью заявила:
– Долг! – и глубоко вздохнула.
На ее красивом лице застыла такая уморительная гримаска, что восхищенный Габриэль, все еще находившийся во власти своих мыслей, невольно рассмеялся и, обхватив ладонями чистый лоб ребенка, поцеловал его несколько раз. Но Диана поспешно отстранилась от него:
– Нет, мой друг, довольно таких бесед. О боже мой! Мы не можем теперь говорить как прежде!
«Что за сказки наплел ей Ангерран?» – подумал Габриэль, ничего не понимая, и вслух прибавил:
– Так ты меня разлюбила, Диана?
– Разлюбить тебя! – воскликнула она. – Как ты можешь говорить такие вещи, Габриэль? Разве ты не друг моего детства, не мой брат на всю жизнь? Разве ты не был добр и нежен со мной? Кто носил меня на руках, когда я уставала? Кто помогал мне учить уроки? Ты, ты! Кто для меня придумывал множество игр? Кто собирал мне чудесные букеты на лугах? Кто находил гнезда щеглят в лесах? Все ты, все ты! Я никогда тебя не забуду! Но, несмотря на все это, увы, мы должны расстаться, и расстаться навеки.
– Да почему же? Не наказывают же тебя в самом деле за то, что ты нарочно выпустила пса Филакса на птичий двор?
– Нет, совсем по другой причине.
– Тогда скажи наконец, почему?
Она встала, безжизненно опустила руки и, низко наклонив голову, прошептала:
– Потому что я жена другого.
Габриэль уже не смеялся, и странное волнение сжало его сердце. Он тревожно спросил:
– Что это значит, Диана?
– Меня уже не Дианой зовут, – ответила она. – Меня зовут герцогиней де Кастро, так как имя моего мужа – Орацио Фарнезе, герцог де Кастро.
И двенадцатилетняя девочка невольно улыбнулась сквозь слезы, произнося «моего мужа». Ей была, конечно, лестна мысль: «я – герцогиня», но, взглянув на Габриэля, она снова ощутила всю силу своего горя.
Он стоял перед нею бледный, растерянный.
– Что это? Игра? Сон? – проронил он.
– Нет, бедный мой друг, это грустная действительность, – ответила она. – Разве не встретился ты по дороге с Ангерраном? Он отправился в Монтгомери полчаса назад.
– Я ехал окольными тропами. Но продолжай.
– Как мог ты, Габриэль, не приезжать сюда целых четыре дня! Так никогда не бывало, понимаешь, и отсюда все наше несчастье. Вчера утром я проснулась немного позже обычного, торопливо оделась, помолилась и собиралась сойти вниз, когда услышала шум у ворот дома. Оказалось, это подъехали в сопровождении конюших, пажей, оруженосцев блестящие всадники, а за кавалькадой следовала золоченая карета и вся ослепительно блестела. Пока я с любопытством разглядывала кортеж, дивясь, что он остановился перед нашим бедным домом, в дверь постучал Антуан и передал мне просьбу Ангеррана немедленно спуститься. Я испугалась, не знаю почему, но ослушаться не осмелилась. Когда я вошла в залу, там уже толпились все эти пышно разодетые господа, которых я раньше видела из окна. Тогда я покраснела и от страха задрожала. Понимаешь, Габриэль?
– Понимаю, – с горечью ответил Габриэль. – Но рассказывай дальше. Эта история становится и в самом деле интересной.
– При моем появлении, – продолжала Диана, – один из самых роскошных вельмож подошел ко мне и, предложив мне руку в перчатке, подвел меня к другому дворянину, тоже богато одетому, и, поклонившись ему, сказал:
«Монсеньор герцог де Кастро, я имею честь представить вам вашу супругу. Сударыня, – обратился он ко мне, – перед вами господин Орацио Фарнезе, герцог де Кастро, ваш супруг».
Герцог с улыбкой поклонился мне. А я, вся в слезах, в полном замешательстве, кинулась в объятия к Ангеррану, которого заметила в углу.
«Ангерран, Ангерран! Этот принц – не супруг мой, у меня нет другого мужа, кроме Габриэля. Ангерран, умоляю, скажи это всем этим господам».
Тот, кто представил меня герцогу, нахмурился.
«Что за ребячество?» – строго спросил он Ангеррана.
«Пустое, монсеньор! Это и вправду ребячество, – побледнел Ангерран и, повернувшись в мою сторону, шепнул мне: – Вы в своем уме, Диана? Это что еще за бунт? Отказывать в повиновении родителям, которые вас нашли и возвращают к себе?»
«Где же мои родители? – крикнула я. – Я желаю сама поговорить с ними».
«Мы явились от их имени, сударыня, – ответил суровый вельможа. – Здесь я – их представитель. Если вы не верите мне, вот приказ за подписью короля Генриха Второго, нашего государя. Читайте».
Он показал мне пергамент с красной печатью, и я прочитала вверху страницы: «Мы, божьей милостью, Генрих Второй», а внизу королевскую подпись: «Генрих». Я была ослеплена, ошеломлена, уничтожена. Голова кружилась, мысли путались. Мои родители представились мне! Имя короля! А тебя не было со мною, Габриэль!
– Но мне сдается, что мое присутствие не так уж вам было необходимо.
– Ах! Будь ты здесь, Габриэль, я бы еще сопротивлялась. А без тебя… Когда тот важный дворянин произнес: «Ну, мы и то уж замешкались. Госпожа Левистон, я вверяю вашему попечению герцогиню де Кастро, мы ждем вас, чтобы отправиться в часовню», – голос его прозвучал так резко и властно, что я позволила увести себя. Габриэль, прости меня, я была уничтожена, растеряна, в голове – ни единой мысли…
– Отчего же? Все это так понятно, – саркастически усмехнулся Габриэль.
– Меня увели в мою комнату, – продолжала Диана. – Там эта госпожа Левистон с помощью двух или трех женщин извлекла из большого сундука белое шелковое платье. Затем, как ни стыдно мне было, они меня раздели и снова одели. Я еле осмеливалась переступать ногами в этом роскошном наряде. Затем они подвесили мне жемчужные серьги, надели жемчужное ожерелье, и слезы мои катились по жемчугам. Наконец мы спустились вниз. Тот вельможа с грубым голосом опять предложил мне руку и повел меня к носилкам, украшенным золотом и атласом, в которых мне пришлось усесться на подушки. Герцог де Кастро ехал верхом подле дверец, и так мы медленно поднялись к часовне замка Вимутье. Священник уже стоял у алтаря. Я не знаю, какие слова произносились вокруг, какие слова мне подсказывали. Будто во сне, я почувствовала, как герцог надел мне кольцо на палец. Затем, спустя двадцать минут, а может, двадцать лет, не знаю, свежий воздух пахнул мне в лицо. Мы вышли из часовни. Меня называли герцогиней. Я оказалась замужем. Понимаешь, Габриэль? Замужем!..