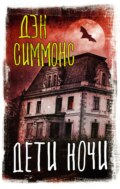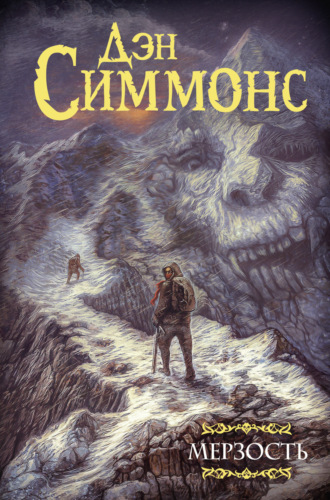
Дэн Симмонс
Мерзость
Под стук копыт мы движемся вперед.
– Неужели все посетители парка оставляют машины у ворот и садятся в экипаж, чтобы доехать до дома? – громко спрашивает Же-Ка у нашего кучера Бенсона.
– О нет, сэр, – отвечает старик, не поворачивая к нам головы. – Когда в Бромли-хаусе или в Бромли-парке званый ужин или прием – хотя теперь, Бог свидетель, они бывают редко, – прибывшим на машинах гостям позволяется подъезжать прямо к дому. Как и самым уважаемым гостям, включая бывших королев и Его нынешнее Величество.
– Король Георг Пятый приезжал в Бромли-хаус? – В своем голосе я слышу благоговение провинциала и гнусавый американский акцент.
– О да, сэр, – с энтузиазмом отвечает Бенсон и легким прикосновением кнута к крупу подгоняет более медленную из двух белых лошадей.
Об английском монархе я знал лишь то, что во время войны он изменил название королевского дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский, пытаясь замаскировать все свои тесные связи с Германией. Тем не менее кайзер приходился Георгу V двоюродным братом, и ходили слухи, что они очень близки. И действительно, монархи были очень похожи внешне. Я почти уверен, поменяйся они орденами и мундирами во время одной из семейных встреч, каждый мог бы править чужой страной и никто бы ничего не заметил.
Однажды я спросил Дикона о правящем короле, и он ответил так:
– Мой друг Джейкоб, боюсь, он делит время между стрельбой по животным и наклеиванием марок в альбомы. Если у Георга – Его Величества – имеется страсть или способности к чему-то еще, то мы, его верные и любящие подданные, пока об этом не знаем.
– А другие королевские особы посещали Бромли-хаус? – спрашивает Жан-Клод достаточно громко, чтобы услышал наш кучер Бенсон.
– О да, конечно, – отвечает кучер и на этот раз оглядывается через обтянутое черной ливреей плечо. – Почти каждый монарх посещал Бромли-хаус и останавливался в нем со времени постройки дома в тысяча пятьсот пятьдесят седьмом, за год до коронации Елизаветы. У королевы Елизаветы здесь были свои покои, которые с тех пор использовались для приема только королевских особ. В так называемых «комнатах Георга» несколько месяцев гостила королева Виктория во время летнего отдыха в восемьдесят четвертом – а потом много раз возвращалась. Говорят, Ее Величеству особенно нравились потолки, расписанные Антонио Веррио.
Следующая минута проходит в молчании; слышен только цокот копыт.
– Да, многие наши короли, королевы и принцы Уэльские приезжали в Бромли-хаус на приемы, останавливались на ночь или проводили здесь каникулы, – прибавляет Бенсон. – Но в последнее время королевские визиты прекратились. Лорд Бромли – четвертый маркиз – умер десять лет назад, а у Его Величества, наверное, есть более важные дела, чем визиты к вдовам… если мне будет позволено так выразиться, сэр.
– Разве не здесь живет старший сын, брат Перси Бромли, который пропал на Эвересте? – шепчу я Дикону. – Пятый маркиз Лексетерский?
– Да. Чарльз. Я его хорошо знаю. Он отравился газами во время войны и стал инвалидом, так до конца и не оправился. Уже несколько лет он не покидает свою комнату и находится на попечении сиделок. Все думали, что Чарльзу уже недолго осталось и ближе к концу года титул перейдет к Перси, который станет шестым маркизом Лексетерским.
– Как это «отравился газами»? – шепчет Жан-Клод. – Где в британской армии служат лорды?
– Чарльз был майором и участвовал во многих самых ожесточенных сражениях, но в последний год он вместе с другими важными персонами из армии и правительства входил в состав группы Красного Креста, которая посещала передовые позиции и направляла отчеты этой организации, – тихим голосом отвечает Дикон. – Между британским участком фронта и немцами было организовано трехчасовое прекращение огня, но что-то пошло не так, и начался артиллерийский обстрел их позиций… горчичный газ. Большинство членов делегации не взяли с собой противогазы. Но в случае Чарльза это не имело значения, потому что самые тяжелые поражения у него были не в легких, а стали результатом попадания в раны горчичного порошка из снарядов. Понимаешь, некоторые раны – и особенно подвергшиеся воздействию порошка, выделяющего горчичный газ, – не заживают. Их нужно каждый день перевязывать, а боль никогда не проходит.
– Проклятые боши, – шипит Жан-Клод. – Им нельзя верить.
Дикон печально улыбается.
– Стреляла британская артиллерия. Английский горчичный газ, который немного не долетел. Кто-то не получил приказ о прекращении огня. – Он ненадолго умолкает, и мы слышим только грохот колес и стук огромных лошадиных копыт. – Артиллерийской частью, которая убила несколько важных персон из Красного Креста и сделала инвалидом беднягу Чарльза Бромли, командовал Джордж Ли Мэллори, но я слышал, что сам Мэллори в то время отсутствовал… был в Англии, лечился после ранения или от какой-то болезни… Бенсон, расскажешь нам о двери для королевских особ? – громко спрашивает он.
Впереди я замечаю регулярный сад с тщательно ухоженными холмами и лужайками, а над горизонтом – многочисленные шпили и башенки. Слишком много шпилей и башенок для дома – и даже для обычной деревни. Как будто мы приближаемся к городу посреди великолепного сада.
– Конечно, мастер Ричард, – отвечает кучер. Длинные белые усы слегка подрагивают – мне это видно даже сзади. Вероятно, он улыбается. – С шестнадцатого века прибытие королевы Елизаветы, королевы Виктории, короля Георга V и остальных обычно назначали днем или ранним вечером – разумеется, сэры, если это было удобно королевским особам, – поскольку, как вы можете видеть, сотни окон здесь, на западной стороне, специально предназначены для того, чтобы ловить лучи заходящего солнца. Полагаю, стекла подверглись какой-то специальной обработке. Они все отливают золотом, как будто за каждым из многочисленных окон, сэры, горит яркий огонь. Очень красиво и приятно для Его или Ее Величества, даже зимним вечером. А в центре западной стены дома есть золотая дверь, которой пользуются только королевские особы – а если точнее, то резной позолоченный портал, потому что это только внешняя из нескольких прекрасных дверей, сконструированных и изготовленных специально для первого визита Елизаветы. Это было незадолго до смерти первого лорда Бромли. Мне известно, что в тысяча пятьсот пятьдесят девятом королева Елизавета и ее свита приезжали к нам на несколько недель. Между жилыми крыльями дома, сэры, устроен чудесный внутренний дворик – полностью приватный, хотя у вас будет возможность взглянуть на него, когда вы будете пить чай с леди Бромли. Говорят, там несколько раз выступал Шекспир со своей труппой. На самом деле двор специально – в смысле естественного усиления человеческого голоса и всех других аспектов – предназначен для театральных представлений с несколькими сотнями зрителей.
Я прерываю рассказ банальностью:
– Жан-Клод, Дикон, посмотрите на эти древние развалины на холме. Похоже на разрушенную сторожевую башню или маленький средневековый замок. Башня вся заросла плющом, камни осыпались, а в готическом окне одинокой полуразрушенной стены растет дерево.
– Почти наверняка руинам меньше пятидесяти лет, – говорит Дикон. – Это «причуда», Джейк.
– Что?
– Искусственные руины. Ими увлекались с семнадцатого по девятнадцатый век – они то входили в моду, то выходили из нее. Полагаю, это последняя леди Бромли в конце девятнадцатого века потребовала построить павильон на холме, чтобы она могла видеть его во время прогулок верхом. Хотя большая часть ландшафтных работ была выполнена раньше, в конце восемнадцатого века… кажется, Капабилити Брауном[12].
– Кем? – переспрашивает Жан-Клод. – Это было бы подходящее имя для хорошего альпиниста – Капабилити.
– Его настоящее имя Ланселот, – говорит Дикон. – Но все звали его Капабилити. Он считался величайшим ландшафтным архитектором Англии восемнадцатого столетия и спроектировал сады и угодья для – не уверен в точности цифры – почти двухсот самых роскошных загородных домов и поместий, а также таких величественных сооружений, как Бленхеймский дворец. Я помню, как мать рассказывала мне, что Капабилити Браун сказал Ханне Мор в шестидесятых годах восемнадцатого века, когда они оба были знаменитыми.
– Кто такая Ханна Мор? – спрашиваю я, уже не стесняясь своего невежества. Как оказалось, я совсем не знаю Англию.
– Она была писательницей – очень популярной, писала на морально-религиозные темы, – и до самой своей смерти в тридцатых годах девятнадцатого века оставалась чрезвычайно щедрой благотворительницей. В общем, Капабилити Браун называл свои сады и угодья «грамматическими ландшафтами», а когда однажды показывал Ханне Мор законченное поместье – возможно, ее собственное, хотя я понятия не имею, приглашала ли она его, чтобы оформить свои загородные владения, – то описал свою работу ее собственными словами. Я почти дословно помню, как моя мать, которая была увлеченным садоводом вплоть до самой смерти двадцать лет назад, цитировала монолог Брауна.
Мне кажется, что слушает даже Бенсон на своем кучерском месте – он еще больше наклонился назад, хотя и не забывает править лошадьми.
– «Вот там, – говорил Капабилити Браун, указывая пальцем на ландшафтный элемент, который он создал, но который выглядел так, словно всегда был на том месте, – там я поставил запятую, а там, – указывая на какой-то камень, поваленный дуб или кажущийся естественным элемент, возможно, на расстоянии сотни ярдов или в глубине сада, – где уместен решительный поворот, я поставил двоеточие; в другой части, где желательно прервать плавную линию, я делаю отступление, а затем перехожу к другой теме».
Дикон ненадолго умолкает.
– По крайней мере, довольно близко к тексту. Прошло много лет, с тех пор как мать рассказывала мне о Капабилити Брауне.
Взгляд его становится задумчивым, и я понимаю, что он слышит голос матери.
– Может, эти искусственные руины замка на холме – точка с запятой, – говорю я и тут же спохватываюсь. – Нет, постой, ты говорил, что Капабилити Браун не строил «причуд».
– Он не стал бы строить таких павильонов и за миллион фунтов, – с улыбкой отвечает Дикон. – Его специальность – изысканные сады, искусственность которых не должен заметить даже опытный глаз. – Дикон указывает на частично заросший лесом склон холма с удивительным разнообразием кустарников, поваленных деревьев и полевых цветов.
Но когда экипаж преодолевает пологий подъем и лошади, цокая копытами по асфальту, поворачивают направо, все разговоры смолкают.
Отсюда уже прекрасно виден регулярный сад с прямыми и кольцевыми аллеями из чисто-белого гравия – а может, дробленых устричных раковин или даже жемчуга. От вида садов и фонтанов захватывает дух, но именно Бромли-хаус, впервые полностью показавшийся позади сада, заставляет меня привстать в экипаже и, глядя поверх плеча Бенсона, ошеломленно пробормотать:
– Господи. О Боже…
Нельзя сказать, что это самая утонченная фраза из когда-либо произнесенных мной. Скорее всего, так выразились бы американские религиозные фундаменталисты (хотя моя семья в Бостоне принадлежала к вольнодумцам из Унитарной церкви).
Бромли-хаус формально считается тюдоровским поместьем и был построен, как я уже говорил, первым лордом Бромли, который был главным клерком и помощником государственного казначея королевы Елизаветы лорда Берли, когда в 1550-х годах началось строительство дома. Потом Дикон рассказал мне, что Бромли-хаус был одним из нескольких поместий, построенных в Англии в ту эпоху успешными молодыми людьми из простолюдинов. Он также поведал мне, что лорд Бромли с семьей поселился в готовой части дома в 1557 году, хотя строительство Бромли-хауса растянулось на тридцать пять лет.
На тридцать пять лет и еще три с половиной столетия, поскольку даже для моего неопытного в архитектуре глаза очевидно, что многие поколения лордов и леди что-то прибавляли и убавляли, экспериментировали, тысячи раз переделывая поместье.
– Дом… – я слышу торжественность в старческом голосе Бенсона, тихом, но исполненном гордости, – был поврежден во время гражданской войны. Люди Кромвеля были настоящими зверьми, бездушными зверьми, бездушными и безразличными даже к самым прекрасным произведениям искусства, но пятый граф закрыл поврежденную южную часть дома окнами, и получилась большая галерея. Очень светлая и очаровательная, как мне говорили, за исключением зимних месяцев. Позже, уже в семнадцатом веке, при восьмом графе эту галерею потом закрыли и превратили в Большой зал – его гораздо легче обогревать.
– Граф? – шепчу я Дикону. – Мне казалось, мы имеем дело с лордами, леди и маркизами из семьи Персиваля.
Дикон пожимает плечами.
– Со временем титулы меняются и накапливаются, старина. Парнем, который в шестнадцатом веке построил эту громадину, был Уильям Бэзил, первый лорд Бромли. Его сыну Чарльзу Бэзилу, тоже лорду Бромли, в тысяча шестьсот четвертом году, через год после смерти королевы Елизаветы, пожаловали титул графа Лексетера.
Я ничего не понимаю в его объяснении, за исключением слов о смерти Елизаветы. Наш экипаж катится вокруг южного крыла громадной постройки к дальнему входу на восточной стороне.
– Возможно, этот пустой угол вас заинтересует, – говорит Дикон, показывая на угол дома, мимо которого мы проезжаем. На западной стороне два ряда красивых окон поднимаются на высоту шестидесяти или восьмидесяти футов, но угол здания никак не назовешь изящным – у него такой вид, словно его в спешке облицевали грубым камнем. – Несколько сотен лет назад тогдашний лорд Бромли понял, что хотя его высокий Большой зал очень красив и наполнен светом – он почти весь стеклянный, – но в самом крыле слишком много красивых окон и слишком мало опорных стен. Огромный вес крыши из английского дуба в сочетании с весом тысяч колливестонов…
– Что такое колливестон? – спрашивает Жан-Клод. – Похоже на породу английской охотничьей собаки или овчарки.
– Колливестон – это плита из очень тяжелой разновидности серого сланца, который используется в качестве кровельной черепицы во многих больших старинных поместьях Англии. Впервые сланец нашли и стали добывать именно здесь еще римляне. Сегодня встретить сланец колливестон в Англии почти невозможно, только в Бромли-хаусе и еще нескольких отдаленных уголках. В любом случае, вы можете увидеть, где несколько столетий назад встревоженный граф заложил красивые окна и добавил несущие опоры из камня. У этих маленьких окон – наверху, с северной стороны, где должен быть пятый этаж, – есть стекла, но за ними каменная кладка. Эта крыша очень тяжелая.
Размеры Бромли-хауса поражают – со своими многочисленными стенами и внутренними двориками он больше многих деревень в Массачусетсе, которые мне приходилось видеть, – но в данный момент мое внимание привлекает крыша, от которой я не могу оторвать взгляда. (Подозреваю, что рот у меня приоткрылся, но я так захвачен этой картиной, что мне все равно; уверен, что Дикон закроет мне рот, если я уж слишком начну походить на деревенского дурачка.) Бенсон пружинисто спрыгивает с козел, обходит вокруг кареты и открывает для нас створку двери.
Крыша кажущегося бесконечным дома – высоко над нашими головами – представляет собой невероятное скопление вертикальных (а иногда и горизонтальных) выступов: обелиски, похоже, не имеющие определенного назначения, внушительная часовая башня с циферблатом часов, обращенным к предположительно неиспользуемому гостями южному фасаду дома, ряды высоких, похожих на древнегреческие колонн, которые на самом деле представляли собой дымовые трубы бесчисленных каминов в доме размером с город, арки, вздыбившиеся над чем-то невообразимым, зубчатые башенки с высокими, узкими окнами на прямых шпилях и круглыми маленькими окошечками под фаллическими утолщениями, еще окна на горизонтальных, похожих на Старый лондонский мост, нависающих верхних этажах, которые соединяли некоторые более массивные башни с многочисленными окнами, и наконец, ряды более высоких, тонких и вызывающих чувственные ассоциации шпилей, разбросанных как будто в случайном порядке вокруг, между и над остальными элементами загроможденной башенками крыши. Эти последние очень похожи на минареты, торчащие из какой-нибудь ближневосточной мечети.
У открытой двери восточного входа еще один лакей в очень строгой и очень старомодной ливрее – вероятно, этот джентльмен еще старше нашего возницы, но чисто выбритый, лысый, как бильярдный шар, и гораздо более сутулый по причине искривления позвоночника – кланяется нам и произносит:
– Добро пожаловать, джентльмены! Леди Бромли ждет и вскоре присоединится к вам. Мастер Дикон, вы должны простить меня, если я осмелюсь заметить, что вы выглядите необыкновенно здоровым, загорелым и крепким.
– Спасибо, Харрисон, – отвечает Дикон.
– Прошу прощения, сэр? – Харрисон прикладывает сложенную ковшиком ладонь к левому уху. Похоже, он почти ничего не слышит и явно не очень хорошо читает по губам. Дикон громко, почти крича, повторяет эти два слова. Харрисон улыбается, демонстрируя превосходные вставные зубы, и хрипло выдыхает: – Пожалуйста, следуйте за мной, джентльмены. – Потом поворачивается и ведет нас внутрь.
Пока мы медленно идем за шаркающим лакеем бог знает куда по череде прихожих, потом через большие залы, Дикон шепчет нам:
– Харрисон – тот самый лакей, что отшлепал меня, когда тридцать лет назад я ударил юного лорда Персиваля.
– Хотел бы я посмотреть, как он попытается сделать это сегодня, – шепчет Жан-Клод со злорадной улыбкой, которую я уже видел прежде и которая почему-то кажется проказливой и привлекательной дамам.
Мы идем вслед за шаркающим лакеем через вереницу фойе с картинами, персидскими коврами и красными портьерами, потом проходим не меньше трех «холлов», где дух захватывает от цвета, размера и мастерства одних только древностей.
Но не золоченая старинная мебель заставляет меня изумленно замереть на месте.
Харрисон слабо машет немощной левой рукой, указывая на потолок и обводя всю комнату, и объявляет своим скрипучим старческим голосом:
– Райская зала, джентльмены. Очень…
Я не могу разобрать последнее слово, но скорее всего это «известная».
Мне она больше напоминает «футбольную залу», поскольку высота потолка здесь не меньше сорока футов, а само помещение по размерам может сравниться с полем для игры в американский футбол. Мне приходит в голову, что вдоль этих золоченых, увешанных картинами стен можно поставить ряды сидений для зрителей и устроить игру между Гарвардом и Йелем.
Но челюсть у меня снова отвисает вовсе не от этого, а при взгляде на бесконечный потолок с искусной росписью.
Я не сомневаюсь, что сотни (сотни!) обнаженных и почти обнаженных мужских и женских фигур должны изображать богов и богинь, которые резвятся так, как положено языческим богам, но, на мой взгляд варвара, это выглядит как самая большая в мире оргия. Просто поразительно, как художнику удалось изобразить столько фигур, спускающихся – свисающих, падающих, стекающих – с потолка на стены, собирающихся в углах мясистыми грудами бедер, бицепсов и грудей; другие переплетенные тела украшают боковые двери и зеркала, словно пытающиеся помешать падению этой беспорядочной массы плоти на покрытый персидскими коврами паркет. Иллюзия объема сбивает с толку и вызывает головокружение.
– Бо́льшую часть этих фресок написал Антонио Веррио в тысяча шестьсот девяносто пятом и девяносто шестом, – тихо говорит Дикон, явно предполагая, что наш престарелый сопровождающий его не слышит. – Если вам кажется, что это здорово, то вы не видели фреску «Врата ада» на потолке у подножия главной лестницы – Веррио изображает врата ада как пасть гигантского кота, проглатывающего нагие потерянные души, словно истерзанных мышей.
– Magnifique[13], – шепчет Жан-Клод, тоже глядя на потолок Райской залы. Потом прибавляет, еще тише: – Хотя… как это будет по-вашему?.. Хвастливо. Очень хвастливо.
Дикон улыбается.
– Говорят, за тот год, что Веррио работал здесь, он уложил в постель всех служанок в поместье – а также крестьянских девушек, работавших в поле. На самом деле стены еще не были завершены, когда хозяева пригласили иллюстратора детских книжек – кажется, его звали Стотард, – чтобы закончить этот потрясающий рай.
Я смотрю на сплетенные в объятиях бесчисленные тела, мужские и женские – многие, как я заметил, падают с потолка и, извиваясь в пароксизме страсти, сползают по стенам – и думаю: «И кое-что из этого нарисовал иллюстратор детских книг?»
Следуя за шаркающим, безмолвным лакеем через Райскую залу, я испытываю благодарность к Дикону, который настоял на моем визите к портному на Сэвил-роу за подобающим костюмом. Поскольку Же-Ка как-то сказал мне, что у Дикона, последнего представителя некогда состоятельной семьи, теперь не так много денег, я решительно протестовал, но Дикон заявил, что просто не может позволить мне явиться к леди Бромли в этой «пыльной, бесформенной твидовой штуковине цвета дерьма», которую я использую вместо костюма. Я обиженно ответил, что «штуковина цвета дерьма» – мой лучший твидовый костюм – прекрасно послужила мне на всех официальных мероприятиях Гарварда (по крайней мере тех, где требовался вечерний костюм), но на моего британского коллегу-альпиниста этот аргумент не произвел впечатления.
Таким образом, когда мы покидали Райский зал и переходили в гораздо более спокойную боковую комнату, я еще раз порадовался элегантности своего сшитого на заказ костюма, выбранного и оплаченного Диконом. Однако Жан-Клод обладал достаточной уверенностью в себе, чтобы надеть свой старый костюм, в котором он, вполне вероятно, сопровождал альпинистов в качестве гида – похоже, к нему прекрасно подходят альпинистские ботинки, и я почему-то не сомневаюсь, что подобное сочетание имело место.
Старый лакей Харрисон наконец останавливается в боковой комнате, отделенной от Райской залы всего двумя нелепыми вычурными галереями и потрясающей библиотекой. После огромных помещений, которые нам пришлось пройти, чтобы попасть сюда, эта маленькая уютная комната кажется кукольным домиком, хотя по размерам приблизительно равняется половине гостиной, какая бывает в домах американского среднего класса.
– Пожалуйста, садитесь, джентльмены. Чай и леди Бромли скоро прибудут, – говорит Харрисон и удаляется шаркающей походкой. Его слова объединяют чай и хозяйку одного из крупнейших поместий Англии – на равных. Вероятно, одно неразрывно связано с другим.
На мгновение небольшой размер и уютная обстановка этой маленькой комнаты – немногочисленные предметы мебели в центре, на великолепном персидском ковре, окруженном сверкающим паркетом, одно кресло с высокой спинкой, обитое тканью, похоже, XIX века, низкий круглый столик, вероятно, для неизбежного чая, и два изящных стула по обе стороны от него, которые выглядят слишком хлипкими, чтобы выдержать взрослого человека, а также красное канапе прямо напротив кресла – заставляют меня предположить, что это личные покои кого-то из обитателей Бромли-хауса, но я тут же осознаю свою ошибку. Все маленькие картины и фотографии на стенах с нежными обоями – женские. Несколько книжных полок, совсем не похожих на гигантские стеллажи библиотеки, которую мы проходили, почти пусты; на них лишь несколько книг, по виду ручной работы, возможно, альбомы для газетных вырезок и фотографий, сборники кулинарных рецептов или генеалогические таблицы.
Однако эта комната, несмотря на внешнее сходство, не относится к личным покоям хозяев. Я понимаю, что леди Бромли, должно быть, использует ее для того, чтобы в непринужденной обстановке встречаться с людьми из низших социальных слоев. Возможно, беседует со своим ландшафтным архитектором или главным лесничим – или с дальними родственниками, теми, кому не предложат остаться на ночь.
Мы с Жан-Клодом и Диконом втискиваемся на красное канапе и ждем, касаясь друг друга бедрами и выпрямив спины. Это довольно неудобная для сидения мебель – возможно, еще одно напоминание слишком не задерживаться. Я нервно провожу большим и указательным пальцами по острой стрелке брюк своего нового костюма.
Внезапно открывается потайная дверь в библиотеку, и в комнату входит леди Элизабет Мэрион Бромли. Мы втроем поспешно вскакиваем, едва не сбивая друг друга с ног.
Леди Бромли очень высокая, и ее рост подчеркивается тем, что она одета во все черное – кружевное черное платье с высоким, отделанным рюшами воротником, которое вполне могло быть сшито в XIX веке, но выглядит удивительно современным. Ее прямая спина и грациозная, но в то же время непринужденная походка усиливают ощущение высокого роста и величия. Я ожидал увидеть старую даму – лорду Персивалю, пропавшему на Эвересте этим летом, было уже за тридцать, – но в темных волосах леди Бромли, уложенных в сложную прическу, которую я видел только в журналах, видны лишь редкие серебристые пряди, в основном на висках. Ее темные глаза живые и блестящие, и она – к моему глубокому удивлению – быстро идет к нам, огибает стол, подходит вплотную, доброжелательно и, похоже, искренне улыбается и протягивает обе руки, изящные, бледные, с длинными пальцами пианиста, совсем не старческие.
– О, Дики… Дики… – произносит леди Бромли и обеими руками сжимает мозолистую ладонь Дикона. – Так чудесно снова видеть тебя здесь. Кажется, только вчера твоя мать привозила тебя к нам, чтобы поиграть с Чарльзом… и как вы, старшие, раздражались, когда маленький Перси пытался к вам присоединиться!
Мы с Жан-Клодом осмеливаемся обменяться вопросительными взглядами. Дики?!
– Я очень рад нашей встрече, леди Бромли, но также глубоко опечален обстоятельствами, которые снова свели нас вместе, – отвечает Дикон.
Леди Бромли кивает и на секунду опускает наполнившиеся слезами глаза, но затем улыбается и снова поднимает голову.
– Чарльз очень сожалеет, что не может сегодня поздороваться с тобой – как ты знаешь, здоровье у него совсем неважное.
Дикон сочувственно кивает.
– Тебя же тоже ранило на войне. – Леди Бромли по-прежнему держит ладонь Дикона, одна ее рука сверху, другая снизу.
– Легкие ранения, давно зажили, – говорит Дикон. – Не сравнить с отравлением газом, как у Чарльза. Я тысячу раз вспоминал о нем.
– И спасибо за письмо с соболезнованиями, оно было очень милым, – тихо произносит леди Бромли. – Но я невежлива… пожалуйста, Дики, представь меня своим друзьям.
Знакомство и короткий разговор проходят гладко. Леди Бромли на хорошем французском обращается к Же-Ка, и я могу разобрать, что она выражает восхищение, что такой молодой человек пользуется известностью как превосходный гид по Шамони, а Жан-Клод отвечает ей своей самой широкой, лучезарной улыбкой.
– И мистер Перри, – произносит она, когда приходит время повернуться ко мне, и грациозно берет в свои руки мою неловко протянутую ладонь. – Даже в своей деревенской глуши я слышала о Перри из Бостона – прекрасная семья.
Запинаясь, я бормочу благодарности. Я происхожу из очень известной и старинной семьи «бостонских браминов», и вплоть до предпоследнего поколения – историю семьи можно проследить до 1630-х – члены семьи были известными торговцами и профессорами Гарварда, а несколько смельчаков отличились на полях сражений, таких как Банкер-хилл и Геттисберг.
Но увы, «брамины» Перри из Бостона теперь почти разорены. Хотя уменьшающееся состояние не мешало моим родителям называть футбольный матч между Гарвардом и Йелем просто «матчем», а за скромными рождественскими покупками приходить в центр города, в семиэтажный магазин «С. С. Пирс Компани», который обслуживал такие семьи, как наша, с 1831 года. Нет, поначалу приближающаяся бедность даже не помешала мне наслаждаться лучшими частными школами, а также теннисными кортами и лужайками Бруклинского загородного клуба (который мы, естественно, называли просто «клубом», словно он был единственным в мире), а моим родителям – оплачивать мое обучение в Гарварде на протяжении всех лет, что окончательно истощило ресурсы семьи. Поэтому я мог посвящать каждую свободную минуту и все летние каникулы в колледже своему увлечению, вместе с друзьями карабкаясь по скалам и покоряя вершины, не думая о расходах. И когда я получил в наследство от тетки 1000 долларов, то даже не подумал отдать их родителям, чтобы помочь оплатить счета – в том числе мои, – а потратил их на то, чтобы провести год в Европе, лазая по Альпам.
– Садитесь, пожалуйста, – обращается ко всем нам леди Бромли.
Она перешла на противоположную сторону низкого столика и устроилась в удобном кресле с высокой спинкой. Тут же, словно по команде, появляются три горничных – или еще какие-то служанки – с подносами с чайником, старинными фарфоровыми чашками и блюдцами, серебряными ложками, серебряной сахарницей, серебряным молочником и пятиярусной сервировочной подставкой с маленькими пирожными и печеньем на каждом ярусе. Одна из служанок предлагает налить чай, но леди Бромли говорит, что справится сама, а затем спрашивает каждого – за исключением «Дики», который, как она помнит, добавляет в чай немного сливок, дольку лимона и два кусочка сахара, – с чем мы будем пить чай. Я отвечаю: «Просто чай, мэм», – что звучит довольно глупо, и в ответ получаю улыбку и блюдце с чашкой чая без сливок, лимона или сахара. Ненавижу чай.
После нескольких минут светской беседы, в основном между Диконом и леди Бромли, хозяйка наклоняется вперед и отрывисто говорит:
– Давай обсудим другое твое письмо, Дики. То, что я получила через три недели после милой открытки с соболезнованием. То, в котором говорится, что вы втроем отправляетесь на Эверест на поиски моего Персиваля.
Дикон прочищает горло.
– Возможно, это было самонадеянным, леди Бромли, но обстоятельства исчезновения лорда Персиваля вызывают много вопросов, а ответов на них нет, и я подумал, что могу предложить свои услуги в попытке разгадать загадку, окружающую тот несчастный случай… падение, сход лавины… что бы там ни произошло.
– Да, что бы там ни произошло, – повторяет леди Бромли. Голос ее звучит резко. – Ты знаешь, что тот немецкий джентльмен, который был единственным свидетелем так называемой «лавины», унесшей Перси и немецкого носильщика, – герр Бруно Зигль, – даже не отвечает на мои письма и телеграммы? Он отправил мне одну невежливую записку, в которой утверждает, что ему больше нечего сказать, и упорно молчит, несмотря на требования Альпийского клуба и «Комитета Эвереста» сообщить дополнительные подробности.
– Так нельзя, – тихо говорит Жан-Клод. – Родные должны знать правду.
– Я не до конца убеждена, что Персиваль погиб, – продолжает леди Бромли. – Возможно, он ранен и потерялся в горах, едва живой, или ждет помощи в какой-нибудь близлежащей тибетской деревне.