
Дмитрий Урнов
Люди возле лошадей
Счастливое время
Школьное сочинение на свободную тему
(Восстановлено по памяти)
«Пусть наконец будет правда, даже если она ведет к отчаянию».
Томас Гарди.
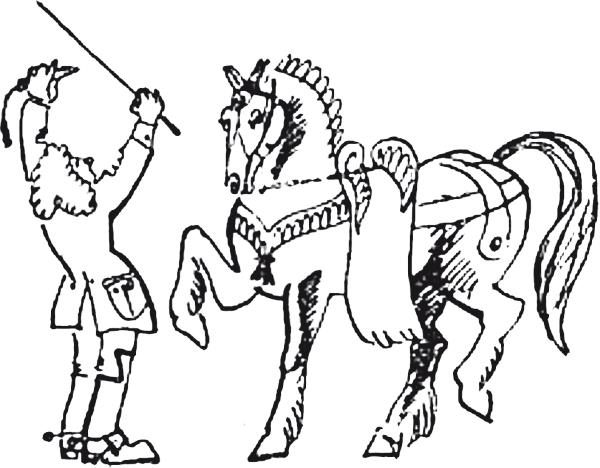
Мой отец вчитывался в романы Гарди, отразившего кризис сельской Англии по ходу огораживания, лишения фермеров земли. У нас подобный процесс назывался раскулачиванием.
Слово я слышал от Деда Васи, но отец с матерью (художницей, преподавала рисование в Училище циркового искусства), опасаясь, как бы я в школе чего-нибудь не сболтнул, просили его не объяснять, что это значит, а я и не спрашивал, следуя примеру Тома Сойера.
Том в устав своей разбойничьей шайки занес рэнсом, разбойники, вступившие в шайку, у него спрашивали, что делать с теми, кого они ограбят. Начитавшийся приключенческих романов главарь шайки объяснил: ограбленных держат в плену до тех пор, пока их не рэнсомнут, но что это такое, ему неизвестно. Я выяснил: ransom, англ. – выкуп, разузнал и про раскулачивание.
Мой прадед Тузов (со стороны отца по материнской линии) вёл в переписку с Глебом Успенским и послал ему описание нашей семьи. Классик целиком включил письмо в «заметки о народной жизни», так я узнал, что представляла собой наша семья сто лет тому назад. Прадед сообщил писателю: «Семейства у меня шесть сыновей и одна дочь, двое сыновей женаты и имеют шесть человек детей; всего семейства, значит, у меня 17 человек»[5]. Из обширной крестьянской семьи по мере головокружения от успехов, чем отличалось раскулачивание, шестеро оказались сосланы, один из них уцелел, пошел на фронт воевать, был убит и похоронен в братской могиле недалеко от Орла, известил меня Областной военком.
В каникулы, летом, за городом, я готов был топать четыре километра от дома туда и обратно, два раза в день, чтобы пасти лошадей и гонять в ночное. Когда я вспоминаю о ночах, проведенных у костра за разговорами со стариком-табунщиком, в груди у меня что-то бродит и подкатывает к горлу. Но пасли мы лошадей пешки, как выражался табунщик, на своих двоих, я же мечтал поездить верхом. До этого ездил в манеже, а тут – простор. Пошел к заведующей скотным двором и застал ее за дойкой одинокой коровы в пустом коровнике. Спрашиваю: «Вы и лошадьми заведуете?» Заведующая, в очках и синем халате, на мой вопрос ответила вопросом: «А что?» Я повторил свой вопрос, а она – свой.
Тогда я набрал воздуху и начал: «Я комсомолец, дачник из Москвы…» Обрисовал свой жизненный путь, отметил, что начал заниматься конным спортом, а в заключение сказал: «Прошу дать мне возможность ездить на молодых, еще не объезженных лошадях». Заведующая спросила: «Повторить все это еще раз сможете?» Услышав, что смогу, продолжила: «Сама я вам разрешить ничего не имею права. На то есть начальство. А вообще дело неплохое, молодняк стоит без дела. Пойдем к председателю, и ты ему все то же самое выскажешь».
Председатель сидел в правлении за письменным столом между стеной и печью. Плотно сбитый, маленького роста, с металлическими зубами, когда он говорил, то съеживал лоб, словно стараясь удержать в голове важную мысль. Бригадирша села на стул, стоявший рядом с председательским, и, указав на меня, сказала:
– Вот, послушай, – словно запустила патефонную пластинку.
Ещё раз обрисовал я свой жизненный путь, закончив просьбой: «Жить мне или умереть – в ваших руках». Председатель сморщил лоб и сказал: «Нет, лошадь я не дам. Не могу дать. Я сам старый кавалерист и знаю, что вдруг, если левый поворот, к примеру, задняя нога – чик! Ведь меня за это посадят, так? – задал он вопрос и сам же ответил. – Посадят». Затем наступило молчание. Вдруг председатель, словно его озарило, выпалил:
– Назначу объездчиком! – и продолжил: Дам в руки удостоверение, дам лошадь, седло и кнут, – при слове «кнут» он поднял руку над головой, – человека своего дам, и вы будете ездить, не быстро, не галопом, будете ездить рысцой и осматривать поля. Это нам нужно.
Объездчик – целые часы в седле, и я сказал: «О таком могу только мечтать».
– Я с вами согласен, – сказал председатель и вдруг, ощетинившись, выкрикнул: – Но если вы будете безобразничать (поднял над головой руку как бы с кнутом), я приму меры. Меры!
На следующий день рано утром я уже топал в колхоз, чтобы приступить к исполнению обязанностей конного сторожа объезжать колхозные угодья и следить, чтобы не было потравы. В колхозе я тут же отправился к председателю. Он встретил меня металлическим блеском зубов, то есть улыбкой. Поздоровался со мной за руку и говорит:
– Пойдемте в бой.
Отправились на конюшню. По дороге председатель окликнул какого-то парня.
– Иван!
К нам косолапо приблизился квадратный молодой мужик. Лицо скуластое, чуть косой, нельзя было понять, куда он смотрит и как смотрит, с какими намерениями, кирзовые сапоги гармошкой, богатырская грудь и огромные ладони на коротких могучих руках. Вид угрюмый и даже свирепый. Взглянешь и скажешь: «Ну и зверь!»
– Иван, – обратился к нему председатель, – надо с товарищем поле постеречь. Да и вообще, подымайся.
– Ладно, – отвечал Иван гулким басом с полной готовностью, будто ждал указания действовать.
У дверей конюшни нас встретил конюх с морщинистым лицом и такой же, словно у черепахи Тортиллы, морщинистой шеей. Он втягивал и вытягивал шею в самом деле как черепаха. Был табунщиком – ночным, днем больше спал, а мне ночами рассказывал, как он добивается, чтобы ему начисляли и за дневную работу. Ему отказывали, говоря, что не может же человек трудиться круглые сутки, на что он, вытягивая морщинистую шею, возражал: «А я тружусь!»
– Седёл дай нам парочку, – велел ему председатель. – Поля пора объезжать.
– Седёлок? – переспросил конюх, вытягивая шею и, кажется, не веря, будто кто-то собирается ездить верхом.
– Сёдел, – поправил себя председатель, вероятно, думая, что старик не понял, о чем его просят.
– А вот возьмите, – был ответ и шея оказалась втянута.
Мы с Иваном взвалили на себя два огромных, как кресла, музейного возраста строевые седла, с которых чуть не вся кожа была срезана. Пошли по конюшне – почти пустой. Председатель шагал, по-хозяйски оглядывая стойла, будто в каждом содержался боевой конь. Он говорил:
– Где тут у нас молоднячок?
В угловом стойле была привязана гнедая кобылка.
– А хоть бы эта, – сказал председатель при том, что большого выбора собственно не было.
– Молода и строга, – предупредил конюх.
– Да, не совсем годится эта лошадь под седло, – согласился председатель, подходя к лошади поближе и желая убедиться, так ли оно и есть. А кобылка коротко заржала, как бы вскрикнула, словно рассердилась на его слова и, приподняв переднюю ногу, отпихнула от себя председателя. Председатель крякнул, потирая ушибленное место выше колена.
– Строга, – удостоверил конюх. – А энта (он указал на старую вороную кобылу с проваленной спиной) всеми четырьмя отмахивается. С неделю уже как подступиться к ней не могут. Так и стоит, не работает.
– Ага, – обратился председатель к Ивану, – вот ее и седлай.
Втроем они суетились возле вороной кобылы, а она визжала от злости. Мне удалось подседлать и вывести на улицу гнедую. Я уже сел в седло, когда председатель с конюхом вывели из конюшни вороную, на которой сидел Иван. Пока ее вели под уздцы, она шла послушно, но едва отпустили, она стала вертеться на одном месте и подкидывать задом. Иван, сразу видно, ездивший плохо, вылетел из седла. Лошадь тут же утихомирилась, но к себе уже больше не подпустила. Кидая в нее щепками, сухими сучками и камешками, ее загнали обратно в стойло, а Ивану нашли лошадь, последнюю из тех, что стояли в конюшне.
Это был гнедой мерин по кличке Комар, мой ровесник, тридцать шестого года рождения, происходил от рысака, бравшего призы еще до революции, вроде Декрета 2-го из одноименной повести (переименована в «Браслет Второй»). На человечий счет, если умножить в шесть и даже восемь раз, старику перевалило за сто лет. Суставы у него при каждом движении издавали скрип словно немазаные дверные петли.
Мы пустились в объезд. И деревней ехали, и дорогой, среди картошки, мимо ржи и овса. Проезжали капустное поле. Обогнули колхозный сад. Когда Комар заупрямился и не пошел через бескрайнюю, во всю дорогу, бездонной глубины непросыхавшую лужу, пришлось дать крюка. Поехали вдоль железной дороги. Тронули рысцой. Рядом загудел пассажирский поезд, обогнавший нас, в окна вагонов высунулись любопытствующие головы. Всюду, где бы мы ни ехали, на нас смотрели, словно «по улице слона водили». С поля бабы кричали:
– Да чтой-то такое? Неуж сторожат?!
А Иван отвечал:
– Эй, совушки! Эй, курносенькие!
Когда мы ехали через рабочий поселок, нас сердито спросили:
– Что вы ездите да ездите? Вам делать нечего?
Подбоченившись, Иван ответил:
– А мы слыхали, у вас тут девушки хорошие есть.
В ответ пустили в нас такими тяжелыми словами, что силу удара почувствовал даже мой могучий напарник. Умчались вопреки запрету галопом. Не видно было никаких потрав. А конюх нас предостерег:
– Чего тут стеречь? Все огурцы до единого уже обобрали. Скоро за капусту примутся. Яблоки еще не поспели. Вы осторожней катайтесь! За это по спине бьют.
– За что? – нахмурился Иван, ожидавший, как обещал председатель, получить премию.
– А за то, – произнес конюх, он же пастух, – знать надо, как стеречь.
На следующее лето оказался я в тех же местах, и конюх-пастух-табунщик, вытягивая черепашью шею, прошептал: «Иван-то удавилси!». Отчего? «Хто ж ево знае? Видать от нонешней жизни полез сам собой в петлю, и весь сказ». Но тогда конюх крикнул нам вдогонку, едва мы с Иваном собрались в объезд:
– Корову мою, смотрите, не захомутайте!
– Она у тебя что же, – спросил Иван, – по колхозному полю ходит?
– Нет, – раздалось нам вослед, – ее моя хозяйка краем водит.
Председатель же нас поощрял и подбадривал. «А то, что такое?
– говорил он, морща лоб. – Огурцы разворовали. Сено таскают. Вы, как поймаете кого, так прямиком доставляйте в правление. Мы разберемся!».
Поймать нам никого не удавалось. Зато какой восторг – в седле полями! Летним утром. Прямо по Вебстеру: «Великое дело сидеть в седле! Можно подняться на стременах и далеко видеть кругом». Как-то едем вдоль клевера и видим, что-то белеет. Присмотрелись – вроде, коза. Подъехали ближе: и правда, коза, за колышек привязана, а клевер высокий, с дороги не видать, не совсем по Вебстеру, мы, сидя верхами, и не заметили. «Иван, – говорю, – брось, ну, ее». Кроме езды верхом, мне от объезда больше ничего не нужно было, а Ивану хотелось получить премию. Он спешился, отвязал козу, конец длинной веревки, за которую она была привязана, намотал на руку и опять забрался в седло. Лошадь тронулась, веревка натянулась, а коза – ни с места. Иван чуть было из седла не вылетел. Тогда он привязал веревку к седлу и снова тронул лошадь. Лошадь пересилила, коза, пошатываясь, спотыкалась сзади. Добрались до конюшни.
– Вот за это и бьют, – сказал конюх-пастух и табунщик.
– За что? – удивился Иван.
– Надо знать, кого ловить.
Иван отправился докладывать председателю, а я остался с конюхом. Тот прилег на хомуты, сваленные за ненадобностью в углу конюшни, и принялся рассказывать:
– Были у нас тут в объездчиках Шурка и Чапаевец, так их почти что угробили. Колхозный сад около станции, приезжали из самой Москвы яблоки обрывать. Шурка с ружьем ходил, так ружьишко у него отобрали, а Чапаевца чуть с лошади не стащили, ему ускакать удалось. Сережка одноногий взялся сторожить, ему и хорошую ногу обломали.
Меня он спросил: «Ты что же, после десяти классов в колхоз работать пойдешь?» Не успел я ответить, как вернулся Иван. Пришел не один – с корешем. «А ну, покажь», велел кореш. «Ваша», – определил. «Как это наша?» – Иван, смотрел сразу в обе стороны, на козу и на кореша. «Ну, тетки твоей», – последовал ответ. Иван заторопился водворять козу на прежнее место, но тетка фурией уже летела к нам. Под градом родственных упреков Иван привязал козу к велосипеду (приезжал на велике), и потянул дерезу назад, в клевер. Велосипед вилял из стороны в сторону, коза спотыкалась следом, а тетка не умолкала, продолжая ругаться.
Как-то в конце июля мы закончили утренний объезд, конюх-пастух куда-то отлучился, Иван уже уехал на своем драндулете, я расседлал лошадь и собрался идти домой, как вдруг из-за угла конюшни на четвереньках выбежал человек. Кому сказать – кто поверит? Черты лица заостренные, лицо загорелое и обветренное, глаза красноватые, мутные. Огляделся вокруг и, увидев меня, крикнул: «Подь сюды!» Привалившись к стене конюшни, простонал: «Домой меня отвези». Мне лишь бы подержаться за вожжи, спросил – куда. Оказалось, километров за шесть. Я не против был проехаться, но даст ли конюх лошадь? «Отвези!» – требовал человек. Тогда я сказал и сказал правду, что седлать умею, а запрягать еще не научился. Человек скорчился и закричал: «Врешь!» Тогда я предложил ему давать мне указания, как запрягать, а он так и сидел, привалившись к стене и закрыв глаза.
Я завел лошадь в оглобли и взялся за хомут. «Какой стороной надевать?» – спрашиваю. Вместо ответа незнакомец, перебирая руками, пополз по стене вверх, вытянулся во весь рост и, опираясь одной рукой о стену, другой поддергивал хомут, помогая мне. Наконец мы уселись. Я выправил со двора на дорогу. Дорога была вся в глубоких рытвинах и телегу начало кидать из стороны в сторону. Сказавшийся больным простонал: «На обочину езжай! На обочину! Здоровый такой, а понятия ни о чем нет». На обочине было в самом деле ровнее, но – под уклон, и мы чуть было не перевернулись. Больной привалился ко мне, вероятно, думая, что так ему будет удобнее, а я спросил, чем же он болен. Вдруг заразный! Мужик огрызнулся: «Почем я знаю? Что я тебе – врач? Началось с зубов». Наконец он проговорил «Хватит!» и велел мне остановиться. Я придержал лошадь, сказавшийся больным сполз с телеги на землю, посидел у дороги немного, поднялся и заковылял через дорогу в рожь.
Исчез, как появился, как видение, кошмар среди бела дня… Я развернул лошадь и двинулся назад по колдыбастой дороге. Попробовал тронуть шибче. Развязалась супонь, ослаб чересседельник и упала оглобля. Пришлось остановиться и поправлять, как сумею. Потом соскочила гайка у колеса. Как только не соскочило колесо? Не развалилась телега! Возле скотного двора все упало с лошади и она, словно стараясь избавиться от меня, сама забежала в конюшню.
В другой раз, когда пришел я в стадо, пастух попросил присмотреть за скотиной, пока он сходит в поликлинику, и вручил мне длиннющий кнут с конским волосом на конце – чтобы щелкал громче. Желая устрашить скотину, пробовал я хлопнуть этим кнутом и самого себя стеганул по спине. Коровы, овцы и молодые лошади, углядев, что пастух ушел, а я с кнутом управляться я не умею, словно по команде задрали хвосты и побежали на скотный двор. Жарко было и оводы их донимали. Стадо без лошадей утратило для меня интерес, за лошадьми следом пошел на конюшню. Конюх о том случае не упоминал, опасаясь, что отлучка помешает ему требовать начисления за работу и пастухом.
В наших беседах старик развивал свой взгляд на одомашение лошадей: «Оне видють нас в семь разов больше». «Как это?» – спрашиваю. Ответ: «Будто мы их ростом выше, не то стали бы нас слушаться!» Толковали мы с ним на его любимую тему – международную политику. На столбе возле коровника, ранним утром, в шесть часов начинал громыхать репродуктор, пастуха интересовало, как идет война в Корее и что с трибуны ООН заявил Трюгве Ли. Однажды разговор наш был прерван появлением воза с сеном. На самом верху, держа вожжи, сидел мужик, вертел головой, подавая нам знаки сообщить ему, что совершается позади стога. Воз миновал нас и мы увидели кадр из кино «Волга-Волга», поцелуи и даже более того. Бабель мной был ещё не читан, но задним числом могу сравнить с рассказом «Мопассан». Старик, всматриваясь, восторженно выкрикнул матерное слово и обратился ко мне: «Вижу, ты не ругаешься. Молодец! Не ругайся».
Двинулся я к дому. Дорога шла через луга. На горизонте стоял лес. Трещали кузнечики и, казалось, они высекают солнечный свет. Проходил мимо пруда. Спокойный стеклянистый покров отражал небо, облака, деревья, склонившиеся над водой. С мостков у берега прыгнул дачник. Разбил «зерцало вод», брызгался, фыркал, плавал энергичными бросками, высовываясь чуть не наполовину из воды. Было хорошо. Легко и свободно. Время проходило счастливо!
* * *
«Правильно ты написал, – сказала Антонина, учительница, – у нас счастливая жизнь» Однако мое сочинение лежало перед нею на столе без отметки. «Пусть родители придут в школу», – Антонина велит. Отец уже был исключен и снят, перед нашими окнами маячили фигуры в черных пальто, знакомые начали нас сторониться, один при встрече бросился бежать от матери. «Будь благодарен, что у тебя учительница – вторая мать» – сказали вернувшиеся из школы родители. Учительница, она же классный руководитель, в отличие от издательского сотрудника и завкафедрой авиационного института, очевидно не сообщила куда следует, а кто другой мог и сообщить о выполнении советским учащимся домашнего задания содержания недопустимого. Антонина же, у которой своих детей не было, нас продолжала охранять до десятого класса, из которого мы вышли в год смерти Сталина. Моё Сочинение нашлось среди семейных бумаг, как и было, без отметки.
Ради лошадей
Из дальнейшего жизненного опыта
«…Видны за полверсты, чтоб тебе не сбиться…»
«Теркин на том свете».
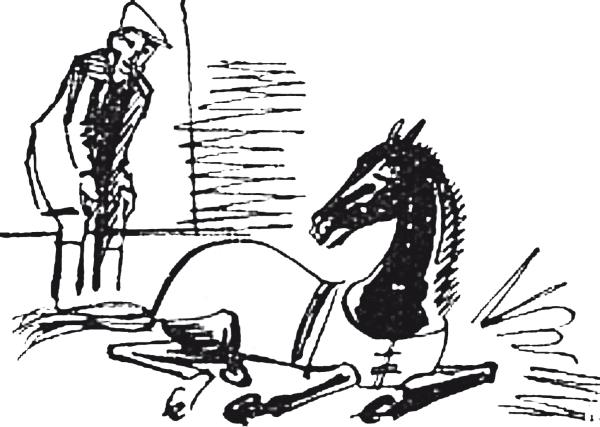
«Нельзя ли Твардовскому устроить навоза на дачу?» – от имени поэта спрашивает его друг, Мишка Яковлев, фотограф. В поисках навоза, сена и овса, что составляло у нас дефицит, ко мне, зная о моих связях в конных кругах, обращались, чтобы дышать над сеном, ручных грызунов кормить и удобрять участок. Лошади считались свое отжившими. Получил я письмо от школьницы, она спрашивала: «Отец прав? Мой папа, главный инженер завода, не хочет, чтобы его дочь вращалась среди лошадей».
Мир ипподрома – мои «пампасы», возврат к почве, поиск корней. После «Пищевика», переименованного в «Труд», напросился я на Центральный Московский ипподром (ЦМИ), расположенный забор в забор рядом с первым московским аэродромом, от него пошло название соседней станции метро «Аэропортовская». Летное поле по-прежнему использовалось по назначению, рысаки привыкли к грохочащему соседству, даже ушами не поводили, когда у них над головами «Дугласы» шли на посадку.
Если в кавалерийском журнале, хранившемся у Деда Бориса, печаталось об авиации, то от Деда же мне было известно, что в прежние времена ипподром предоставлял людям воздуха беговую дорожку для взлета. Взлетал с дорожки Борис Илиодорович Российский, прозванный Дедушкой русской авиации. Он приходил к моему дедушке Борису Никитичу поговорить о летании, с тех пор летчики и лошади совместились у меня в голове.
Михаил Громов, Степан Микоян, Василий Сталин, Александр Щербаков – знакомые имена сталинских соколов среди конников. Михаил Михайлович, по просьбе деда-воздухоплавателя, рекомендовал меня в конноспортивную школу. В манеже ездили мы со Степаном Анастасовичем, благодаря его отзыву был опубликован «Железный посыл» (см. далее). От Щербакова ко мне перешел дончак Зверобой. Это – на подмосковном конном заводе в Горках X, где я нередко бывал. Зверобоя на конюшне называли – Зверь. Когда к нему подходишь, он, как романтический конь в балладе Жуковского, бил ногами передними, а если всё-таки заберешься на него, рвал зубами, норовя вытащить тебя из седла. Щербаков, летчик-испытатель, стал опасаться: ему совсем ничего оставалось долетать до пенсии, а если Зверь его покалечит, не долетает до заслуженного отдыха. Подыскали доброезжего коня, чтобы испытатель, без опаски, по выходным занимался верховой ездой, мне же на том коне поручили делать проминку в рабочие дни. Еду через знакомый мне лес. Вдруг конь упирается, замирает и бьет его дрожь такой силы, что и меня трясет. Прямо перед нами пересекал тропу в свою очередь испуганный лось с короной рогов. Конь перенервничал – вскоре пал от инфаркта. Щербакову не дали знать, опасались, как бы перед почетной выслугой его самого «Кондратий не хватил».
С Василием Иосифовичем [Сталиным] не встречался, но бывал под крышей ангара, переделанного по его желанию в манеж для верховой езды. В штабе учрежденной им конной команды Военно-Воздушных сил сидели с бутылками шампанского. Выпивали? С пустыми бутылками – отливали, а не то по телефону позвонит и если кого на месте нет – серчает. Был строг, собаку у конюшни пристрелил: «Ты на кого гавкаешь?».
На ипподроме я мог погибнуть, если бы интересовался денежной игрой, ради чего немало людей ходит на бега, делая ставки в «то-тошку». Однажды попал в малину, братки из ипподромной публики обсуждали закупку заездов. Один обеспокоился: «Что же это мы при нем? Начальству донесет!» – «Не играет» – успокоили человека. Играет-не играет, как пьет и не пьет, Каинова печать, сила неодолимая. Достаточно вспомнить карточные долги Пушкина, похоронить поэта было не на что, Достоевский, проигравшись в рулетку, женино белье закладывал. Бабель, бывая на бегах, будто бы не играл, так пишет его вдова. Но писательским вдовам верить нельзя, они, по службе переходя от одного писателя к другому, ангажированы. К тому же близкий друг Бабеля Василий Гроссман, которому, как считается, следует верить, полагал, что в судьбе создателя «Конармии» увлечение ипподромом – один из факторов его погубивших.
На доходы с азартной игры Московский ипподром содержал Московский цирк и Большой театр, но pari mutuel, механического тотализатора, у нас не имелось. Вместо механизма тотализатором служила небольшая комната, в которой теснились бухгалтерши и щелкали на счетах. Миротворец Ирвинг Радд, провозглашавший «Нужны бега, а не гонка вооружений», попросил показать ему наш тотализатор, он прибыл пригласить советского наездника для участия в Призе Организации Объединенных Наций. Повёл я гостя в комнату, занятую до отказа бухгалтершами, американец, судя по удивлению в его глазах, решил, что просьбы я не понял.
Как ни называй, для меня тотализатора не существовало. Когда «Тиграныч», в то время директор ипподрома М.Т. Калантар, давая мне допуск на конюшню, предупредил: «Не играть!», я удивился: зачем? Призовая конюшня являлась в моих глазах символом порядка. Это был осколок Regime Ancien, старого строя. Все стояло на своих местах. Решал класс. Порода! Уходил я из библиотеки на бега – над курсовой мне казалось невозможным работать так, как позволяли мне работать рысаков. В нашей писанине столько произвола! Лопату лопатой не назовешь! А на призовом кругу правоту показывает столб. Финишный столб выглядел в моих глазах осью мироздания, незыблемым и безошибочным мерилом.
Московский ипподром оставался заповедным, почти не тронутым уголком былого. Что ни конюшня, обиталище призраков и преданий. Советские рысаки помещались в конюшне, где когда-то стоял дореволюционный «король русских рысаков» Крепыш. На беговой дорожке блистали ветераны «из бывших». Не найдется и сейчас, после Реставрации, родовитых и титулованных в такой скученности, хотя у нас совершилась Славная революция: ещё одно пришедшее к нам из Англии понятие.
Свою революцию англичане называют Большим бунтом, а Славная революция – компромисс, соглашение между земельной аристократией и промышленной буржуазией, выход на авансцену деловых людей, что иносказательно отображено в романе о Робинзоне Крузо, отсидевшемся на острове двадцать восемь лет, в точности сколько потребовалось, чтобы произошли коренные перемены. В целом у англичан на соглашение ушло полвека, за такой же примерно срок наши коммунисты переродились в капиталистов, товарищи стали господами. Некоторые продолжают числиться в коммунистах ради того, чтобы не лишиться немалой, оставшейся от КПСС, недвижимой собственности.
Свершилось, как обычно, задом наперед, в обратном порядке. По законам общественного развития буржуазность положено изжить в пожаре пролетарской революции, а у нас в пору социализма, который называли зрелым, сложилась собственническая кастовая прослойка: верхний пласт партийных работников, паразитирующая за государственный счет бюрократия, интеллигенция, пригретая властью, и капитаны теневой промышленности, вышедшие из тени и сомкнувшиеся с властью. Собственники, названные новыми русскими и занявшие положение элиты, были склонны жить по-старинному, восстановив и узаконив сословное неравенство, как при царе, что и предсказывал королевский коновал.
Потомство постсоветских наживал (les profiteures), их сыновья и особенно дочери полюбили лошадей, мечта их сбылась. Первое, что поразило меня, когда я переступил порог частной конюшни, потеснившей знакомый мне государственный конный завод, были лошади иностранных пород, на каких те же девочки раньше кататься не могли. Отец школьницы, которая запрашивала меня о допустимости любви к лошадям, с крахом СССР присвоил предприятие, каким прежде руководил, а дочери подарил липициана, порода известная со Средних веков. У нас таких лошадей раньше не водилось, рыцарские кони отвечали вкусам новых имущих, разжившихся за счет государственного добра. Бывший парторг ипподрома у себя в усадьбе стал растить эвкалипты и в ближайшую церковь ходить. Идейную основу под грабеж подвел мой сверстник и соученик по школе, экономист и романист Николай Шмелев.
На Колю до сих пор ссылается Михаил Сергеевич Горбачев, инициатор реформ, подсказанных ему желанием жены жить за границей. Для этого надо было советское государство упразднить, ибо иначе находившимся наверху, у власти, невозможно было выехать.[6] Вот, теперь говорит Горбачев, прав был Николай Петрович!
Мы с Колей близки не были, в какой обстановке он вырос, мне не известно, но все знали: некоторое время он являлся зятем Хрущева и нас уверял, что брак был по любви, в чем мы и не сомневались. Хотя великосоветский союз распался, у разведенного супруга связи и взгляды сохранились. «Одни равнее других» – иронический тезис Оруэлла Коля обратил в серьез на страницах «Нового мира», рупора советского свободолюбия. Кроме того, написал роман и подал заявление с просьбой о приеме в Союз писателей. Мне было поручено оценить его произведение. Коля писал умело, высказаться в пользу приятеля можно было, не кривя душой, но поразила прямота, с какой он отдал предпочтение своей любимой мысли (пушкинское определение предвзятости). А именно: пусть плачут неудачники и преуспевают удачники, выкормыши советской власти. Пережив крах коммунистического режима, могут справлять именины и на Антона, и на Онуфрия.
Звучали о происходившем у нас и такие призывы: «Пусть крадут, уж если красть, то как можно быстрее и до конца, подчистую».[7] Процветало ли воровство в государственных размерах при советской власти, чего не знаю, того не знаю, но преступления против человечности случались. Моего отца всего лишь исключили и сняли, но вокруг что ни день слышалось «взяли… забрали… отправили…»
Ещё до войны в кукольном театре я видел «Путешествие в странные страны» – представление об исполнении детских желаний. А чего хотят дети? Чтобы им не запрещали, и двое деток, сестричка с братишкой, силой колдовства волшебного кота, попадают в царство вседозволенности, где им нельзя не курить, а школьную дисциплину нарушает… учитель. Детишки начинают проситься обратно, где не разрешают. А теперь и взрослые желают запрещений, тоскуя о строгости. Рождением не старше начала 1950-х годов рассуждают о том, чего не пережили, что пережили мы, современники Друга детей.
Вождя я видел трижды, один раз на параде и дважды шли колонной мимо Мавзолея, а с трибуны нам пальцем грозил старичок в маршальской фуражке, которая, казалось, ему великовата. Впечатление дряхлости вождя сложилось и у моего двоюродного брата Андрея, ототбранного в группу школьников для поздравления товарища Сталина с 70-летием.
Брат, пятиклассник-отличник, оказавшийся с вождём лицом к лицу не на Красной площади, а на сцене Большого театра, домой вернулся со словами: «Какой же он старый!» Детское впечатление дряхлости нашего кормчего сравните с тем, что ныне допущенный к сталинским бумагам и стремящийся держаться фактов говорит историк Юрий Жуков.
Нам не надо рассказывать, как было. К тому же рассказывающие брешут. Добравшись до рампы или экрана, вещают: «Раньше всегда… раньше никогда…» Будто бы раньше было, чего в действительности и не было, или же наоборот, ни слова о том, что было. Сил нет терпеть дуюших в одну и ту же дуду предвзятой выдумки. Смотря на экран, в душе кричу: «Не рассказывайте!».
Строили социализм, обещая коммунизм, а построили государственный капитализм, это нам объясняли сочувственные радио-голоса из-за бугра. Голоса заглушали как ложь, но заглушавшие и совершили реставрацию в интересах собственников, успевших вовремя поднажиться. Ещё у начал нашего, рассчитанного на одну страну социализма, лучший, талантливейший поэт эпохи обрисовал тип непотомляемого приспособленца: созреет и размножится по мере перерождения строя, называемого социализмом, даже зрелым социализмом, а где зрелость, там и распад.
«Шел я верхом, шел я низом, строил мост в социализм, не достроил и устал и уселся у моста. Травка выросла у моста, по мосту идут овечки, мы желаем – очень просто! – отдохнуть у этой речки. Заверните ваше знамя! Перед нами ясность вод, в бок – цветочки, а над нами – мирный-мирный небосвод».
Советский период российской истории подтвердил вывод Вальтера Скотта. Чем у шотландского романиста завершается цикл Ваверлея, подводивший итоги буржуазных революций в Нидерландах и Англии? По-началу рыцари, разбойники – романтика, а финал прозаический – мещанский, ещё Аполлон Григорьев обратил внимание: совершивший свои подвиги героический воин заключает выгодный супружеский союз и садится за конторку деньги считать. Советские люди строили, страдали, побеждали, отдавая свои жизни, погибали, а с крахом устоев обернулось торжеством богатых и вороватых, не великих извергов рода человеческого, а в узком и прямом смысле вроде ребят из соседних дворов, их очень хорошо себе представляю: во двор следующего за нами дома № 4 по Страстному лучше было не заходить, а в дом за углом № 23 по Большой Дмитровке считалось вовсе опасно.
«И слышен Штейнгеля звонок».
Поэзия ипподрома.
Сборище дворян сейчас не редкость, а при социализме бывшим некуда было деваться кроме призовой конюшни, островка прошлого. Стартером на бегах работал Розенберг, уцелевший террорист из тайной организации «Земля и воля». Сын пензенского губернатора Эспер Родзевич, считался грозой всех и каждого среди мастеров. Боевитый Ивашкин – из Бибиковых. Тренер резвача «Улова» Николай Романыч Семичев, так и прозванный Барином, потомок декабриста, дружившего с Пушкиным. Любимый публикой победитель традиционных призов Ратомский, хотя и незаконнорожденный, но сын родовитого шляхтича. Старик Стасенко ездил на лошадях Великого Князя Дмитрия Константиновича. Живая легенда – Ляпунов, уехал за границу вместе с барыней-коневладелицей и на родину вернулся умереть. На конюшню Грошева заглядывал Лежнев, конюхи перешептывались «Наш владелец». Ему раньше принадлежала Елань, ставшая племрассадником № 33, и если выигрывали лошади леж-невских линий, конюхам к зарплате начислялись призовые.






