
Дмитрий Урнов
Люди возле лошадей
«Лошадь выживет. Она не исчезнет до тех пор, пока существует сам человек. Ибо на всей земле можно пересчитать по пальцам тех, в чьей жизни и памяти, в испытаниях судьбы и личных пристрастиях лошадь вовсе не занимала бы места».
Уильям Фолкнер

Д. М. Урнов
Фото Эрика Штарке, 2012 г.

Рисунки и фото на обложке Алексея Шторха
Консультант редактор «Беговых Ведомостей», капитан 1-го ранга Олег Горлов

© Издательство им. Сабашниковых, 2022
© Д.М. Урнов, 2022
Поучение Гёте, или Лошади, люди и литература
«Смешались в кучу кони, люди…»
«Бородино».
«Получишь в старости, о чем мечтаешь в молодости» – поучение Гёте сбылось, как сбываются поучения великих в меру твоей собственной малости.
«Рановато!» – более полувека тому назад услышал я от Конрада Николая Иосифовича. Просил у него поддержки замысла написать о связи литературы, людей и лошадей. Академик только что отверг мою статью о «Смерти Артура» из-за очевидного у меня недостатка знаний о предмете. Пришлось и с лошадьми подождать. По редакциям говорили: «Сократите лошадей» или же требовали оставить одних лошадей, а литературу убрать. Продолжалось до тех пор, пока не изменилась вся система и – печатай, что хочешь, но за свой счет. Средств у меня не накопилось, оплатил Фёдор, сын, ставший директором Института передовых генетических исследований при Университете Калифорнии в Беркли.
Другие мои замыслы осуществились благодаря коннозаводчику Клименту Мельникову, начкону Гановер-Шу-Фармс Полу Спирсу, Председателю Всероссийского Общества рысистого коневодства, генералу Исакову, строительному тресту «Евростар», синдикату «Сандуновские Бани» и, конечно, издательству им. Сабашниковых, что побуждает меня пузыриться от самоудовлетворения. Классика в издании тех самых Сабашниковых являлась для нас в университетские годы обязательным чтением по курсу Античной литературы.
Ирония истории, реакционная метаморфоза и фатальные связи
«Мой отец занимался лошадьми. Конюшня служила мне идеалом».
Джордж Мур. Признания молодого человека (1881).
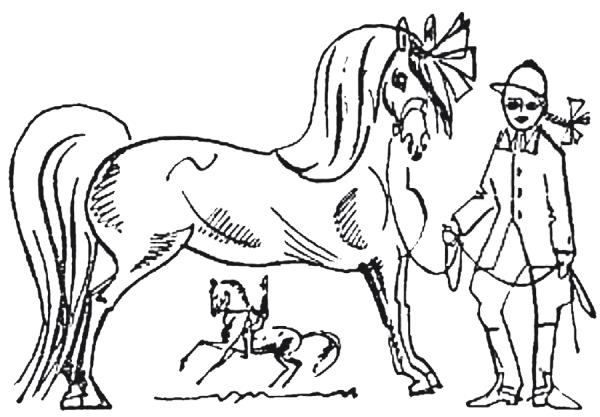
Мой отец, профессор литературы, редактор и переводчик, не забывал, как в годы деревенского детства пас ночное, аспирантом брал уроки верховой езды в манеже ОСОВИАХИМА, переводил ковбойские рассказы О. Генри, рекомендовал к печати сделанный его приятелем перевод книги «Дымка, конь ковбоя», мне посоветовал прочесть «Изумруд» Куприна и сводил на ипподром.
Завсегдатаем бегов отец не являлся, но заведуя редакцией, опубликовал предсмертную исповедь чешского антифашиста, исповедь завершалась призывом «Люди, будьте бдительны!». Призыв понравился и стал лозунгом государственной политики. Сотрудник того же издательства, желавший занять место моего отца, проявил бдительность и сообщил куда следует: заведующий редакцией не донес, что его друг, директор издательства, готовит покушение на Сталина. Директора, которого Сталин и назначил, посадили, отца исключили и сняли за потерю политической бдительности: сказалась ирония истории – сам на себя обвинение накликал. Отец пробовал оправдываться: «Не донес, потому что нечего было доносить». «Что же вы, – упрекали его в инстанциях, – не хотите признать себя виновным?» Оставшись без работы, отец переводил как «негр», за других. Вдруг говорит: «Думаю пойти на бега».
Ехали маршрутом мне знакомым. Той же дорогой посещал Музей авиации с Дедом Борисом, воздухоплавателем[1]. На том же троллейбусе № 12 отправлялись от Пушкинской площади к Ходынскому полю и где-то в конце пути слышался голос кондуктора: «Бега!» Каждый раз я спрашивал, что такое бега, дед нехотя отвечал: «Бегают лошади». Воздухоплаватель хотел видеть меня авиатором и ревновал мои интересы ко всему, что не летание. Однако давал рассматривать «Вестник русской конницы», но журнал кавалерийский хранился у него не ради лошадей. Там сообщалось о едва народившейся авиации. Меня же, привыкшего к самолетам, заинтересовали лошади – совершилась реакционная метаморфоза. Тем временем наряду с призывом к бдительности началась борьба с космополитизмом, булки французские стали называться городскими, дед, получивший инженерный диплом за границей, попал в космополиты. Он отказался от своих статей о воздухоплавании, заказанных ему для Большой Советской Энциклопедии и переправленных в нужном духе, а завкафедрой Московского Авиационного института (МАИ), где мой дедушка вел курс своей жизни – историю летания, отправил куда следует донесение: пора разоблачить лжеученого-космополита. Всё это я узнал со временем, сдавая бумаги деда в Академический Архив, где за ним числится 437-мь единиц хранения.
Если крыть нечем, обвиняют в нелюбви к родине. «Патриотизм есть последнее прибежище негодяев», – определил лексикограф Сэмюель Джонсон. Его слова повторили Толстой и Марк Твен. В наше время установилась живая цепь от мнений руководства к строгим оргвыводам и принятию решительных мер против недостаточно любящих родину. Таков был механизм управления, как в сказках, известных мне с малых лет в обработке Алексея Толстого. Вода заливает буйный огонь, огонь жжёт без дела лежащую палку, палка погоняет упрямую козу. Деда, не желавшего признавать выдуманные отечественные «приоритеты», отлучили по доносу от кафедры, где он преподавал восемнадцать лет.
Всё же попадались с трезвыми головами и совестью. Не много было таких, но были. Не стали выяснять лже или не лже, перевели на должность младшего научного сотрудника своими глазами видевшего зарождение авиации и даже принявшего в том участие. Спасительный переход совершился волей Валерии Алексеевны Голубцовой, академического администратора, супруги Маленкова, главы правительства.
Недавно знанием имени удивительной женщины, которой обязан спасением мой дед, я поразил американского собеседника, изобретателя PIXAR’a.[2] Американский изобретатель интересовался Котельниковым, уцелевшим тоже благодаря Голубцовой. Упрятав создателя секретной радио-связи в шарагу, Валерия Алексеевна уберегла его от завистников и ненавистников, других изобретателей. Шарагой или шарашкой тогда, как известно, назывались подневольные исследовательские учреждения, куда заключали ученых, их сажали, как в зоопарке, по клеткам, чтобы не пожрали друг друга. Даже у дамы с большими связями не нашлось иного пути избавления незаменимого специалиста от тюрьмы и лагеря.
Среди крэков
«Мне довелось быть и на конях и под конями».
«Очарованный странник».
Возле лошади я очутился впервые пяти лет в начале Отечественной войны. Случилось это на подмосковной станции Удельная, откуда были видны залпы из орудий противовоздушной обороны, но я испугался не залпов, а лошади. Каждый предвоенный год из нашего окна на Страстном разглядывал идущую на парад кавалерию, в зоопарке катался на пони, лошадка из папье-маше была моей любимой игрушкой, но когда предложили мне сесть на живого коня при местной школе, где работала моя тетка-учительница, страха пересилить не смог. От предложения, настойчивого предложения, отказался.
Пугливое существо жило и живёт у меня внутри, обросло мяса-ми и волосами, но, чувствую, живёт, напоминая о себе, всякий раз, если сажусь в седло или берусь за вожжи. Уже после войны ездить верхом ещё без седла научил меня сын колхозного конюха Ванюшка Баранов. Сидеть в седле начал с четырнадцати лет в конно-спортивной школе «Пищевик». Через год в «Пищевике», переименованном в «Труд», решили: выше третьего разряда не поднимусь. Пробовал вместо поводьев взяться за вожжи, напросился на ипподром и пересел из седла на беговую качалку, выступал «охотником», иначе говоря, любителем, в ту пору единственным среди профессионалов. Один заезд выиграл, а в Большом призе остался пятым. Однако вопреки наездничьей бездарности попал на вершину лошадиного мира.

Требовался переводчик, способный отличить хотя бы хлыст от хвоста. Расширялись международные связи, приглашенные из Интуриста толмачи не улавливали важные оттенки в переговорах между конниками, и наши лошади несли лишний вес. «Лошадям переводишь?» – на мой счет шутили остроумные люди. Случалось, и лошадям. Выменяли американского рысака, директор ипподрома Долматов мне говорит: «Потолкуй с заморским жеребцом по-ихнему, а то наши с ним объясняются по матушке, он не понимает».
Исключительное положение среди породистых лошадей и первоклассных конников, так называемых крэков (от англ, crack, хлопок хлыста), имело и унизительную сторону. Мастера призовой езды нашли, что я лишен tact equestre, чувства лошади. «Ни рук, ни головы у тебя нет, только язык привешен», – решили волшебники вожжей. «Руки» – способность управлять, «голова» – понимание «пэйса», от английского расе, напряжение борьбы на беговом кругу. Всё же заведующий производственным отделом ипподрома, Горелов Константин Иванович, разрешил записывать меня на призы, для выполнения плана. Каждому рысаку полагалось пробежать на приз четыре раза в месяц. Меня сажали на «безногих», у них ноги, конечно, были, не было резвости в ногах. Выезжал я на круг, как полагалось, под номером, в цветах конюшни от конзавода Саратовской Области – камзол синий, рукава и картуз черные. Горелов теплел ко мне, видя, что я безропотно глотаю пыль, приезжая «в спину», следом за мастерами. Публика оставалась мной недовольна. «Хватит темнить!» – подходя к финишу, слышал я крики с трибун. Думали, нарочно проигрываю, а с меня было довольно, что есть у меня свое место среди мастеров, с ними принимаю старт, на финише прихожу за флагом. Флага в мое время уже не ставили, но соблюдали допустимую меру отставания – сто пятьдесят метров.
«Лошадь хороший зверь».
«Вишневый сад».
«Вожжи в руках», – услышал я от первого моего наставника, саратовца Козлова Сергея Васильевича, наездника заводского (слово завод означает разведение лошадей). Добивался я у Сергея Васильевича, почему у меня лошадь идет боком, а у него – на чистом ходу.
Совершенствовался на ЦМИ (Центральном Московском ипподроме) у Грошева Григория Дмириевича. После езды и уборки столичный мастер из мастеров читал мне лекции, однако усвоить услышанное у меня не хватало рук. Браться за вожжи, брался, но о чем слышал в теории, на практике не претворялось. Старался перенять красочность конюшенной речи. Спрашиваю, чем прибывшие с конзаводов двухлетки отличаются от уже взятых в езду рысаков. «Зверем пахнут», – говорит Грошев. Так, касательно всякого конского волоска, изъяснялся наездник. Между собой конники говорили грубовато, но едва заходила речь о лошадях, выражались картинно, что называется, по охоте, как и подобает этому живописному делу. Владение хлыстом, посыл, сборка, понимание пэйса, величие былых мастеров – все это сверкало в их устах и у меня перед глазами, однако вставала грань, за которой объяснения бессильны: «Вожжи в руках!» У меня рук не оказалось, моя роль в конном мире ограничилась языком. Когда приезжали зарубежные заправилы бегов или скачек, я их сопровождал по ипподромам и конным заводам нашей страны.
Посетил страну англичанин Форбс, ветврач королевский. Побывали с ним в Кремле. У гробниц Архангельского собора, рассматривая усыпальницы российских властителей, англичанин говорит пораженный последовательностью: «У вас же опять должен быть царь». Возражаю: «У нас революция была!» Он: «Была и у нас, а совершилась реставрация». В ответ цитирую Ленина: «Мы идем другим путем».
Тогда же американец Сайрус Итон, железнодорожный магнат, протянул нам руку дружбы, ему присудили Ленинскую премию мира и вдобавок подарили тройку. За океан доставил тройку Фомин, прославленный кучер. Лошади у него плясали, как у Ивана-дурака из пушкинской сказки, в его руках тройка произвела в Америке фурор. Но через год коренник по кличке «Водопад» стал на правую переднюю жаловаться, захромал, и решили отправить ленинскому лауреату ещё одну тройку. Фомин в то время лечил ушибленное колено, сопровождать вторую тройку выпало нам с Шашириным, лошадиным доктором. Мне доверили сесть на козлы в качестве кучера. «Кому вожжи вручаете? Он же без рук!» – говорили Горелову. К. И. отвечал: «Зато не нужен переводчик, ведь попадаются не имеющие понятия, каким концом лошадь тянется к овсу, с какого калится».
В Институт Мировой литературы (ИМЛИ), где я числился, Горелов направил запрос с просьбой отпустить меня на месяц в Америку. Институт не отказал, но в изучении литературы требовалось закончить всё, что я занятый лошадьми со дня на день откладывал. Когда до отъезда остался один день, у меня на проездке с недосыпу пошла носом кровь. Бывало с детства, врачи утешали: «Зато не хватит тебя удар. Покапает и перестанет». Не выпуская вожжей, считаю звезды, гляжу в небо.
За океаном
«Корабль плывёт, толпа кричит…»
С. Т. Кольридж. «Старый моряк».Перевод Н. Гумилева.

С тремя жеребцами, снятыми с бегов, отправлялись у погрузочной платформы ипподрома. Сцепщик написал на вагоне «ЛОШАДИ» и мы поехали. До Мурманска добирались товарником. «В Америке будем к одиннадцати вечера» – уверял Шаширин, он уже бывал за океаном с «Анилином», жеребцом высокопородной линии, до войны у нас такой не было, досталась по репарациям. Шаширин вспоминал: «Оррригинальный жеребец». В одиннадцать вечера в Америку однако не попали.
Прежде чем сцепщик написал «Лошади» и мы поехали, много друзей хотели сказать нам напутственное слово. Проводы затянулись, доктор уговаривал: «Расходитесь, а то мне ничего не останется для наружных втираний лошадям!». Возникали всё новые лица, каждый приходил с добрым словом и делом. Когда никому неизвестное лицо попробовали спросить, почему так решительно протискивается в вагон, прозвучал контрвопрос: «А кто гвоздь прибил?!» И все увидели гвоздь, державший снаружи металлический люк окна. В дороге, особенно перед сном, незнакомец приходил мне на память. Грохотал и лязгал вагон, но люк окна не прибавлял ничего к ужасному шуму.
На узловых станциях состав подлежал переформированию. Однажды ночью, лежа на сене и чувствуя толчки, слышу шелест бумаги: в пути пришлось дописывать Предисловие к переводу английской книги. Рукописные листы сползли с кипы сена под копыта кореннику по кличке «Купол», топчет жеребец бумагу и стрижёт ушами, недоумевая, что у него под ногами шуршит. Следы кованых копыт на рукописи остались. В издательстве «Прогресс», куда из Мурманского карантина была мной отправлена срочная писанина, озадачились, зачем, с какой целью, текст истыкан гвоздями, но всё же в книге «От Мэлори до Элиота» предисловие мое поместили.
В Мурманске нас окутывал сумраком арктический день и поглощала мраком полярная ночь. Макабризм озвучивался (говоря на англо-русском наречии) пронзительным визгом. В дальнем углу карантина поросенок, родившийся без заднего прохода и после принятия пищи лишенный возможности облегчиться, голосил, надрываясь, в ожидании врачебной помощи. Визг по-прежнему стоит у меня в ушах, но дождался ли поросенок помощи, не скажу, нас отправили в порт на погрузку. Лошадей вели затемно под прожекторами. Грузчики поражались зрелищу из сказки про Конька-горбунка.
«Государь был в Роттердаме, где заметил он статую Эразма».
Пушкинская «История Петра».
В Атлантику шли через Балтику на транспортном судне. Первая стоянка в Антверпене, нас с доктором на берег не выпустили, не удалось увидеть «Ночной дозор». О картине Рембрандта я слышал от деда, своими глазами видевшего: в темный зал входишь и на тебя… идут люди. В Роттердаме выпустили, но от лошадей надолго отлучиться нельзя, до статуи Эразма не добрались. В музее осмотрели череп гуманиста, вместилище мозгов, которыми ворочал ум, создавший «Похвалу глупости» – отправной пункт современности. Родоначальник мышления Нового времени изобличал глупость больших умов, клеймил выдающихся узколобых ученых, изничтожал великих бесталанных писателей, разоблачал всевластных лживых правителей, изображал злобных безбожников и насмехался над ханжеством рьяно верующих. Достойных доверия не нашлось (в 1515-м году). То же самое скажет Гек Финн: «Чтобы совсем не врамши, таких не видал», мой литературный герой.
Перед выходом в океан стоянка сдвоенная – Руан/Ле Гавр. Доктор, озабоченный простоем лошадей, с нетерпением ожидая отплытия, ругался: «Лягавр!».
До Руана больше пятидесяти миль, пешком туда-обратно не обернешься, на берег не выходили, но мне разрешили с капитанского мостика смотреть в ту сторону. «Что высматриваете?» – спрашивает капитан Бельков. Отвечаю: «Там истоки современной прозы». Когда-то моряки разных стран говорили: «Держи на окно господина Флобера». Писатель, живший в домике на берегу, в поисках le mot juste, точного слова, не спал по ночам, свет из его окна служил маяком.
«Голову не жалко оторвать тому, кто решил лошадок доставлять по воде, – говорил Бельков. – Не закачало бы коней!» Океан пощадил – пересекли, как по озеру, говорили матросы. Но у Ньюфаундленда качнуло, палуба вставала дыбом, тревожились за лошадей, держали в стойлах изнутри обитых кожей, Правый пристяжной «Поводар» дышал прерывисто и часто. Нервные колики – диагностировал доктор. Похожий на клоуна, цепляясь за канат, он висел над лошадью и целился шприцем в вену, бормоча: «Оррригинальный шторм…» В Монреале опять карантин, у нас взял интервью сотрудник «Радио Канады». Им, по Юнгу, в силу фатальных связей, оказался бывший владелец московского дома, в котором я вырос, Страстной бульвар № 6. На доме, со двора, виден вензель с буквой L–Lieven, семья дипломатов и военных стратегов.
Корреспондент, он же князь, Александр Андреевич, раньше брал интервью у Керенского. Говор Керенского грубоват, лишен мелодичности, у князя звучит музыка русской речи. Когда так говорили, Чехов писал[3].
Ливен состоял в родстве со Стаховичами, семья, в которой зародился сюжет «Холстомера», воплощенный Толстым. Но приезжать А. А. не приезжал. Так и не дожил, чтобы прийти на Страстной бульвар, где ныне под нашими окнами проходят протестные толпы, и потребовать назад свой бывший мой дом.
Мы переписывались, даже открытка дошла, хотя торговый индекс поставлен вместо адреса, но адресат указан, а где надо, знали, кто с кем переписывается:
Дмитрию. Цена без конверта четыре копейки.
О встрече с Ливеном я по возвращении рассказал соседке, их бывшей экономке. Старушка вспомнила, как ей пророчила графиня, «Бабушка Ливен», на полотне запечатленная Серовым. Отправляясь в отъезд, бабушка кастеляншу предупредила: «Ничего у вас не получится!». Записывая рассказ, я испытывал, по Бахтину, чувство амбивалентное: «Не получится»? Как будто у них получилось! И тут же спрашивал себя, неужели невозможное возможно. Немыслимые мысли отгонял, а теперь не выходят у меня из головы предсказание Бабушки Ливен и пророчество мистера Форбса.
«Не делай пешком ни шага, если можно ехать верхом».
Из ковбойских заветов.
За океаном моим первым желанием было увидеть ковбоев и как по заказу мне достался ещё один подарок судьбы. Владевший сетью товарных путей и обратившийся в нашу сторону железнодорожный магнат у себя в стране на политические упрёки отнекивался, отвечая, зачем он связался с нами: «Я простой сельский парень». И в подтверждение своих слов на ферме разводил бычков.
Тройку мы сдавали управляющему фермой, звали его Труман, по-русски Правдин, натуральный Клинт, объездчик из «Дымки». В доме у Трумана я, как вошел, увидел книгу ковбоя, первое издание, до сих пор не вышедшее из печати. Понятие обратное тому, какое бытовало у нас. У нас, выпустив книгу, рассыпали набор и книга больше не печаталась. На Западе, если есть спрос, держат книгу в печати, подпечатывая тиражи, из печати книга не выходит. Не вышел, например, Шекспир, до сих пор его пьесы нередко так и тиражируют со старых матриц, с опечатками неисправленными.
Наших рысаков по приезде поставили в открытых стойлах, боксах, а на дворе январь. Ковбой говорит: «Мы со временем переведем их в стойла получше». Обещание «со временем» прозвучало песней слишком знакомой, я про себя удивился: «Куда мы попали? И это Америка?». Отлучился в туалет, вернулся, хотел взглянуть, как чувствуют себя наши жеребцы, а боксы пустые. «Я же сказал, переведем» – объяснил Труман. «Вы сказали со временем!» – «А несколько минут не время?» – получил я первый урок американизма.
«Эх тройка, птица тройка, кто тебя выдумал».
На другой день рысаки, с настоя, взяли на унос. Доктор, сидя с Труманом у меня за спиной, кричал: «Переводи же ему! Переводи!» Иными словами, проси о помощи, чтобы тройку удержать. Перевести я не успел, пролетка опрокинулась и меня постигла участь Ипполита, как у Расина (в переводе М. Донского):
Помчались скакуны по рытвинам и скалам…
Держался Ипполит, но вдруг – сломалась ось!
Разбилась вдребезги о камни колесница.
Запутался в вожжах несчастный Ипполит.
Лошади волокли меня по земле, я тянул на себя две из четырех вожжей, но развязался гуж, качнулась дуга, и коренник фактически освободился от упряжки. Остался я лежать на обочине, а надо мной, как в кинофильме Ильенкова «Тени забытых предков», пронеслись кони, только не стрелы огненные, а темные тени. Откуда-то возник стремительный автомобиль с надписью-молнией «Шериф», с ревом и риском он понесся наперерез потоку машин и лошадей. Все кто был на ферме очутились верхом и тоже полетели стремглав, соперничая с автомобилями. Всех опередил местный паренек по имени Фред. Сидя не в седле, а за рулем, он поставил поперек шоссе свой эс-ю-ви, мини-автобус. Лошади, волоча разбитый экипаж, оторвали у автомобиля бампер, но замедлили ход и выскочивший из кабины Фред повис у них на удилах.
Лежа на обочине, я сообразил: тройка выражала идею, усвоенную со школьной скамьи: «Птица-тройка… сам летишь и всё летит…»
«Нужны бега лошадей, а не гонка вооружений».
Ирвинг Радд.
Чинить пролетку, у которой отвалился передок, взялись амиши, сектанты, соблюдают омовение ног, не признают завоеваний цивилизации, электричеством и бензином не пользуются, но умеют работать руками. Пока амиши ладили пролетку, «Папа Сайрус» (прозвище Итона) отправил нас с доктором осматривать, какие конские породы есть в Америке. Остановились на ипподроме под Нью-Йорком, поместили нас в ближайшую гостиницу. Чтобы оправдать затраты на наше содержание, отвечавший за рекламу ипподрома Ирвинг Радд, рекомендуя меня, объявил: «Один его дед стоял у истоков русской авиации вместе с Игорем Сикорским, другой дед устраивал русскую революцию с Керенским».
Крупица достоверности в словах рекламера была. Дед Борис, космополит, в 1913-м году взял у Сикорского интервью и напечатал в журнале «Мотор». Дед Вася, эсер, после Октября 17-го попавший в чистку и ставший лишенецем, мне рассказывал, как в марте того же года выступал с балкона Моссовета в очередь с Керенским[4]. Те же имена через железный занавес у нас не пропускались, но американцы отпустили деньги на гостиницу и прочую обслугу. Когда мы вернулись, оказалось, каждое наше слово неисповедимыми путями доходило до Москвы, однако про рекламную гиперболу, говоря общепонятно, hype, не задали ни одного вопроса. Добивались, сколько мы позволяли себе лишнего. А мы, если и позволяли, то во имя мира и дружбы.
Разогнать тоску приходили к нам эмигранты ещё первой волны, нахлынувшей на Америку со второй половины XIX столетия. Постоянно навещал пасечник, живой персонаж из повести Короленко «Без языка». Английским (с украинским акцентом) старик овладел, вспоминал своего приятеля – Окунцова Ивана Кузьмича, летописца Русской Америки, который в Буэнос-Айресе за свой счёт издал «Историю русской эмиграции», а профессор Симмонс, корифей советологии, помог мне книгу достать. Сокрушающая сердце эпопея нашего блеска и нищеты, предприимчивости и пустопорожней растраты сил, невероятных достижений и опрометчивых утрат, героических порывов и легкомысленных пусканий всего насмарку, широчайших государственных планов и непостоянства политики. Сейчас спорят, продали мы Аляску или сдали в аренду. Согласно Окунцову, не чаяли от Аляски отделаться: «Колония в Северной Америке малоценна». А могли вдоль всего Западного побережья Нового Света основать Славароссию. Помешало воровство и взяточничество среди российских чиновников, от них не отставали заокеанские коллеги. Наш посол, иностранец, деньги от продажи прикарманил и в Россию уже не вернулся.
Американцы вскоре осознали, что им почти даром досталась богатейшая земля. Недавно и у нас спохватились, нельзя ли Аляску забрать обратно. «Держи карман шире», как говорится.
Мы с доктором в условиях холодной войны, конфронтации политической, держались начеку, ни лишнего слова не произносили, ни случайного жеста не совершали. Давали интервью для прессы, выступали по телевидению. Одно из выступлений шло по программе «Встречи с необычными собеседниками». В очереди из «необычных» нас поставили первыми, но подошла передача – просят пропустить вперед стоявшего за нами необычного. Он, видите ли, торопится! Подозреваю, в духе конфронтации оттеснить хотят. Спрашиваю, почему мы должны ему очередь уступить, чего такого сверхнеобычного он совершил? Объясняют: один, под парусом, пересек океан. Тот же океан мы пересекли на грузовом корабле, и нам не нужно было объяснять, что собой представляло плавание в утлой посудине. Ещё в Мурманске получили предупреждение: «Будьте осторожны, в прошлый рейс капитана смыло».
Мы согласились пропустить водоплавающего, ничем не примечательного на первый взгляд. Он рассказал, как ставил паруса и тянул шкоты, когда же перед камерой усадили меня, я ожидал, что мне соответственно вопросы зададут иппические, конные. Мореплаватель толковал о шкотах, я готовился говорить о шорках: ремни с кистями у пристяжек по бокам, о чем меня уже спрашивали. А спросили, как у нас расценивается просоветская политика господина Итона. Такого я не ожидал и ляпнул: «У нас мистер Итон ценится выше государственного руководства, его уважает наш народ». Ночь не спал – в моих невольных словах директивные инстанции могли усмотреть сознательную попытку вбить клин между народом и Партией!
К счастью, супруга Итона, её звали Анни, выразила удивление: «Зачем же вы ещё одну пролетку привезли?» Отвечаю: «Лишний экипаж уже элиминирован». Анни засмеялась, её благодушный смех дошел до Москвы, где мы по возвращении продолжали вызывать смех, рассказывая о нашем путешествии со сцены. Однажды выступали в очередь с Игорем Ильинским. Народный комический артист предпочел после нас не смешить, декламировал лирику.






