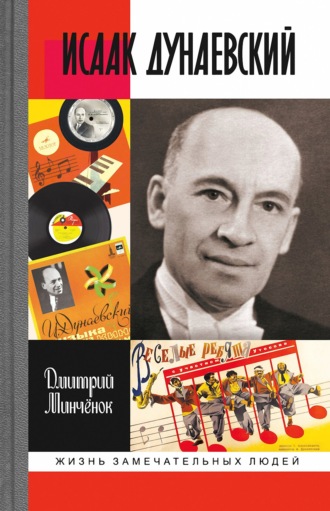
Дмитрий Минченок
Исаак Дунаевский
Ответ пришел ко мне, когда я слушал сестер Бэрри.
Дворовые мальчишки! Как я раньше про них не подумал. Вечные задиры. Разве это не есть проблема для любого еврейского мальчика, которого учат играть на скрипке не только с четырех до шести, соответственно утра и вечера, но и от пяти до девятнадцати, соответственно прожитых лет?
Про них ни слова.
А ведь эти вечные хищники детства, спутники маменькиных сынков, существовали.
Я задумался. Преувеличенное влияние среды… Опасности, которые следовало научиться преодолевать?
Такое могло быть. То, что Исаак первый раз попробовал сигарету в восемь лет, а курить начал лет с двенадцати (по собственному признанию), – это факт. И это, безусловно, влияние улицы. Курить дома было нельзя. А вот зачем курить на улице? Скажу. Чтобы казаться взрослее и, следовательно, страшнее. А иначе могли побить.
Почему «улица» так значима в жизни подростка? А что, если его там (на улицах) били, не выдумка, а правда? Его там били?!
Я стал искать платок, чтобы промокнуть глаза. И быстро прекратил поиски. Глаза остались сухими.
Кто через это не проходил?
Как часто я хотел казаться взрослым в свои семь? Ответ был неочевиден. Никогда. Я видел, как смешны взрослые в своих страхах, своем самомнении и в чем-то другом, что казалось мне столь же неприемлемым. Значит, не все дети мечтают поскорее стать взрослыми.
Дальше.
Что, если вся его улица состояла только из друзей?
Можно ли было предположить, что жизнь на улицах Лохвицы была безоблачной и маленького Исаака не третировали ни взрослые, ни дети, за исключением, допустим, херувимов и серафимов.
Вполне возможно.
Моими друзьями, например, были сплошь нереальные люди. А именно герои книг. А что, если у Исаака было то же самое? Не мальчишки из соседних домов, не-ет, а великие характеры, созданные воображением писателей.
Фантомы, рожденные словами. Я полез в справочник моего любимого японца Хиторо Симатоха, того самого, который снабжал меня сведениями из тайной жизни мозга, а после написал предысторию «Унесенных ветром».
На 112-й странице японского издания была ссылка на некую американку. Видимо, очень умную и несчастную, потому что умные женщины по определению несчастны. Она описывала одно наблюдение: дети иностранцев, живущих в США, начинали говорить с акцентом того штата, в котором жили, с почти стопроцентной предопределенностью, даже еще не зная американского английского, и совершенно не перенимали акцента своих родителей, которые их воспитывали.
Вывод, которая сделала та женщина: дети копируют способ коммуникации не с родителей (что кажется естественным), а из внешнего мира. То есть дети всегда больше зависят от своего внешнего окружения, которое по определению опасно.
Более выгодной для их роста становится не копия способа коммуникации родителей, а именно приемы общения, позаимствованные из внешней среды. Не важно, враждебной или дружелюбной она оказывается.
С другой стороны, если представить, что улица – это всегда свобода, а родительский контроль – это всегда пусть разумное, но авторитарное управление, то есть некая ослабленная форма насилия, то получится, что в качестве предпочтительной формы копирования ребенок выбирает ту, где царствует свободный выбор, и ориентируется не на свою защиту, а на то, что представляет свободу, хотя и опасную, то есть то, что снаружи. И это верно. Те, кто им управляет, его же и защищают. Оставшись без их управления, он будет предоставлен сам себе и, следовательно, должен хорошо изучить внешний мир, чтобы знать его подводные течения. Иными словами, внешнее, случайное более значимо для ребенка, нежели его внутреннее, защитное – родители. Пограничное значимее центрального, праймового.
Я задумался.
Похоже тут было рациональное зерно. Есть центр, есть окраина. И окраина всегда заметнее. Чем это объяснить? Желанием слиться с окружающей средой, чтобы защититься. Не выделяться – один из лучших способов выжить.
Но было и кое-что другое. Иногда той самой внешней средой, под которую хочется мимикрировать, становится не реальная внешняя среда, а свой собственный внутренний мир.
Что, если у Исаака было так?
Только в музыке.
Как разузнать, что могло жить в его голове? Какие фантазии, фантазмы или фантомы? Факты детства?
Что я знал из его же воспоминаний?
Первое: подбирать по слуху он начал в пять лет, музыкальную грамоту освоил в шесть. Второе: первый инструмент – скрипка. Третье: тогда почему дома стояло пианино?
Вопросов – не разгрести.
А еще в Лохвице стояло не только пианино в гостиной его родителей, но и кое-что другое. С точки зрения архитектуры. Например, военные гарнизоны и были казармы, а также оркестр, военный, и, значит, звучали марши.
В душе поднялась тревожная волна.
Что?
Неужели первые истоки его музыкальности можно было вывести из военных оркестров?
А что? Достаточная причина для роста доблести при наступлении пубертата.
Я снова вспомнил слова из его письма: «Выучился подбирать по слуху в пять лет».
Нарисовал театр с тремя колоннами. И напротив – военный оркестр. Играющий по субботам и воскресеньям в городском саду.
Какой убедительный пример этой самой доблести.
А бравые военные марши и вальсы? Что же? Первые настоящие друзья Исаака нашлись, и это были не его сверстники.
О реальных сверстниках нет никакой правдивой информации. Хотя историй с папиросами предостаточно.
Я посмотрел влево от моего нарисованного театра.
Там были казармы. В театре были ложи, а в казармах – ярусы.
Я нарисовал второе здание с тремя колоннами и треугольной крышей. Получилось очень похоже на храм, потому что в советские годы к театру стали относиться как к храму. Туда шли скучать, образовываться, но никак не забываться искусством, потому что артистов, способных влиять на души, просто не существовало.
От театров ждали примитивного и рационального – приобщения к вершине воспитательной цепочки. С разрушением храмов именно они оказались конечной целью воспитания. Считалось, что, если ты научился распознавать в притворяющемся актере страдающего короля, значит, ты добрался до нужного в жизни интеллектуального уровня. Научился распознавать ложь, а потом – ее восхвалять. Это заблуждение было возведено в веру, а вера превратилась в хорошо усвояемую привычку.
Откуда она бралась?
Из генной памяти. Театр стал храмом, посещение – облагораживающей молитвой. А реальная религиозность ушла. Но была ли она свойственна маленькому Исааку?
Судя по его самой вдохновенной музыке – была. И формально, исследуя ее гармонию, можно даже найти эти самые сакральные признаки. Во-первых, четкая граница мира. Там, где мир, там – гармония. Начинается диссонанс – мир заканчивается.
Второе. Гармония – свет. Мажор – радость, минор – грусть. Диссонанс – грех, который, правда, бывает соблазнителен. Где же границы религиозности? Там, где пределы добра. Определены и миры зла. Но глазу они не видны, а уху не слышны. Вот и вся музыкальная космогония.
Весь мир напоен новой религиозностью, ее бог – труд, ее жрецы – радость. В гармоническом мире Исаака можно всегда предположить, куда пойдет гармония, куда – нет. И даже если пошел не туда… диссонансы он тоже использовал – всегда знаешь, как очиститься.
Не от переживаний, упаси господь. От скуки и желания ее пересидеть. Пересидишь, значит, стал умным. Это было сродни религиозной инкассации – добродетели, собираемые в небесную копилку с результатов детских потрясений от искусства.
Какие театральные свершения могли потрясать маленького Исаака?
В Лохвице был свой театр, который после революции сгорел. Был ли это театр в привычном смысле слова? Конечно. С ложами, бельэтажем.
Говорили, что внутри стояли даже атланты, подпирающие стены. В свое время он был построен каким-то скучающим то ли заезжим польским купцом, то ли осевшим украинским помещиком. Еще говорили, что под самой крышей, в колосниках, гнездились птицы и нечистая сила. По ночам оттуда доносился шепот. Дворник и сторож здания утверждали, что ясно слышали женские голоса.
Утверждения эти абсолютно достоверны, так как подтверждены печатями. Гербовыми. И круглыми, оставленными донышками винных бутылок.
Сегодня от того летнего театрика сохранилась только фотография одного из последних представлений. На снимке – люди в верхней одежде с надеждой смотрят в объектив фотоаппарата. Что они там силятся разглядеть? Может, верят, что оттуда им подмигнет ангел?
Лохвицкий театр был знаменитым учреждением города. Фасад бывшего варьете украшали голые мужчины и женщины из дерева, на которых маленькие дети постигали разницу между выпуклым бюстом и впалой грудью, волосатой плоскостью и безволосой. Всех детей в городе волновал вопрос: что будет с крышей, когда дяди и тети захотят погулять?
Позже театр переименовали в Народный дом, в котором сочувствующие русскому мужику разночинцы-интеллигенты учредили Общество попечения о народной трезвости. Пеклись о трезвости своеобразно. Летом устраивали грандиозные попойки, на которые приглашали богатых людей уезда вместе с отдыхающими у них столичными знаменитостями. Когда гости упивались, мальчик в красных сапожках обходил их с подносом, намекая на то, что неплохо было бы заплатить. Ему щедро подавали, с трудом соображая затуманенным мозгом, на что дают: то ли мальчику – на девочку, то ли себе – на будущий рай. От полученных средств издавали брошюры о вреде пьянства и бесплатно подсовывали их мужикам в трактирах, когда тех мертвецки пьяных увозили на возах, крытых соломой по рiдным хатам.
В этой бескровной борьбе внакладе не оставалась ни одна из сторон.
В Народный дом приезжали как польские, так и украинские театральные труппы. Всегда шумной компанией, на нескольких повозках, с гитарным красавцем, сидящим на козлах. Его усики, похожие на знак «минус», вызывали неизменное восхищение лохвичанок.
Можно представить примадонн с громоздкими, как чемоданы, фамилиями и такими же бюстами, с трудом влезающих в вырез концертного платья, волнующих воображение прыщавых лиц мужского пола, включая козлов города Энска. Если со стыда начать опускать глаза долу, можно напороться на огромное ходящее ходуном чрево, обтянутое красным бархатом с гипюровыми кружевами. О, запретный мир женской красоты! Разве он сейчас волнует? Можно удивляться и восторгаться не голосами, поскольку судить о них практически невозможно, а замысловатыми и звучными фамилиями их обладательниц. Мария Зеньковецкая, по прозвищу Соловей Украины, Кочубей-Дзюбановская… Шихуцкая-Минчёнок… то ли моя тетка, то ли просто однофамилица.
А чего стоят названия малоросских пьес, например, «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского!
Все это – симфония, взывающая к любви и, следовательно, беспокойству или охоте к перемене мест. В мифе о любом композиторе эта охота присутствует и можно найти канувших в Лету оперных див. От них не осталось ничего, кроме нескольких строчек в энциклопедии да облака пыли, поднятого пролеткой до преисподней, увезшей их в небытие.
Видел ли Исаак так?
Можно ли считать потрясением, когда такая красавица оборачивалась и махала платочком маленькому мальчику? Взмах, и на следующую ночь тебе снится, как тебя проглатывает огромная дева с усиками. Жизнь каждого гения полна таких феноменальных снов, которые живут глубоко в воображении и со временем приобретают почти сверхъестественное значение.
И вечная завороженность музыкой, как правило, берет начало в такой вот метафизической операции по росту души, которые производят над душой мальчика-ребенка луна, женщина и музыка: три гарпии, три богини, три путеводные звезды.
* * *
Расхваленные театральными историками провинциальные труппы на самом деле были сборищем самого разного люда. Среди них назвать актерами можно было очень немногих. Все без исключения постоянно ссорились, завидовали друг другу и передавали секреты мастерства за бутылкой горилки. В малорусской труппе известного антрепренера Кропивницкого начинающего артиста выпускали на дебют в каком-нибудь глухом городишке типа Лохвицы с советом: «Напырай на бронхи, щоб голос поверх горла мостом ишов».
Вот и вся теория.
Когда Исааку исполнилось пять лет, его впервые привели в театр, где семейство Дунаевских имело собственную ложу. Еще одно нескромное свидетельство достатка, пропущенное советской цензурой в воспоминаниях брата Бориса. Мне довелось видеть фотографии того театрика, располагавшегося в Доме попечения о народной трезвости – диковинное название. Однажды я поинтересовался у одного краеведа, почему Общества попечения о народной трезвости так стремительно стали распространяться в России именно на рубеже веков. Тот громко почесал затылок. Не знал, что затылки могут быть хрусткими.
– Ты знаешь, страну буквально заливало водкой. Во всех кабаках. Это шло потопом. Кино не было, парки были только для знати, мужики пропадали в кабаках… Гудели беспробудно. Смертность жен в деревнях, которая была без учета, не поддавалась исчислению. Домашнее насилие беспредельно росло.
Возможно, оно и сейчас не меньше, но тогда оно было ужасающим. Именно в это время усилиями доктора Корсакова, который лечил от алкоголизма Мусоргского, и была подана записка на высочайшее имя с просьбой устраивать для народа вечерние зрелища. Чтобы занять хотя бы фабричного рабочего чем-то иным, кроме водки. Была выделена квота на строительство домов попечения о народной трезвости, где самыми желанными гостями были театральные антрепренеры. Ложи были слева и справа. Какая именно принадлежала Дунаевским – сказать невозможно.
Над ней нависал вторым этажом бельэтаж, откуда было всё прекрасно видно. Прекрасный «бель» нависал над головой сидящих в партере чиновников: городского головы, пристава, судьи, купчихи Недоумовой и ее десяти сестер, прижитых за бедностью по углам кирпичного дома на Шевской. Еврейским детям нравилось сидеть выше таких важных русских и украинских лиц. Казалось, они становятся вровень с их начальниками, а может быть, и выше.
Иосиф Бецалевич был коротко знаком с режиссером Народного дома Николаем Николаевичем Дьяковым (по сведениям Бориса) – старым, спивающимся, но вместе с тем очень добрым человеком, сосланным в Лохвицу за какую-то неопределенную революционную деятельность. Я пробовал выяснить, что натворил Дьяков. Узнал, что тот верил, что царь – плохой, но в каких именно пунктах плох самодержец, мне выяснить не удалось. Видимо, сам Дьяков проявлял трусливую неосведомленность.
Но именно он организовал в Лохвице труппу любителей, которая представляла на сцене весь столичный репертуар.
* * *
Что еще было в Лохвице кроме летнего театрика?
Опять вспомнились кирпичи на фотографиях. Конечно же – крепость.
То есть то, что я поначалу принял за крепость, было зданием, сравнимым с массивной кирпичной коробкой, издали оно напоминало синагогу. С готическими капителями. В описании геометра это звучало бы как «фасад здания разделили на три полосы, каждую из которых украсило большое окно. Снизу вверх по фронтону шли кирпичные швы, которые венчались капителями». Киллер сказал бы: «Удобное пространство для работы». И это мне было бы понятно.
В действительности же на открытке, изображавшей сие творение архитектуры, было написано: табачная фабрика «С. Х. Дунаевского». Я знаю, вы замерли. Неизвестная собственность отца композитора?
Я подумал также.
Но не торопитесь.
Кто такой загадочный «Эс»? Неужели Самуил?
Фабрика дяди Самуила?
Я замер.
Нужны были советы краеведа. И я такого нашел. Сразу после выхода моей первой редакции биографии Исаака я не получил ни одного отклика на свое творение. Что мне было даже на руку. Люди меня не читали. И это было хорошо. То есть плохо, так как научило смирению.
А потом неожиданно пришло «оно» – письмо по электронной почте из Полтавы. Я мог бы торжествовать. Так я познакомился с Александром. Он просил меня называть его на украинский манер Олексой. Я написал ему ответ. Выяснилось, что он живет в Полтаве, но родом из Лохвицы. С этого и началась моя новая связь с родиной Исаака.
Олекса подарил мне много ценного. Уведомил о том, что нашел фотографию очень необычного здания (так я второй раз увидел то самое «кирпичное чудо»), владельцем которого назван некий Дунаевский с инициалом «С», после которого значилось «Х».
А потом я прочитал приписку, что инициал «С» ошибочен, так как должен читаться как «Е». Почему «С» ошибочен, адресат не уточнял.
Такое утверждение меня раздосадовало. Если не Самуил, тогда кто? И кто решил, что это ошибочно? И чем плохо «Х»? В метрике Цали Симоновича было имя на букву «Х».
Вот тогда и завязалась наша переписка. Я спрашивал, Олекса – отвечал. Чьи фотографии? Ответ: аптекаря. Напоминало шифрограмму разведчиков. Фотографии города были сделаны по заказу некоей провизорской семьи, владевшей в городе аптекой. Преклоняясь перед химией и техникой, они задумали запечатлеть улицы родного города на «фотописец». К ним мы еще вернемся. Или не вернемся, какая разница.
Переписка становилась все информативнее.
Владельца здания звали Евель Дунаевский. Евель, Авель, Симон… какая разница? Возможно, у дяди Самуила был брат по имени Евель, а возможно, это было просто неправильным написанием его имени, которое могло состоять из пяти-шести других имен.
С подобными шутками я уже сталкивался.
В одном из правил жизни еврейской общины было написано, что имеющие свое дело должны работать не дальше «ста шагов» (следовало фигуральное обозначение дальности) от собственного дома. Я задумался, в семье хасидов сложно было не придерживаться религиозных правил, советующих, как правильно вести бизнес. Когда я готовил издание этой книги, Римма Дунаевская – моя первая читательница и критик, спросила: на основании чего я вывожу установку, что семья Исаака была хасидской и правоверной? Я задумался, вспоминая. На ум пришел рассказ Лоры Борисовны – жены брата Исаака – Семена о том, как Розалия убивалась, если Исаак притаскивал ей некошерных кур; потом вспомнил слова раввина о том, что когда ты с юности носишь парик, то к старости уже не можешь жить без кашрута. Это все были достаточные свидетельства религиозности. Плюс еще история с первым браком (об этом отдельно).
Переулок, в котором располагалась табачная фабрика Дунаевских, назывался Шевский Кут. Кут – в переводе «угол». Шевский угол. Тупик, который считался переулком. Я полез в воспоминания мадам Сараевой-Бондарь (первого биографа Дунаевского) и обнаружил, что в Лохвице Исаак жил на улице Гоголя.
Ничего не сходилось.
Может быть, фабрика не Дунаевских?
Написал снова своему загадочному адресату из Лохвицы. Как до революции называлась улица Гоголя?
Ответ пришел очень быстро: «Шевский Кут».
Так значит здание загадочного Евеля Дунаевского и дом Исаака Дунаевского стояли на одной и той же улице? Так они же должны были быть близкими родственниками. Никаких других в городке с одними Дунаевскими не полагалось.
А что там располагалось?
Я снова написал срочное письмо в Лохвицу. Ответ был обескураживающим: «Табачная фабрика».
Ничего себе.
Табачная фабрика. Я вспомнил курящего с восьми лет мальчика. Сомнений не оставалось. Кирпичная громада должна была принадлежать только моим Дунаевским.
Всё по кашруту. Синагога стояла на той же улице – рядом с домом. Вот перед моими глазами фотография. Стоит как живая. Точнее, лежит. На ладони. Четкая фотография. Я даже сначала растерялся: не ошибся ли мой визави? Здание очень напоминало табачную фабрику. Такая же мощная кирпичная коробка. Но подпись – синагога.
Вторая мысль. Строил ее человек с теми же архитектурными пристрастиями, что и фабрику табака. Здания очень похожи. Получалась занятная картина.
Этот «загнанный в тупик» Шевский Кут мог быть эпицентром тайной жизни верующих сынов Моисея. Жителей, у которых страсть к корысти умножалась на веру в бескорыстие, а вера в бескорыстие тянула вбок волов сребролюбия.
My God!
Жить с такими противоречиями? Причина сумасшествия или гениальности.
Я как заправский маньяк выписывал на листочке загадочные слова: «Шевский Кут», «табачная фабрика», «дядя Семен», «таинственный Евель». Как все они были связаны?
Родством, равнодушием или это одни и те же люди с неправильно написанными именами? Чтобы ответить на эти вопросы, требовались более глубокие архивные изыскания, чего я себе позволить не мог. Но без чего вполне мог бы обойтись. Ведь главный вопрос был другим.
Был ли счастлив мой Исаак в детстве, о котором вспоминал крайне неохотно. Был ли счастлив?
Ведь от этого и шли все ответы. Свой ответ я знал, но надеялся на сюрпризы.
Итак, если бы меня спросили, какое впечатление произвела на меня кирпичная громада табачной фабрики Дунаевских, я бы ответил: «Пирамида Хеопса». Наверное, на строительство такого гиганта ушли тонны красного кирпича…
Почему красного?
Не знаю. Я полез в воспоминания, справочники. Кирпичи упоминались как буро-рыжие. Наверное, другой глины поблизости не было.
Я вооружился лупой и уставился на фотографию, снова и снова поражаясь не модернистским завихрениям в архитектуре, а толстым стенам, которые могли выдержать поцелуй атомной бомбы. Да, проверить это невозможно. Фабрику разрушила не бомба, а время. Можно ли было называть его за это варваром?
Забавные фотографии Лохвицы продолжали меня радовать. Но чем больше я их изучал, тем вернее убеждался в обратном. Городок был ординарным. Деревянные чудища, вылезающие из толстенных стволов деревенских изб, срубы с застывшими в оскале окон отражениями покосившихся домишек. Неповоротливые ревматические углы, скособоченные крыши, одноэтажное «высотье». А почитаешь подпись и хочется присесть от благоговения. «Театр». «Казенный дом приюта». В таком хилом здании? Читаешь дальше – и сердце тает. Дело прямо сердечное. «Приют для глухонемых детей». Меня поразило. Всего шесть обитателей. А вот поди же: выстроили для них отдельный дом. А говорят «дикое время».
Кое-где на старинных фотографиях мелькали военные мундиры с торчащими из воротников шеями, с насаженными на них, как на пики, лицами. Очень серьезными. Белокожими. Украшенными усиками.
С канифолью от нежных женских улыбок.
Я стыдливо посмотрел вниз. А какие ножки, бог мой! Сразу вспомнил чьи-то мемуары, в которых вожделение автора было перетянуто страданием святоши. Речь в нем шла об особенных женщинах еврейских местечек.
Каких именно?
Тех, что умели танцевать. Канкан на манер парижского! И не только. Их главный талант заключался в том, что они умело награждали болью своих возлюбленных. Какой болью?
Болью греха.
От дореволюционной Лохвицы запахло Тулуз-Лотреком. Сгустился туман, я увидел, как шевелятся тайные желания города, тайком удовлетворявшиеся с падшими женщинами, бывшими на самом деле ангелами. Сам город вмиг от этой мысли преображался, делясь как инфузория на страхи и фобии, в сердцевине которых зрела болезнь. Оказывается, предсказывать мир не так уж и сложно.
На фотографии был намек на бордель.
Подпольный.
Старая шутка: не будь в городе этого приюта для страхов, эскулапам было бы некого лечить.
Квадратик фотокарточки превратился в форточку, из которой вдруг потянуло венерическим духом времени. Духом ртутных мазилок. Это было единственное верное средство лечения сифилиса.
Темные стороны жизни в Лохвице, оказывается, хорошо знали.
А какой темперамент был у Исаака? Мог ли он с ним во что-нибудь вляпаться?
Как на него влиял южный климат?
Я оглянулся по сторонам. Спросить было некого. Наткнулся взглядом на частокол бордовых фолиантов: Большая советская энциклопедия в коже из гиппопотама.
И тут же вспомнил… Ну, конечно, главный брежневский идеолог Михаил Андреевич Суслов, вот он бы мне ответил. Говорили, что у этого легендарного человека сердце билось со скоростью 38 ударов в минуту (как у пресноводного). Помочь он мне мог только косвенно. Узнав о существовании британской «Британики», именно он повелел создать «красный аналог» энциклопедии, в которой должно было быть всё.
Повеление выполнили. Так родилась Большая советская энциклопедия.
А она была рядом, в доме моих родителей. Я срочно выехал в Витебск. Полез на полки и выудил толстенную книгу на букву «Л». И тут же вспомнил еще одного поклонника Дунаевского – бывшего министра культуры СССР Петра Ниловича Демичева. Высокого, статного человека, чей позвоночник был пропитан не кальцием, а властью.
Снимая фильм о Никите Хрущеве, я довольно часто названивал Демичеву, пытаясь выудить воспоминания. Он всегда уходил от моих вопросов, ссылаясь на нездоровье, а я продолжал названивать. Жил он уединенно, обращаясь с моим любопытством, как лютый тигр с теленком. Но телефон был его брешью, потому что иногда он все же поднимал трубку. И говорил со мной, бросая две-три фразы, последними из которых были: «Говорить не буду».
Но как-то случилось мной непонятое. Он поднял трубку и начал говорить. Не слушая моих вопросов, он делился мнением о том, что казалось ему важным. Мы поговорили о власти и наговорились всласть. Напоследок я спросил его, как он относится к музыке Дунаевского. Петр Нилович помолчал… и тихо выдавил, словно из тюбика: «Это был выдающийся музыкант».
И тут же бросил трубку.
Пик-пик… Я благодарно ему поклонился. И вернулся к энциклопедии.
Статья про Лохвицу в Большой советской была. Суслова не обманули. Шесть строчек. Вес краски, истраченной на буквы, равнялся пяти тысячным одного микрограмма. Зачетная трата.
За стенкой заплакала Нина – маленькая. Я вздохнул. Нельзя было реагировать, нельзя было отвлекаться. Я заткнул уши ватой. Нина кричала не переставая.
Итак, кто бывал в Лохвице? Да практически все, кто проезжал.
Я снова полез в коротенькие мемуары брата Бориса. Почему мне всегда хотелось называть городок Лохвицу во множественном числе – в «Лохвицах», на манер просторечного «в Сочах»? Может быть от того, что я тоже был простолюдином? Или в чужеродном слове кроется прелесть собственного прочтения, делающего единственное число множественным?
Мелькнула мысль: в единственном числе слишком много одиночества? Получается перебор тоски по лучшей жизни.
Появляется белый нафталин страха, которым без правил пересыпан скучный мир порядка. Ты просыпаешься в семь, к восьми идешь на работу, смотришь сквозь часы на будущее, в двенадцать обедаешь, в три часа делаешь брак на производстве и совершаешь такой же в личной жизни, идя под венец. В пять вечера – рождение ребенка, а в шесть – ты умрешь. И ты знаешь об этом, но все равно делаешь. Предназначение исполнено.
Воля генов, взывающая к передаче посредством любви или изнасилования – неважно – выполнена. Ужас эволюции!
Вы не находите?
Единственное утешение такой «дорожной карты» – переживание любви, чудо появления аистов с детьми и – великая смерть. Основные остановки жизни. И кстати, смерть – это не конечная станция.
Жаль, у меня не было мобильного телефона, чтобы сообщить об этой мысли Богу. Ему бы наверняка понравилось.
Взгляд за что-то зацепился…
Что? Я взял в руки не тот том энциклопедии. На букву «Гре». Уловил взглядом чью-то фамилию. И рядом с ней слово «Лохвица». Что за совпадение?
О Господи, игры с реальностью доведут меня до кондратия.
Кто бы мог подумать? Гречанинов!
Заезжал, в саму Лохвицу… Светоч музыки… Более ничего… Боже, это короткое упоминание.
Нина плакала не переставая. Я отбросил «кирпичный том» в сторону и помчался успокаивать ребенка. Над ней уже склонилась Оля. Я уловил запах волос. Меня накрыла волна нежности. Я увидел точеный профиль любимой.
Как любовь способна изменять мир? Я обнял их и замер, пытаясь удержать в руках счастье – то, что могло заменить мне все сокровища мира. Малышка Маленькая и Малышка Большая.
Плач прекратился.
Я мог возвращаться обратно, но стоял, не в силах отвести взгляда от обеих. Вот он – смысл жизни. Как его описать? Фразой «счастье, занесенное в Красную книгу»? Не знаю, по сравнению с настоящим счастьем все описания хромают, либо я плохой писатель.
Надо было возвращаться к работе. Надо было начинать поиски заново. Но что было искать? Потерянное детство моего героя?
Как только я вернулся к столу, Нина захныкала снова. Значит, Оля отошла. Я мог исправить свою черствость альтруистическим поступком – бросить работу, бросить зарабатывать деньги и сидеть рядом с сияющей от счастья Малышкой. А я не мог ни того, ни другого.
Боже мой…
Не реагировать на плач Малышки было решительно невозможно. Биография – биографией, а ребенок не может так долго плакать.
Я отбросил карту Лохвицы, по пути локтем сбросил со стола все старые фотографии города и помчался в спальню. Нина довольно причмокивала. Оля ее уже кормила. Я поднял голову, желая возблагодарить Создателя и увидел трещины на потолке… Ремонт! Надо было делать ремонт. Потолок был в трещинах. Я улегся на пол, начал их разглядывать. А ведь, пожалуй, в ремонте не было такой страстной необходимости. Эти трещины казались очень даже милыми. Я начал смотреть на них не мигая, пока на глазах не выступили слезы. Трещины расширились и превратились в улицы. Узоры были заливистыми, интригующими. Ходить по таким улицах ничуть не хлопотнее, чем по улицам Нью-Йорка или даже Парижа. Ой, ой, ой… Всё стало так здорово. Только бы не вспугнуть воображение. Я помчался обратно к столу, поскользнулся по пути на фотографиях, упал, из носа пошла кровь, часть ее пролилась на бумагу. Я писал биографию Исаака кровью. Надо было продолжать. Только очень тихо, чтобы не разбудить Малышку и Олю.
* * *
Итак, Александр Гречанинов. Список приезжающих на лето в Лохвицу обрел хоть какую-то конкретику. И что, этот великий композитор тоже добирался на тарантасе? А на чем еще? Не на воздушном же шаре? Значит, он по такой жаре бежал за балагулой? Или плыл по воздуху?
Можно было выбирать любой вариант. Грела мысль, что в таком маленьком городке Исаак мог сталкиваться с этими столпами. Вы понимаете? Это же передача дара по прямой. Какой такой «прямой», я не очень задумывался. Важно, что в городе бывали гении. Стоило узнать о Лохвице побольше. Я полез в справочники. Наверное, мне иногда везет, или подобное притягивает подобное.
Буквально со второго описания Лохвицы я наткнулся на фамилию композитора Алябьева. Что? И этого сюда занесло! Каким чертом?! Хотя о нем позже. О ком? О рогатом или о композиторе – сам не понял. Но решил сначала покончить с Гречаниновым. И снова полез в энциклопедию. На этот раз перестроечное желтоватое издание под названием «Тайная жизнь музыки». Глаз тут же выхватил: «Собиратель народного фольклора». Это что? Причина гречаниновского появления в Лохвице?..
Хотя и вполне возможно.
«Мать пела не народные старинные песни, – начал читать я вслух, – а сентиментальные мещанские романсы вроде “Над серебряной рекой, на златом песочке” или “Под вечер осенью ненастной”».


