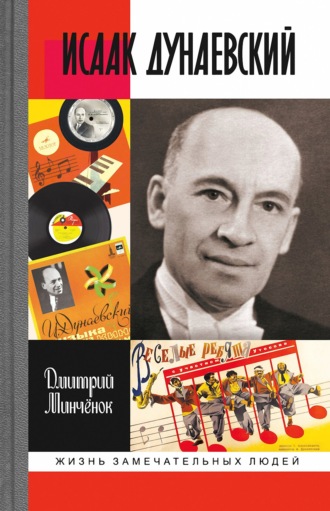
Дмитрий Минченок
Исаак Дунаевский
Я стоял в чем мать родила. За моей спиной текла река, раскинувшая широко свои объятия… Иди ко мне! В яму, в воронку… Это был бы выход, если бы роман получился дерьмо, но тут все только начиналось.
Господи… В голове набатом зазвучала песенка Папанова – Максима Дунаевского «Я водяной, я водяной»… И чем громче она звучала, тем большим дураком я себя чувствовал. Одежды не было нигде. Ее похитили. Но кто?
Неужели в аду тоже хотят быть модными. А может быть, воришками были ангелы или барышня, спешащая в микву?
Я начал замерзать.
Вспомнил варианты происхождения названия городка. Конечно, от слова «лох». Теория на моем примере блистательно подтвердилась. Надо было принимать решение. Я, конечно, подстраховался. Сказал своему водителю, что иду на реку и если я не появлюсь к условленному часу, он поедет меня искать. Осталось надеяться, что он сделает это поскорее. Скрестив руки на груди (чуть пониже пупа), я замер. Статуя из меня была так себе. Я смущался, как Данте, ожидавший своего Вергилия.
Но я дождался. Имея обо мне представление как о крайне серьезном человеке, водитель был немало ошарашен, увидев меня совершенно неглиже. Пришлось путано объяснять про магию места и способы прикосновения к Исааку. С особенным подозрением он выслушал про прикосновения.
– Надо одежды вам, сынку, – прохрипел он, оглядывая пустынный пляж. Потом стал снимать с себя штаны.
– Что вы делаете?
– Пытаюсь тебе помочь.
– Как?
– А то не понимаешь? Чтоб ты до машины доковылял.
– А вы как же?
– А-а, точно… Спаситель застыл со спущенными по колено штанами. Потом начал их напяливать. И вдруг неожиданно снял пиджак.
– На. И беги в машину. – Он ткнул рукой куда-то назад, где чернел силуэт «жигулей». – А потом бросишь мне из машины.
– Что? – не понял я.
– Пиджак.
– А вы без него не дойдете?
Спаситель задумался. И перестал снимать пиджак. Я не понимал, в чем проблема, и просто с мольбой смотрел на него. Его щепетильность в вопросе «можно ли по пляжу пройтись без пиджака» пугала своей однозначностью.
«Может, он боится, что я убегу в его одежде?» – подумал я.
– Не волнуйся, не убежишь, – ответил водила.
Он что, умел читать мысли?
– В ГАИ мой зять работает. Найдет. Я вашего брата знаю.
Откуда он знал моего брата, я не понял, но хмуро кивнул, давая понять, что опять прокололся. И тут он оживился.
– А-а, ладно… – и опять стал снимать с себя пиджак. Неожиданно замер, глядя на штаны. Мне стало нехорошо. Я понял, он решает, что должен снять сперва: штаны или пиджак. Процесс обещал затянуться. Простыть или дождаться прихода отдыхающих не хотелось.
– Черт с вами! – заорал я и, не раздумывая, опрометью помчался на взгорок. Бежал я быстро и резво. Но как будто долго. Секунды растянулись, словно резинка, и дорога наверх никак не заканчивалась. Дядька с криком бежал за мной, словно я был воришка, и мы оба одновременно оказались в укрытии под сенью его «жигулей». А потом как сумасшедшие начали хохотать.
Куда делась моя одежда и как ему удалось читать мои мысли, я так и не понял, в тот момент было не до того. Но… с той поры больше я нигде не плаваю. Даже в бассейне фитнес-центров. Если только не бросаюсь в воду в одежде.
* * *
Чтобы понять лохвицкие нравы, надо знать, что в городке, как только заканчивался дачный сезон, приезжие почти не останавливались.
В Лохвице рождались и умирали только соседи или соседи соседей. Каждого, кто здесь обитал, помнили с младых ногтей, а каждого, кто умер, провожали всем городом, ибо каждый мог сказать об ушедшем нечто личное. В том числе и скабрезного свойства. Я разглядывал фотографии. Крутые улочки, зимой совершенно обледенелые и скользкие, поднимались вверх к центральной площади, на которой стоял православный собор, и так же круто спускались вниз, упираясь в синагогу. Может быть, ландшафт и не был таким крутым и все дело в эффекте старинных фотографий той эпохи, которые делал знаменитый держатель лохвицкой аптечной лавки. Я, к сожалению, забыл его фамилию.
Кирпичи, пошедшие на строительство и того, и другого духовного заведения, были на первый взгляд одного сорта.
Меня это навело на странные мысли.
По вечерам, когда людей на улицах становилось меньше, за горожан можно было принять липы, которые, застыв (мало ли какая причина может заставить человека застыть «соляным столпом», особенно если он потомок Авраама, да еще поздно вечером?), махали косматыми гривами взад-вперед, словно молились. Этих лип и тополей было такое множество, что сверху они казались зеленым морем, которое вышло из берегов и затопило прекрасный город.
Вот только ни одного моря, в названии которого было бы слово «зеленое» я не знал.
Ближние соседи, – как правило, настроенные враждебно, – называли Лохвицу «котлетным местечком» и, немного завидуя, ценили за богатые и недорогие продуктовые ярмарки, которые устраивались с самой весны до поздней осени на гостином дворе, под галереей, крытой черепичной крышей.
Весной на них торговали экзотическими товарами из Европы, летом и осенью – тем, что вырастало на местных полях и огородах.
Каждый лохвичанин умел чесать языком и любил поболтать о своем, невзначай подкалывая соседа. Это была жизненная необходимость вроде охотничьего инстинкта вскидывать ружье при виде дичи. Других развлечений в Лохвице не знали. Кино еще не изобрели. Печатные станки Гутенберга не прижились, точнее, прижились (появились в 1903 году), но весьма оригинальным способом. Газеты использовали как туалетную бумагу, возможно, как занавески на окна, на худой конец, как летние шляпы от солнца, но только не для чтения. Новости в Лохвице узнавали иначе: по беспроволочному телеграфу.
Достаточно было чему-то случиться, как рядом с местом происшествия вырастала баба, которая, сложивши толстые ладошки рупором, кричала куда-то за бугор:
– Ривка, ты слышала? Тетя Зисла пироги печет. Идем в гости. Ее Ханя – твоя подруга.
– Я уже сходила.
– И как?
– Сытно. Сказала: «Ривка, Ханя с тобой гулять не выйдет. Она кушает. Ты, наверное, тоже хочешь?» Я ответила: «Не откажусь». – «Так сходи домой, покушай. А потом приходи». Ну, я и сходила.
Самое удивительное, что ни Ханя, ни Ривка, ни тетя Зисла зла друг на друга не держали и горло не перегрызали, отводя душу на перемывании костей.
Кстати, слово «бабник» в городе практически не употреблялось. Было другое слово «бляун» – очень неприличное, зато емкое и доходчивое, которое дважды повторять не приходилось.
Так вот по поводу кирпичей… Главной достопримечательностью города был балкон одного из угловых двухэтажных домов на главной площади из красного кирпича. По легенде, с этого балкона выступал гетман Мазепа перед сражением с царем Петром. Местные Несторы-летописцы сходились на том, что радикальный гетман перекрестил жидовское местечко… Евреи занервничали. Поднялась буря. Балкон начали засыпать сухие листья. Гетман сбился, потерял дар речи. Все испуганно разбежались. А буря не унималась.
Напрасно гонцы гетмана бегали к раввинам, о чем-то их умоляя, дождь из сухих листьев не прекращался. Тогда гайдамаки достали сабли. На раввинов этот аргумент подействовал. Один из них, согласно преданию, поднял руку вверх, словно говоря небесам: «Минуточку», а затем картаво произнес: «Ребеним, исвахим, сафараним…» Может быть, я ошибся в произношении, простите, мелодика этой фразы все равно действует на меня безотказно. И дождь из сухих листьев прекратился. Зато пошел настоящий, который не прекращался до самого начала сражения, из-за чего войска Мазепы утонули в грязи, и вы знаете, чем это закончилось. А ничем. Но Мазепа проиграл.
Мораль: не надо было обижать евреев. Но мы, как всегда, выбрались, а скромный балкон попал в историю.
* * *
Я продолжал рисовать город на бумаге, накладывая на карту. Выходило: моя Лохвица находилась где-то между землей и небом. Между моим воображением и воображением Исаака Дунаевского. Попасть туда было нелегко. Но возможно. Воспользовавшись сном. Хотя был вариант попроще – железной дорогой.
Я вооружился лупой. В Исаакову Лохвицу вели две дороги. Обе проселочные. Летом их покрывала пыль. Весной – грязь. Значит, в период дождей обе становились непролазными. Это было уже что-то: до Лохвицы было не так-то просто добраться. Связь с миром обрывалась. Интересное ограничение для молодого пытливого ума, провоцирующее к побегу. Зимой, правда, морозы ненадолго восстанавливали сообщение. Но потом их снова заносило. Я представил дорожную колею и провалившееся в снег колесо телеги. Стало жаль возницу. Но картинка понравилась.
Похоже на вечный карантин. Из такого захочешь поскорее выбраться. Вот и причина, почему Лохвица оставалась нетронутой для соблазнов цивилизации.
Что же было летом?
Снова книги. У Давида Персона, друга Исаака, ставшего источником невнятных сведений для Наума Шафера[11], я прочел в одной из сносок, что сюда обожали приезжать помещики из стольного града Петра со своими наливными, как персики, дочерьми. Ого! Дело запахло адюльтером.
Если бы я в тот момент жил в Лохвице, я бы не растерялся! Мне стало интересно. Душа захотела весны, но я не находил кандидаток, с кем молоденький, да нет, еще малолетний Исаак мог бы согрешить, хотя бы мысленно, по причине того, что знатные еврейские юноши с русскими девушками практически не общались.
Вытащил колесо благочестия, а душа в страсти увязла. Только к кому? Неизвестно. Опять уравнение со многими неизвестными, как и все, что касается детства Исаака.
Я загрустил. Должны же были быть хоть какие-то факты, связанные с Лохвицей и страстью, ну хотя бы страстишки-страшилки.
Я стал «копать». Вспомнил историю, слышанную про одного великого, но, подозреваю, преувеличенно превознесенного то ли поэта, то ли прозаика. Одна из его поклонниц захотела повидать своего кумира воочию. Все остальное не имело значения. Проездом кумир должен был остановиться вблизи Лохвицы. Барышня от нахлынувших чувств написала пронзительное стихотворение, в котором «роза» рифмовалась с «на морозе», это было не так свежо, как ей бы хотелось, но зато открывало дорогу к сердцу поэта и давало надежду на аудиенцию хотя бы в грешных фантазиях, которым барышня охотно предавалась.
Под Лохвицей, на постоялом дворе поэту или прозаику предстояло сидеть в муках творчества. На чем именно сидеть – табурете или жестком диване – осталось неизвестным, но муки ему должно было хватить. Чем еще он мог бы там мучиться, я не знаю, но барышня представила себе это очень хорошо. Могу себе вообразить: подол бархатных юбок, задранных выше колен, и прочую чепуху в духе маркиза де Сада. В общем, фантазии, мучительно подпитываемые горилкой, выжимают из барышни строчку за строчкой. Отправив письмецо в конверте, она погружается в сладкое предвкушение. Складывается недурная картина: потрясенная возможной встречей добыча сама идет в ее нежные руки.
Барышня хватает обмоченную, пардон, не репутацию, а рукопись, и в драном пальтишке и стоптанных красных черевичках бежит к цели. От провожатых отказывается. Видимо, ей не хочется делить радость встречи с посторонними. А дело происходит зимой. Над городом сгущаются тучи. Начинается снежная буря. За три секунды дорогу заметает. Не видать ни зги. Барышню это смешит. Она ничего не боится, ускоряет шаг. Секунды переходят в минуты. Минуты – в часы. А она все никак не может сдвинуться с одного места, упрямо чувствуя, что бежит изо всех сил. То ли морок-сон, то ли заколдованное место. А на следующий день в городе узнают, что в трактире она так и не появилась. Напрасно ее ждал литературный гений. Напрасно выпил за нее стопку-другую. Ее искали неделю. И тоже напрасно. Она исчезла. Испарилась как дым. Но что самое невероятное… С той поры каждую весну на дороге, ведущей в Лохвицу, как сходил снег, находили пару стоптанных черевичек красного цвета, тех самых, в которых барышня-поэт бежала на встречу с предметом обожания. Черевички крали, их опознавали родные, а на следующий год точно такие же находили снова, на том же месте – на дороге, ведущей к трактиру. И так три года кряду. Это прославило пропавшую. О ней стали говорить как о русалке или ангеле. Точно не знаю. Но как побочный эффект ее стихи… про них тоже стали вспоминать. Но не читать… что не одно и то же. И барышня обрела какую-никакую, но все же славу.
Урок бессмертия или, по крайней мере, руководство для начинающих. Дар неразделенного обожания коварен, но имеет свои причины и следствия, и какая наука, кроме поэтической, сможет объяснить сей факт?
Были ли красные черевички как-то связаны с Исааком, я не знаю, но на его воображение эта история повлиять могла.
Как-то во МХАТе, будучи уже зрелым и маститым, он повстречался с заслуженным деятелем искусств РСФСР, писательницей Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник. Вообще-то до революции ее знали как весьма эмансипированную барышню, автора «Записок фифы», вольную переводчицу с «Ростана на Куперник», еще актрису и бог знает чего, но в поздние годы весьма обласканную «красной властью». Так вот Щепкина-Куперник произвела на Исаака неизгладимое впечатление главным образом тем, что была подругой его первой романтической любви: какой-то (сейчас для большинства это «какая-то») актрисы Юреневой, которая в свое время была царицей. Исаак влюбился в нее (об этом позже), а она в свое время выступала с чтением стихов Татьяны Львовны. Одно из стихотворений, которые читала Юренева с эстрады, как раз описывало пропавшую из-за любви барышню в красных башмаках. Стихотворение принадлежало Щепкиной-Куперник. Возможно, поводом послужила как раз та лохвицкая легенда, которую слышала Куперник, много отдыхавшая на Украине.
О, сладость детективных находок!
Модную писательницу и модную актрису связала крепкая дружба. В чем крылась природа взаимного восхищения, Исаак, наверное, не представлял, а я смог узнать. На одном из интернет-сайтов я прочел, что до революции Щепкина-Куперник была известна как лесбиянка. Прочитанное меня не испугало. Не знаю, может быть, до Исаака тоже доходили такие слухи. Во всяком случае, ничем иным я не могу объяснить тот факт, что сам композитор, уже ставший Исааком Осиповичем, неожиданно повстречав во МХАТе Татьяну Львовну Щепкину-Куперник, испытал два чувства: смущение и смятение. Последствием встречи стало огромное письмо, которое он, придя домой, принялся писать, да потом передумал и посылать не стал. Я задался вопросом: почему? Такое бывает либо когда ты не проявил достаточной симпатии сначала, либо чего-то устыдился и по прошествии времени бросился исправлять. Почему же тогда не отправил? Видимо, понял, что прошлое, несмотря на всю пылкость чувств, уже ничем не связано с его настоящим. Искренность, которую он обрушил на Щепкину-Куперник, не будет ею понята, рассказ о давних чувствах – покажется наивным. То есть женщина, которая пробудила восторг воспоминаний, стала бесконечно чужой. Но связь с «красными черевичками», которые были фирменным знаком питерских лесбиянок, и со слухами, которые дошли до композитора, возможно, от кого-то из друзей – осталась.
* * *
Интересно, мечтали ли родители Исаака об особенном будущем для своего «второго первенца»? Страшную историю про барышню и красные черевички они слышали. Но про одержимость музыкальными демонами, думаю, нет. Хотя… смотря откуда черпать?
Существовавшие в 1960-х годах биографии Исаака Дунаевского до скупости скучны. Его письма – отцензурированы. И в них – практически никаких ответов.
Вернусь к Лохвице. К городку, как уже говорилось, не вело ничего кроме проселочных трактов. Железная дорога пролегала поодаль. Станций, на которых можно было выйти, – две. И в этом тоже был свой умысел. Проспали первую, сошли на второй.
Это немаловажно. С железной дорогой у взрослого Исаака были какие-то особые взаимоотношения. Можно сказать, романтические. Забегая вперед, скажу, что в зрелом возрасте он возглавил Ансамбль песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ). Слышите эхо детства? Сочетание шпал и рельсов ребенку должно было казаться магическим. А что общего у магии и железной дороги? Я опять ухватился за лупу и склонился над картой.
Одна станции была без названия. Другая – Юсковцы. Обе как две точки на одной прямой, на некотором удалении от них сам городок. В этом треугольнике могла крыться загадка не менее интересная, чем «бермудская».
Далекая станция, даже безымянная, уносящая к загадочным планетам под названием Москва или Санкт-Петербург, должна была представляться впечатлительному ребенку чем-то невероятно значительным. Я полез в справочники. Почему станция не имела названия? Начал ползать по карте с лупой и нашел ошибку. Оказывается, то, что я принял за отсутствие названия, было типографическим браком. Слово «Лохвица» напечатали мельчайшими буквами как раз между точкой станции и точкой городка. Выходило, что название было одно и то же. Из-за нехватки места картограф сэкономил на повторе одного и того же слова. Вот те на. Значит, в начале века поезд не останавливался на безымянной станции… Станция Лохвица была дальше от города Лохвица, чем станция Юсковцы.
Я представил себе, как схожу по ступенькам из чрева огнедышащего чудовища и застываю, изумленно тараща глаза. Чистое поле с одной единственной железнодорожной будкой. И больше ничего. Только где-то поют «Поле, русское поле» голосом Людмилы Зыкиной. Еле слышно, чтобы не нарушать законы времени. Еле-еле… Ухо путешественника во времени разбирает голос любимицы министра Фурцевой.
И всё оживает.
Первобытные дачники растеряны. Страсти накаляются. Вновь прибывшие чувствуют жаркое дыхание, слышат громкое ржание десяти, нет, двадцати извозчиков на телегах, сидящих, словно всадники Апокалипсиса, в ожидании незадачливых столичных жителей. Горемыки не догадываются о ловушке. Думают: «Finita, Et liberandum. Roma est incidere»[12]. А пассажиры стремятся попасть в свои усадьбы. Но повозок меньше, чем им нужно. Вы понимаете чувства испуганных дачников? Прибывшие начинают драться за каждую телегу. Бегут наперегонки, чтобы первыми усесться в тарантас. Никто не хочет уступать. Никто не может ждать в очереди, томясь под жарким солнцем. А вдруг потеряет сознание и упадет?
Какие сцены мог видеть детский глаз Исаака? В кого превращается фигура извозчика в глазах ребенка?
Ну, конечно! Это уже не «водитель кобылы», это божество, спаситель. Такое запоминается навсегда.
Я не берусь утверждать, но не могу этого и отметать – его потрясающие музыкальные номера к эпизодам, связанным с извозчиками, его переписанные фрагменты к музыкальному обозрению, сочиненному до него Леонидом Утесовым – «Чудеса XXI века, или Последний извозчик Ленинграда» – все это эхо потрясения, испытанного в детстве от монументальных фигур балагул, как на Украине называли извозчиков.
Разве эти переживания детства не взывают к триумфам взрослого композитора? Взывают. Хватают за грудки. Трясут, как при извержении Везувия. Да!
Поставьте себя на его место. Его, человека-машину, человека-гения, способного озвучить даже телефонный справочник, могущего занять любую должность, его – самого популярного композитора советской эпохи – его! вдруг назначают начальником какого-то ансамбля песни и пляски железнодорожников. Для нынешнего слуха назначение несоразмерное. Но, не торопитесь… Вспомните: другая эпоха, другие люди. А еще… возможно, другие воспоминания из детства о сказочных поездах и великих извозчиках, и тогда Ансамбль песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников уже не кажется «каким-то» таким малым. Все увеличивается, словно бы под лупой.
И маленький ансамбль ведомства Наркомата путей сообщения превращается в главный симфонический коллектив эпохи.
Порой мы недооцениваем время и его стигматы на теле эпохи. Какой-нибудь трубочист нам, судьям со своей колокольни, кажется ничтожеством. Тогда как в свое время его могла полюбить сказочная принцесса. Точно так же многие биографы недооценивают детские потрясения своих героев. Цену таким ошибкам я понял позже, когда вышло первое издание моей биографии композитора. А пока, в самом начале поисков, меня занимал феномен крайней скудности информации об Исааке.
Складывалось впечатление, что он тщательно «занавешивался», скрывался, только от кого? А может, сам маскировался от публичности? Но зачем? Чушь, конечно. Я положил перед собой все издания, где упоминалось имя Исаака Дунаевского после его кончины. Их оказалось немного. Жидкая стопка книжек. И все – изданные в начале 1960-х годов. (Исключение составило только уникальное музыкальное подношение: тринадцатитомное собрание сочинений композитора под редакцией его друга, музыковеда Давида Михайловича Персона. Работа над ним длилась с 1955 по 1976 год, и с тех пор оно ни разу не переиздавалось.)
Когда же начался подлинный бум на истории из его жизни? Только в начале 2000-х годов. Однако почти все хорошие документальные фильмы о нем – тоже из 1960-х. Я рассматриваю фильмы последних лет – это уже дань другой эпохе, другим желаниям и откровенной профанации. А тогда, в начале 1960-х, появились фильмы-воспоминания. Эрик Пырьев снял музыкальный фильм о друге своего отца… Вышел двухсерийный документальный фильм с участием еще живых друзей Исаака Дунаевского. Готовились к изданию письма, и вдруг… с приходом Брежнева все прекратилось. Правдивое и искреннее об Исааке осталось в 1960-х. Но об этом мне только предстояло узнать.
Поначалу казалось, что факты спрятаны. То, что их просто нет, – в голову не приходило.
* * *
Вернусь к железной дороге. Итак, две станции. От станции Лохвицы до городка было 15 верст, а от Юсковцов – 12 (если верить карте), но предпочитали почему-то пользоваться более длинной дорогой. Почему?
Еще одна загадка. А может, дурная привычка.
До рая, пожалуй, добраться быстрее, чем в Лохвицу. Я снова задумался о фигуре балагулы. Возница при любом раскладе оказывался важной персоной. Я стал добывать о них информацию. Кто это такие? Извозчики иудейского вероисповедания. Помните тех самых, что поджидали дачников у станции в рассказах Бабеля.
Мрачные тени грозно выросли перед моим внутренним взором, и я опять увидел испуганных, дышащих на ладан, бледных жителей столиц, мечтавших поправить свое здоровье. Из-под могучих хвостов здоровенные лошади роняли комья чего-то, похожего на глину. Подслеповатые от яркого солнца глазенки дачников с ужасом ширились, смотря на это сокровище. Звучала музыка. Южное украинское солнце раскатывало конские тени до размеров горгулий Нотр-дам-де-Пари. Конь Медного всадника Фальконе явно перед ними меркнул! Мозг наблюдателя с ужасом распознавал в шевелящемся воздухе «шоферов кобыл». Из-за испуга расстояние от станции до города превращалось в сакральную преграду.
Я прикинул: 12 верст пешком в охотку могли преодолевать только пацаны, да и то летом. Причина? Хоть бы одним глазком посмотреть на красивых дам в длинных – не платьях, а проходящих поездах. Зимой детский соблазн заключался в другом: в ужасе. Можно было увидеть каторжан с зияющими ртами, просящих табачку. Бритые наголо каторжане казались безумными.
Я обнаружил упоминание об арестантах в мемуарах одного выкреста. Оказывается, помогать им было западло. Следовало мучить. Ребятня с легкостью преодолела бы и большее число верст, желая увидеть такое из ряда вон выходящее действо.
Да, детство один из синонимов любви ко всему необычному и загадочному. Механизм, который бесперебойно работает на бензине любопытства. Только продают это горючее исключительно детям.
Кстати, не поверите, именно у балагул исследователи выявили профессиональные заболевания – нарушения психики. С чем это было связано, не знаю. Наследовали они свою профессию, как эстафетную палочку, от отца к сыну. При этом все, как правило, были рослыми, крепкими, с белыми зубами и черными как смоль бородами – маленькие дети их побаивались.
А кто мог испугать маленького Исаака у себя дома? Не знаю. Кроме отца и матери самым значимым человеком для маленьких Дунаевских был родной брат Цали Симоновича – Самуил. О дяде рассказал старший брат Исаака Борис. Но я отвлекся. С дебрями внутрисемейных связей мне предстояло разбираться позже. Пока больше волновали пропорции между реальностью и воображением.
Население моей нарисованной Лохвицы насчитывало девять человек – семья Исаака: отец, мать, шестеро детей и дядя Самуил.
В жизни, то есть в реальности, историческая Лохвица насчитывала около семи-восьми тысяч жителей, хотя две тысячи мне кажутся приписанными.
В моем городке жили, как в Эдеме. Без газа, электричества и водопровода. С удобствами во сне. В реальном – все было то же самое, только удобства – во дворе. По настоящей Лохвице важно разгуливали семейные пары: дамы с кавалерами, куры с петухами, свиньи валялись в грязи, парами. Козы отличались загадочным индивидуализмом и по одиночке ходили к синагоге, игнорируя козлов, которые ощипывали солому с крыш домов… О, дивный мир дарвиновских противостояний и соразмерностей. На всех – на коз и людей, и на живых, и на мертвых распространялось только одно – стойкость к жизненным невзгодам. Удивительная форма кошмара, преодолеваемого невероятно пунктуальным соблюдением кашрута.
С точки зрения психолога, выполнение ритуальных правил напоминало невротическое расстройство. Чтобы приготовить говядину, надо было три раза ударить по ней слева и пять раз под дых, бросить страдать на воздухе, утопить в воде, как вурдалака, высушить на ветру, как трусы, и снова намочить, как ведьму… Количество процедур, которые требовались для очищения мяса, могло свести с ума. Но цель практически всегда достигалась. Мясо съедали целиком. С урчанием в животе. Правда, было ли это следствием его кошерности или просто прихотью голодного желудка, оставалось непонятным.
Самое важное – все манипуляции откладывались не просто в памяти, а в генах, превращаясь в привычку, которая становилась, в свою очередь, национальным характером. Затраченная поколениями энергия превращалась в особенности носа и разреза глаз. Главное, выложиться – и тогда в твою судьбу должно было прийти в качестве награды не только то, что ты хотел, а нечто большее и неожиданное.
Конечно, такое объяснение грешит смелостью, но в целом оно верное. Правила простые: чем больше повторений одного и того же движения, тем больше шансов, что твоя молитва будет услышана и, например, твое сокровище – мама никогда-никогда не будет болеть.
Если вникнуть в суть этих бесконечных магических усложнений реальности, можно выделить одно простое, но весьма важное условие: необходимость страдания как основы успеха. Это матрас, на котором покоится практичность веры, это база, на которой стоит столп религии. Иными словами, для праведного еврея солома была не важна. Важно было напихать под себя страдание, и тогда дьявол не сможет строить козни, и Создатель откликнется на зов о помощи. Вот и весь секрет! И никаких депрессий от неопределенности ожидания и неуверенности в будущем.
В чем была видимая польза ритуалов?
Они имели конец. И, следовательно, смысл. Любая точка выстраивает смысл предложения, смотря от места, куда ты ее поставишь. Так устроен наш мозг. Если ты ставишь условием жизни потребность сохранения чистоты, то это закрепляется в генах.
Очень четкая и понятная закономерность.
Главное, отделить себя от всего остального, чтобы понять, что на самом деле связывает тебя с этим миром. Это великий дар. Брался ли он от матерей или от космических пришельцев, не так уж и важно. Важно, что Исаак сохранил такой способ мышления до конца жизни, его не вытравили никакие сталинские времена. Запрет на предательство, вспыльчивость, уныние каким-то удивительным образом формировались в нем посредством тех самых пресловутых указаний: «не сидеть на свиной коже», «не пить грязной воды», «не есть колбасы из мяса нечистого животного». И пусть он сам, переехав в Москву, правил кашрута почти не придерживался, производные от давних религиозных запретов проявлялись в его поведении на бессознательном уровне. В ненужных на первый взгляд опасениях по поводу свинины крылось отвращение к человеческому свинству, а все вместе уходило корнями в хасидское прошлое его предков.
* * *
Чем еще была примечательна нарисованная мною Лохвица?
Еврейские женщины в городе были сплошь набожными: регулярно посещали микву – водоем для ритуальных омовений – и носили парики, в которых пауки иногда плели паутину.
В городе функционировали одна синагога, молельный дом, четыре церкви, собор и 6238 горячих сердец, часть из которых на самом деле были холодными, а именно сердца уездного врача, двух его фельдшеров и главной красавицы города – купчихи Недоумовой. Но у нее вместо сердца был камень, поэтому она не в счет.
Адукацыя – образование. С этим было все просто. Про Америку знали, что такая страна в принципе есть, как в принципе есть Марс, но зачем жить на Марсе, если уже есть Лохвица?
Духовная атмосфера. На все сложные случаи жизни существовали очень простые ответы, а то, что под ответ не попадало, подлежало искоренению. И тем не менее какая-то трещина в этой фарфоровой чашке идиллического жития должна была быть, и я пытался ее разглядеть.
Трещина. В детстве любого гения должна быть трещина, пусть не с овраг, но все же. И я ее искал.
Я уже говорил про маму и папу.
Но ни в одном из взрослых воспоминаний Исаака, то есть ни в одном из его писем девушкам нет упоминаний про дядю. А ведь он был главным человеком начала его жизни. Факт! Примем его и не будем оспаривать. Так об этом сказано у старшего брата Бориса.
Не у Исаака. Последний отделался, по мнению потомков, молчанием. Почему?
Не знаю.
В фигуре дяди, судя по воспоминаниям, крылась (или кроется до сих пор) какая-то загадка. Чувствовалось влияние сильного мужчины, обладающего всеми признаками доблестного бойца. Но какими бойцовскими качествами мог обладать хилый дядя Самуил?
Скрипка?
Он мог ее отжать от груди десять раз. Именно столько требовалось при исполнении Крейцеровой сонаты.
Что еще? Доблесть?!
Вполне возможно.
Если судить о зрелом Исааке по его письмам, оставив в стороне музыкальный дар, можно ощутить именно доблесть как основу мужества. Он умел быть, а не казаться, доблестным. Он умел, не желая этого, казаться горячим, требовательным и справедливым. Корни этого, безусловно, кроются в детстве. Копируются с родителей. Стоп. А может быть, с дяди? Кроме воспоминаний брата Бориса других ответов нет.
Но, что еще более интересно, самого Бориса Исаак в письмах тоже упоминает очень мало, как и остальных братьев. Почему?
Не знаю, не знаю, не знаю.
Из таких «не знаю» у подлинных биографов вырастают порой очень солидные монографии. Но сейчас не об этом. Кто еще мог оказывать влияние на Исаака?


