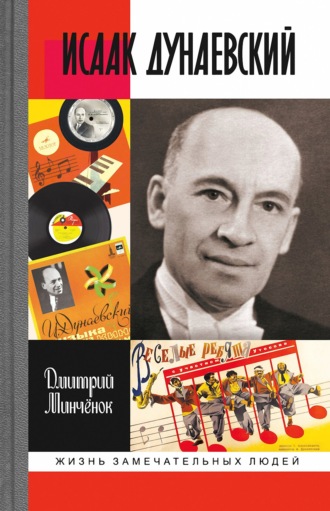
Дмитрий Минченок
Исаак Дунаевский
Исаак из Лохвицы
Он шел по Лохвице[3] и вспоминал.
По легенде – рождение случилось, когда на небе сияли звезды, следовательно, было за пять часов вечера (зимние сумерки – ранние). Новорожденного встречали пронзительно яркие всполохи света.
Какая могучая мистерия сопровождала тот миг?
Смерть, точнее небытие (или какая-то другая форма не совсем жизни, что царствует только в лоне матери), еще не покинула пределы того крохотного клочка суши, каковое представляло его тело, и радость рождения еще не затопила все видимые и невидимые окрестности места.
Зато отмечалось присутствие Наблюдателя.
Можно сказать, что ночное небо сыграло роль волшебной линзы. Если за нею где-то и был творец, то самый непознанный, потому что он же был и инструментом своего творения.
Загадочный Наблюдатель присматривался к происходящему, рассматривая младенца через себя.
Роженица по имени Розалия почувствовала вмешательство необычного.
Яркость звезд усилилась, словно небо ощутило весомость происшествия. Подало знак неизбежной грядущей расплаты. Небо на что-то намекало, как и голоса повивальных бабок, гипнотизировавших роженицу. А потом мир замер. Желания кончились, словно природа выдохлась, и чудо вошло в непримиримое противоречие с рутинной действительностью.
Все перестало казаться значительным: тряпки, эмалированный таз, грязное небо за окном.
Цвет крови поблек и стерся.
Грандиозное действо закончилось, уступив место ничего не значащим деталям. Не было ни акта зачатия, ни шевеления космоса, ни дыхания серафимов.
Остались стыдливая ласка да шуршание покровов. Представляя ту картину, я слышу слабые стоны женщины, как отзвук доносящейся из темноты симфонии. Штука заключается в том, что ребенок услышал шуршание невидимого оркестра – так позже вспоминал его старший брат Борис – и успокоился. Мальчик оказался не крикливый. Словно к чему-то прислушивался. Когда пройдет испуг, когда начнется разбазаривание великой тайны и когда он, наконец, ощутит себя исполнителем чьей-то загадочной воли?
А могло ли всё пойти по-другому?
Еще кто-нибудь слышал то же, что и он?
В ситуации, когда страсть обретает размах космоса, можно ли было ощутить что-то другое? Сдвинулось ли в мире что-либо с его первым криком?
Или его явление из лона матери было рядовым событием, чтобы человечество могло еще на одну ступеньку приблизиться к будущему, а величие пришло потом?
А может, всему виной был Большой взрыв? Ведь герои приходят оттуда.
Молодой Исаак, тридцатилетний, в своих горячих спорах по поводу прогресса и жизни иногда упоминал о своем детстве… Эти воспоминания были прикрыты завесой тайны. О чем умалчивалось? О том самом резонансе в квантовой психологии? Есть свидетельства его друга – актера Владимира Казаринова о том, с каким жаром Исаак пытался объяснить, что мир невидимых частиц подобен шахматам, но к каким выгодам может привести победа одного «игрока» над другим, совершенно неясно. Однако польза несомненна! Квантовая физика вызывала его интерес и манила загадочностью. Размышления о мире космическом и мире человеческом в определенной степени овладевали его сознанием, но не вполне поддавались осмыслению умом. Но на сердце оставались рубцы.
В 1900 году 18 января по старому стилю родился чудо-ребенок, но будем говорить честно в момент рождения быть уверенным в том, кого ты произвел на свет: мессию или коллежского асессора, было невозможно.
От того, что было столь много частного, многовариантного, процесс формирования личности шел во всех направлениях. Болезни, плохое питание, что угодно другое могло повлиять и сотворить из божественного младенца посредственность. Что за занавесом?
Проекция любовной страсти. Последствия вспышек недопонимания. Случайность встречи скромного Цали Дунаевского с яркой красоткой Розалией, дочерью Исаака Бронштейна и его жены Зислы. Можно было назвать это проведением, хотя в такой же степени и произволом. Но на небесах сделка состоялась. Все было оплачено апрельской ночью 1899 года. Тьма сгустилась и закончилась прозрением младенца 30 января по новому стилю. 1900 года.
Место происшествия – городок Лохвица. Главные герои – семья банковского служащего Бецалеля-Иосифа бен Симона-Авраама[4] Дунаевского. Зрители – любопытные соседи. (В роли статиста – молодой папаша Цали Дунаевский. В роли премьера – его дитя, будущий Красный Моцарт.)
Впрочем, как я уже сказал, кто вырастет из этого крохотного комочка боли со старческим лицом, никто не то что не знал (незнание свойственно человеческому роду), но даже и не думал, ибо хватало других забот. Во-первых, крики роженицы. Впрочем, не сильные и не продолжительные. Напомню, роды были третьи. Во-вторых, привычка радоваться. И это событие случилось.
Звезды утомленно взирали на реку Сухую Лохвицу. В тот год она обмелела. Я листал специальные справочники. Если это можно было считать предзнаменованием, то значит, оно им было явлено. Вечное сияние чистого разума. Мальчика назвали Исааком, в честь великого библейского патриарха, которого собственный отец был готов принести в жертву, но парень вышел из передряги победителем благодаря Божественному вмешательству. Значит, и святые пользуются блатом. А как иначе? Как положено.
Накануне первой же субботы после появления на свет сына устроили шолем зохер – торжество в честь рождения мальчика, которое полагается совершать накануне обрезания.
Обрезание – брит мила.
Многие думают (и я в том числе) об этой процедуре с ужасом. На самом деле, нет ничего страшного. Мужчины, это пережившие, вспоминая подробности, даже смеются. Младенцы – нет.
Упрямые.
Предпочитают кричать. Тоже хорошая форма подачи самого себя.
Шуршали ритуальные одеяния старцев, похожих под своими полосатыми покрывалами-талитами на зебр. Столы в доме покрыли белыми скатертями. Самый дряхлый, моэль[5] – лицом списанный с библейского пророка, бормоча под нос «Шма Исраэль…»[6], ритуальным ножом отрезал частицу плоти под животиком новорожденного. Присутствующие мужчины закричали: «Мазаль тов!»[7]
Жизнь начинается со страдания, не правда ли? Борода моэля приглушила истошный вопль младенца.
К списку имен избранных прибавилось новое имя.
Завидная доля.
В те времена синематографа еще не изобрели, и потому после праздника все запрокинули головы, разинули рты и вышли из хаты… Смотреть на звезды. Напомню, январь был не колючий, и снег заменял полотно экрана. Зрелище завораживало.
Согласно преданию – а легенды играют весьма большую роль в биографиях гениев – снег был до крыш, а кое-где и выше. Это не фантазия. В одном из писем герой на склоне лет писал: «Когда я родился, – как говорила мама, – было очень много снега, может быть потому я теперь люблю все белое».
Звезды – единственное, что служит тоскливой мечте о свете и его недостижимости. Именно это порождает страдание, как утюг – причину пожара. Как хорошо смотреть на звезды. И как грустно. Они вспыхивают, и ты чувствуешь удивительную связь с чем-то неземным в твоей душе. Только понять, отчего грустно, на скорбь от какой утраты намекает сияние звезд, нельзя. Ты словно понимаешь, что потерял любовь всей своей жизни, а она тебя все еще ждет. И ты пробуешь до нее дотянуться. Только размаха рук не хватает. Как преодолеть свои слабости, перешагнуть через века, простить предательство, чтобы вновь обрести любимую?
А звезды обвиняют и зовут. В этом смысл сияния.
Вы думаете, крохотный пучок света из пучины мрака и холода? И от мерцания звезд нет тепла? Ошибаетесь. Наша жизнь пронизана светом миллиардов таких звезд. Бесчисленное множество одиноких сердец отзываются на них. Их теплом можно согреть большой город, в котором вспыхивают холодные окна.
* * *
Когда ты с самого рождения ощущаешь тоску, кем в большей степени ты станешь: мечтателем или победителем-завоевателем? Для звезд нет никакой разницы, понимают ли суть их движения. Понимают ли смысл сияния?
Они готовы выразить каждому свое сожаление, что так далеки от нас. А может, это и к лучшему? Небо после рождения мальчика стало назойливым и неинтересным.
А его монстры? Куда делись они?
Растворились в тишине. Страхи маленького мальчика – скрежещущие звуки, впервые обретшие прописку в его ушах, заглушились дребезжанием тазов и грохотом кухонной утвари. Мальчик воззрился на мир.
Вы когда-нибудь видели портреты почтенных старцев витебского художника Иегуды Пэна? В их глазах отражается вся скорбь и тоска еврейских переселенцев.
Именно такие печальные глаза были у маленького Исаака, очень напоминающие его отца – Бецалеля Симоновича, чью фотокарточку мне показал его внук Геня – Евгений Исаакович Дунаевский, первенец композитора.
Цали наверняка гордился тем, что вторым у него родился мальчик. Предыдущая девочка Зисла (вписанная в документы советского времени как Зинаида), появившаяся после первенца Боруха (Бориса), годилась для других дел, но не для сражения с Голиафом, и потому была не в счет. Миру требовался боец. В том, что сражение состоится, отец не сомневался. Цали служил кассиром в банке Общества взаимного кредита. Ответственная должность, если вы должны общаться с общинными деньгами.
Общество располагалось в добротном двухэтажном здании, к массивной двери которого вели три ступени. Если вы когда-нибудь восходили по ступеням таких зданий, то не могли не почувствовать внутреннего трепета. Вас что-то приподнимало в собственных глазах. Что? Не знаю. Но вы точно воспаряли духом. Перед вашими глазами маячили загадочные вершины. С предоставленной там жилплощадью на острие иглы, способной вместить как простых жильцов, так и ответственных квартиросъемщиков с крыльями.
Впрочем, я заболтался.
В Лохвице тоже любили уколоть языком, сшивая для соседа саван. А если сосед был еще и «заметный»… Цали Симоновича в городе знали.
Служба в Обществе взаимного кредита возвышала его в глазах окружающих. При взгляде на него суетливое, мелкое и любящее деньги «я» каждого просителя вдруг растворялось и уступало место чему-то более значимому, не имеющему никакого отношения к человеческому эго.
Я не хочу сказать, что в городских учреждениях Лохвицы работали ангелы. Служившие там люди были обычными смертными. Цали Симонович вступил в должность после того, как три кассира подряд скоропостижно умерли. Сгорели на работе. Прямо перед аудитом.
И вот они опять – три ступени – те самые, коварные. Неважно, идет речь о жизни или о смерти. Всегда натыкаешься на ступени, которые либо возносят, либо низводят. Это условие.
Но не в них дело. Тайна там, где вход и выход.
Тайна в преображении.
Это преображение сопряжено с перемещением не в пространстве, а во времени. Оно происходит с каждым при подъеме по ступеням (или спуске). Оно придает значимость и могущество, но опасно и мало исследовано по причине сложных взаимоотношений человека и Хроноса.
Прямая зависимость от скоротечности времени и накопления груза переживаний независимо от числа прожитых лет неизбежно приводит к старости, зачастую преждевременной, и как следствие – к ранней смерти.
Три предыдущих кассира это знали, но унесли тайну с собой.
Поэтому Цали Симонович, ни о чем не задумываясь, с энтузиазмом принялся работать на их месте.
И его дела пошли в гору. Общество взаимного кредита было способно на чудеса. А Цали Симонович оказался главным кудесником, умевшим сотворить фокусы с деньгами.
Понимаете? Возможно, что нет. Ну и не важно.
Важно, что ему доверяли.
А доверие в еврейском местечке вещь первостепенная.
Теперь честный Цали Дунаевский лежит на одном из старых московских кладбищ. И репутация его не портится.
Я не был на том кладбище. Жаль. Не смог прикоснуться к месту его входа в другие пространства. Зато был там, где родились его дети.
* * *
Лохвица – городок длинный, растянувшийся мускулистыми дворами вдоль реки. Точнее, речек там было несколько. Главное место в поселении – базарный двор, где происходит обмен денег на продукты и наоборот. Шум в субботу. В воскресенье – кавардак и драки. Остальные пять дней – тишина и покой. И прибежище вольного ветра.
Помните «Песенку Роберта» (из фильма «Дети капитана Гранта»): «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер!» Он принесся в музыку Исаака из самой Лохвицы.
Городок возник как нечто равноудаленное для всех желающих обменять силы и ум на деньги в центре мифического треугольника, который представлял собой рынок. Не пытайтесь его найти на карте. Треугольник виден, если только подняться на достаточную высоту. Главное, чтобы был пропеллер как у Карлсона.
Создатель позаботился о Лохвице. Присовокупил этому месту отдых, пришил суровыми нитками красоту. И тамошние места преобразились. Что бы вы там после этого бульдозером ни сносили, городок не переставал пленять взор. Брр… Даже колхозные тракторы в свое время местечка не обезобразили. Наоборот. До боли красивая природа впечатляла как в эпоху телеграфа, так и в эпоху летающих тарелок, нисколько не испортившись. Сонмища ангелов продолжали парить в небе над пристанищем Мазепы, создавая виды, превосходящие красотой пейзажи именитых живописцев. Сапоги помещиков находили особое удовольствие мять пахучие нивы. Длинные юбки их барышень гладили пыль проселочных дорог. Из снов незадачливых архитекторов вырастали дворцы… ну, хорошо, усадьбы или просто хрущобы, главное, все хорошело. В этом и была сила Лохвицы. Место силы.
То, что в небесах над тем городком что-то было намешано, – несомненно.
* * *
До Исаака – сына Бецалеля-Иосифа – в Лохвице появился на свет философ и поэт Григорий Сковорода (каюсь, я лично его штудий не читал). По крайней мере, так мне сказали в местном музее, что, правда, не соответствует Большой российской энциклопедии. Но пошло ли это больше на пользу Сковороде или Лохвице, я не знаю. Хотя в люди он выбился. Вы спросите: город или мужчина?
Оба. В ту или иную энциклопедию «пролезли» и поэт, и город.
Может быть для кого-то Лохвица была своеобразным местом наказания, ближе которого к Киеву селиться было нельзя. Черта оседлости. Гонимые с незапамятных времен сыны Давида, населявшие местечко, в основе своей были хасидами. Совершенно особая форма жизни, на мой взгляд. Я – полухасид. Хотя бы по праву памяти. Знаете ли, как прекрасно постижение Бога через радость. Мы учимся понимать Бога через улыбку. Это здорово. Правда, число депрессивных еврейских писателей и поэтов от этого не уменьшается. Что поделать? Всегда есть непослушные.
Правила очень простые, хотя порой в этой простоте и заключается самое невыносимое. Согласитесь, это очень трудно, когда нельзя пролить слезу, а примириться с горем можно только через веселье. А если ты на такое не способен? Если тебе детей кормить нечем? Все равно танцуй. Танцуй, даже если не можешь, даже если мозоли или на горле веревка. Танцуй через силу, пока не дождешься. Кого?
Того, кто тебе явится. Чаще всего – шестикрылый гонец, весь взмыленный и уставший. С пакетом под мышкой. Почему от танца? Потому что танец – движение. Когда пляшешь, от движения в мозг выделяется дофамин. Это гормон и нейромедиатор, осуществляющий передачу электрического сигнала в определенные участки мозга, ответственные за радость. Если объяснять упрощенно, происходит «приход». Радости, разумеется.
Меня это поражало. Как сложное соединение молекул в крови превращается на каком-то уровне в психические ощущения? И как наш гнев переходит в страх, а страх – в стыд? Мы не знаем. Но процесс идет по одним и те же нейронам.
Как из электрических импульсов, «бегающих» по замкнутым контурам в человеческом мозге, рождается неповторимое ощущение собственного «я» со всеми сложностями нашей психики, нашими волнениями и страхами?
Вот в чем загадка. Сложно понять? Но нужно.
Когда-нибудь вам все объяснят биологи (или поэты). Или, по крайней мере, заставят вас поверить в то, что всё объяснили. Вот тогда будет страшно и больно от того, что мы поверим в то, что всё узнали и поняли. Мир станет скучным и сразу потускнеет. Но ненадолго. Какой-нибудь новый Красный Моцарт обязательно ввернет что-нибудь такое, что все изменится.
И за все, что ты сделал по велению какого-нибудь электрического контура, отвечающего в мозге за похоть, жажду или бог знает за что еще, придется отвечать.
Правда в том, ради кого ты все это совершаешь. Поверьте, если ради других, – вам будет многое прощено. Возможно, даже смертный грех. Если ради счастья другой… вам будет явлена дорога в рощу из сахарной пудры.
Знать бы, где снова найти этого другого или другую.
Это как в Москве стоять перед управдомом с паспортом без прописки. Вам стыдно, что родились не в нужном месте и не у тех родителей. И шансов отвертеться от этого никаких.
А для испуганного еврея разница между управдомом и Богом иногда небольшая. Единственное утешение в этой безрадостной ситуации – вера.
Из чего она вырастает?
Расскажу один случай. Мне его поведал японец. Японцы всегда знают какие-то особые истории.
Ученый-психолог, специализирующийся на поиске участка головного мозга, отвечающего за веру, пригласил для научного эксперимента самых разных людей (дело было в Токио) – европейцев, азиатов, африканцев – прийти в студию и рассказать о самом постыдном случае в своей жизни. Разрешалось объяснять намеками. Ничьих имен и фамилий не спрашивали. Все было анонимно, люди не чувствовали стыда за откровенность, и практически все охотно говорили правду.
Затем исследователь объявлял аудитории, что, к сожалению, не имеет возможности заплатить за интервью, но может отблагодарить за потраченное время приятными сюрпризами: предлагались канцелярские принадлежности, памятные значки или наборы мыла.
Люди выбирали разное.
Тут и выяснилось самое интересное.
Чем сильнее человек раскаивался, страдал от воспоминаний о грехе, тем с большей вероятностью он, независимо от пола и расы, выбирал набор для умывания.
Чувство греха биологически соседствует с желанием чистоты. Аморальный поступок воспринимается как болезнь. Вспомните ритуальное омовение иудеев: оно требуется их душе как средство восстановления чистоты. Христиане излечивают душу от греха покаянием.
Этот эксперимент имел вторую стадию. После признания людям предоставлялась возможность передохнуть: можно было выйти в холл выпить кофе, пройти в комнату, в которой стоял телевизор, или зайти в туалет, чтобы умыться над раковиной (унитаза там не было).
Присутствующие более или менее равномерно распределились по всем трем помещениям независимо от того, насколько искренними они были. Небольшой численный перевес был только в туалетной комнате без унитаза – туда направились те, кто раскаивался сильнее всего.
После перерыва всех опять звали в общую комнату, и там появлялся ассистент, который нес под мышкой большую кипу документов и будто бы случайно ронял их. И здесь исследователи столкнулись с неожиданностью: с наибольшим желанием рассыпанные по полу бумаги помогали собирать те, кто символически не умывал рук. Те же, кто старательно «смыл» грех, наклоняться не торопились, а, наоборот, стояли и ждали, когда всё сделают другие. То есть именно «раскаявшиеся» становились черствыми и равнодушными к чужой беде, а считавшие себя грешниками, каковым нет прощения, оказались более склонными к сочувствию и эмпатии.
Понимаете? «Исцеленные» черствели, теряли способность сочувствовать. Чужая слабость воспринималась ими как ловушка, способная вернуть их в прежнее греховное состояние. Они не воспринимали «слабака» как «чужого». Они видели в нем частицу «прошлого себя», то, что в себе осудили, и не спешили помочь такому человеку, словно он мог опять «заразить» их своей «слабостью». Этому есть примеры из жизни.
Те, кто считал, что Бог их простил, замыкались от своей памяти в броню, чтобы не повторить прошлых ошибок. Такое происходит только в животном мире, мы не далеко ушли от зверей. Лев не придет на помощь другому, попавшему в беду льву, если только не будет связан с ним парными или иными «родственными» отношениями.
Так действуют те, кто считает себя «исправившимся». Так действуют фарисеи.
Но есть кое-что еще более удивительное.
Христос не проводил исследования, как японский ученый. Евангелисты, описавшие его земную жизнь, ничего не знали об оброненных бумагах и наборах с мылом, но они, без сомнения, многое знали о грехе: почти две тысячи лет назад они в иносказательной форме поведали нам историю о Понтии Пилате, умывшем руки.
Как все это связано? И кто двигал их рукой? Совершенно точно, что не их личное «эго».
Кто вложил им эти знания?
Ответ очевиден. Это не их фантазии, а Чья-то истина.
Для меня это самое исчерпывающее доказательство Божьей мудрости, если под этой мудростью понимать память генов и стремление передавать свои копии снова и снова, во веки веков. Аминь.
Каким образом все это относилось к маленькому Исааку и к его предназначению?
Вера в то, что в самый важный момент – то есть в момент Страшного суда Бог явится нам не в виде грозного военачальника Яхве, а в образе добрейшей бабушки, которая погладит по голове и скажет: «Прощаю».
Ах, как хорошо станет! Какой свет хлынет! Мелодию пропоют от конца к началу. И наступит рай.
Хасидом быть здорово. Можно в синагоге, а можно и дома. Если сравнивать нас (то есть их) с иудеями-ортодоксами, первых можно назвать протестантами.
Чтобы окончательно завершить краткий экскурс, в интересах справедливости добавлю шутку, которая ходила в начале века в Витебске. Встречают старого иудея казаки, наставляют на него пику.
– Отвечай, – говорят, – за Христа!
Авраам возмутился:
– Христа распяли не мы, а другие. Так что я тут ни при чем.
– Какие такие «другие»?
– «Настоящие» евреи.
– А где их найти?
– А они живут на территории Великого княжества Литовского. Крайне серьезные люди.
– Да как мы их узнаем? Все люди серьезные.
– Этих очень просто: они танцевать не умеют.
* * *
Теперь по поводу имен – «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».
Я ведь слукавил. Розалия Исааковна-то своего мальчика назвала, если произносить правильно, Ицхаком, а Исааком его стали называть русские. Полное же имя звучало так: Исаак-Бер бен Бецалель-Иосиф. В первый раз я это услышал в квартире Евгения Исааковича, Гени. Имя зачитывал сам Геня, сидя на огромной кровати красного дерева, на которой умерла его мать Зинаида Сергеевна. Он держал в руке бумажку, и рука дрожала. И голос. От торжества. Так всегда бывает от соприкосновения со временем. Прошлое притягивается к настоящему. Приятно почувствовать, что не всё исчезает, раскрывая свои руки для более крепкого, чем мы ожидаем, объятия.
* * *
«Личное дело Исаака…» – торжественно произнес Геня, и глаза его блеснули.
Он посмотрел, ожидая эффекта. Я издал эффектный звук.
– Бер, – сказал он.
– Брр, – отозвался я.
У меня привычка повторять последние фразы. Бессознательная. Работа зеркальных нейронов.
– Бер значит «медведь», бен – «сын», – добавил Геня. – Сын Бецалеля-Иосифа. Понимаешь?
Он поднял указательный палец. Посмотрел в сторону, где, возможно, в этот момент могло находиться «мое понимание», но встретился с темным углом, который молчал.
– Бецалель, – повторил я с восторгом.
И улыбнулся. Перед моим внутренним взором промчались сотни тысяч сарацин. В белых тюрбанах, и у всех на лбу сверкал огненной змейкой знак: «Бецалель», что значит «в тени Бога».
Почему сарацины? Потому что тоже семиты.
– Евреи на лошадях не скачут. Они ездят на лимузинах. Это мне в детстве говорил сосед Рома-биндюжник.
– Ну, ты фантазер.
– Прошлое. Имеет свое право быть.
И все же, как арабы и иудеи могут быть объединены одним термином?
Может быть, разница между ними не столь велика?
Я уходил в тот вечер от Гени, груженный полным именем его отца, как награбленным сокровищем. Никто до меня этого не знал. Никто не публиковал. Я представлял себя первым и слышал аплодисменты. И то и другое оказалось горьким заблуждением, но лишь наполовину. Горечь я люблю, поэтому заниматься Дунаевским я не бросил. Зато начал курить. Тот же табак, что и он. Про страшную ошибку, связанную с этим решением, расскажу после.
Начни я курить «БT», возможно, все пошло бы иначе. Но я начал с «Герцеговины флор», полагая, что раз их курил Сталин, то мне откроется чуть больше секретов про человека, прославившего его эпоху. Грело то, что каждый раз доставая папиросу, я, глядя на свою руку, представлял волосатую ладонь византийского сатрапа, который возымел власть над гением.
Надо было только успеть сдать рукопись. Сроки поджимали.
Если честно, я всегда нарушаю сроки. Потому что нет причин не нарушать по причинам, которые, как мне кажется, понятны. Приходится зарабатывать на жизнь, сочиняя пьесы для театров. Это и хорошо, и плохо одновременно. Плохо потому, что пьесы быстро забываются, а хорошо потому, что театр – это самое волшебное место на земле, где все страхи, обуревающие тебя, могут в один момент превратиться в картонных истуканов, которым ты оторвешь головы.
Но как я могу что-то изменить в электрической цепочке своих импульсов?
Дома, как шарманщик, я повторял моей прекрасной возлюбленной Ольге Давидовне Дубинской полное имя Красного Моцарта – бен Бецалель-Иосиф. Сын Прекрасного. Меня это гипнотизировало. Ее – забавляло.
Наша маленькая дочь молча слушала, пуская пузыри.
Как много боли пролегло между теми воспоминаниями и моментом, когда я это пишу.
Я не знал, зачем предкам Исаака была нужна привычка награждать себя множеством имен: понятно, это как-то связано с попыткой спастись, замести следы, и тогда поди разбери, кто ты на самом деле: Исаак, Ицхак, Ицик, Сёма, Бер, Бецалель, а может быть, Симон? И пока твои враги будут разбираться с твоими именами – опасность, возможно, минет. Сладкое чувство, которое даруют нам имена предков, – безопасность. И потом это, безусловно, красиво, такой длинный перечень. Как знамя, которое развевается над твоей головой.
Думаю, эта привычка родилась из первобытного инстинкта, сходного с магией. Окружать человека оболочкой имен, каждое из которых сопряжено с определенными ассоциациями и имеет свое значение. Имя Иван встроено в ассоциативный ряд: «печка», «лежанка», «лопата», «богатырь», «победа»… Имя Самсон – в ряд: «сила», «волосы», «любовь»; Далила – «предательство», «бессилие» и т. д. Каждое имя влечет за собой только свою, определенную ему и больше никакому другому имени, историю.
Какой-то из жизненных путей, даруемых именем, точно будет успешным, какой-то – безгрешным, какой-то – смертельно опасным. Это и есть защита посредством имен. Чем больше у человека имен-масок, тем крепче защита. Жизнь – это магия. Каждодневное приближение к Всевышнему. Даже если вы меняетесь не к лучшему.
Так что… завистники были правы: маленькому Исааку даров досталось с избытком. Вечерами я садился перед чистым листом бумаги и рисовал выдуманный город. В нем было не больше пяти домов – моя Лохвица.
Рядом клал распечатанные фотографии реального городка и сравнивал.
Откуда взялась «Лохвица»? Я полез в Этимологический словарь русского языка Макса Фармера. «Лохва», или «Лахва» – значит «пески», «болото», «зыбкий». Интересно, современное «лох» можно как-то связать со словом «песок», в смысле – «ненадежный»? Возможно.
Городок образовался при слиянии двух рек и одного ручья или двух ручьев и одной руки… пардон, реки. Хотя рук гайдамаков, топивших в водах Сухой Лохвицы жидов, там тоже хватало. Сумма слагаемых, создавших город, была проста: желание посидеть на месте, хлебнуть горилки и оставить копию своих генов в теле красавицы.
Несомненно, что необходимо главное: присутствие большой воды. Пески по берегам, по крайней мере, ручья, точно были, но не зыбучие. А если зыбучие, то в иносказательном варианте. Попав в город впервые, я убедился в этом на собственном опыте.
Уставший от бесплодных хождений по улицам в поисках переулка Шевский Кут (где родился Исаак), с наступлением сумерек я предпринял последний рывок. Переулок прятался от меня, как только я перебегал с одной улицы на другую. Шевский «угол» растворился. В результате я нашел только реку.
Река – то, что неизменно, как и небеса. Река несет не воды, а время. Следовательно, по ней можно уплыть в прошлое. Это не означает, что ты найдешь там следы: человеческому глазу видна только поверхность воды. Магическая маскировка. Мысль поэтическая, но иногда и документ может быть сродни поэзии. Хотя дважды в одну и ту же реку – не ступишь.
Зато с легкостью можно влипнуть в историю.
Не зная, как эта магия работает, я разделся. Воды местной речушки были холодные, словно Новый Иордан. Я чувствовал, как должно свершиться символическое крещение, словно я с помощью волшебства смогу попасть в детство Исаака, – и конечная цель путешествия, судя по биению моего сердца, будет достигнута. Исаак, возможно, плавал здесь по сто раз на дню. Я ойкнул и не почувствовал дна. И тут же увидел силуэты фигур на взгорке.
Городовой или жандарм? И тут же – спешащая барышня. Куда торопится: на исповедь или к любовнику? А если шикса[8] – в микву[9]?
Я нырнул. Воды вспенились. Это случилось. Я готов был ликовать и смеяться за всех детей мира. Под водой было ни зги не видно. Я, отчаянно работая руками, поплыл вперед против течения, не чувствуя дна. Только вперед, в прошлое моего героя. Да простит он меня за вторжение! Силы быстро иссякли. Я подумал, что пора поворачивать, и тут почувствовал, как меня утягивает ко дну. Это был самый настоящий водоворот, нежданный в мелкой речке… ноги уносило в какую-то бездну, прибежище усатого сома или водяного. Я замахал руками, словно меня тащило наверх полчище ангелов. И в этот момент кто-то ухватил меня за лодыжки и потащил вниз.
Я уже не дышал, а хлебал воду, как будто хотел выпить реку, и слышал отзвуки хриплого «Реквиема», который тонким дискантом пела Элла Фицджералд. Прийти на помощь никто не торопился. Умереть вот так банально, в момент постижения истины? Это было бы хорошо для романа, но для его автора…
И тут я услышал крик: «Иду-иду!» От отчаяния я снова заработал ногами, отрывая их от чьих-то липких щупалец, и почувствовал, как всплываю. Затем ноги достали до дна. Я облегченно вздохнул. Спасибо. Где тот, кто меня вытащил? Я завертел головой. Никого не было. Но кто-то же кричал: «Иду!» И тут я сообразил. Это был бесовской голос, а может, кричал Исаак? Тембр, характер произношения – все совпадало. Но главное, бессознательная уверенность. Это был Исаак Дунаевский.
Я выполз на берег и против воли запел «Эвейну шалом алейхем»[10], благодарно протягивая к небесам руки. И тут же улыбка опять начала медленно таять. Моя одежда!? Оставленные на берегу джинсы от «Габбаны, поссорившегося с Дольче», черт их дери, футболка «рвани за родину»: их не было.


