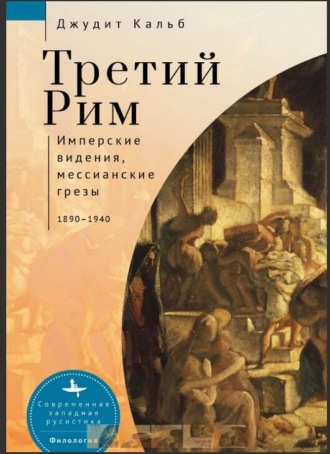
Джудит Кальб
Третий Рим. Имперские видения, мессианские грезы, 1890–1940
«Юлиан Отступник»: Древний Рим и современная Россия
Однако вернемся на Олимп. С некоторых пор все обитатели Олимпа гонятся за мной по пятам, доставляя мне немалые мучения. Боги валятся мне на голову, точно черепица с крыши.
Шарль Бодлер. Школа язычников
В первом романе трилогии «Гибель Богов: Юлиан Отступник» Мережковский аллегорически утверждает наличие связи между современностью и Римской империей IV века, где новая христианская религия возобладала над умирающей верой в языческих богов[103]. Он рассказал историю римского императора Юлиана, правившего с 361 по 363 год н. э. Юлиан пришел к власти вскоре после Константина Великого, первого христианского императора Рима, который основал Константинополь как новую столицу империи, потеснившую Рим; он также способствовал укреплению христианства в качестве основной религии в государстве. Несмотря на краткий период правления, Юлиан занял прочное место в истории и литературе благодаря провалившейся попытке остановить распространение христианства и вновь вернуть веру в богов греко-римского пантеона[104]. Мережковский изобразил Юлиана как страстного приверженца красоты, которую он видит в эллинистической Греции, и власти, заключенной в троне Римской империи, царящее же в государстве христианство по большей части отображено весьма критически. И все же Юлиан Мережковского на самом деле жаждет обрести Христа, и этот его конфликт пронизывает весь текст. Задача признать необходимость синтеза Христа и Антихриста, христианства и язычества, ложится на плечи персонажей-художников – скульптора Арсиноя и писателя-историка Аммиана Марцеллина, друзей императора, которые предсказывают такой синтез в будущем[105].
Выбор Мережковским Римской империи IV века, периода, когда происходил переход власти от Запада к Востоку, как места действия и Юлиана Отступника как героя, потерпевшего неудачу, значимы. Таким образом автор связал географическое смещение столицы с победой христианства над многобожием, ассоциируя язычество с Западной Европой, а новую торжествующую христианскую веру – с восточной частью империи. Кроме того, изображая translatio imperii от Рима к Константинополю, Мережковский подспудно поднимает тему происходящего в его стране, тему конечной цели сценария Третьего Рима, выстроенного Россией. На самом деле Юлиан олицетворяет прозападных русских интеллектуалов конца века, включая самого Мережковского, разрывавшихся между преданностью западным идеям и своим желанием, часто неосознанным, ощутить христианскую духовность русского народа[106]. Мережковский объяснил в своем сборнике 1893 года «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»: «Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить» [Мережковский 1914, 17: 212]. Полное мучений существование Юлиана отражало крайне подавленное состояние духа соотечественников Мережковского, о котором он горюет. Друзья императора, творцы-провидцы, показали, как избегнуть такой участи: через принятие равных по значимости «двух правд» Мережковского – христианства и язычества. Таким путем Россия, представленная интеллигенцией, связанной наконец-то с христианскими корнями, могла преодолеть духовный застой и реализовать свой потенциал мирового лидера и объединителя – вариант Третьего Рима в понимании Мережковского.
В «Юлиане Отступнике» Мережковский изобразил IV век как эпоху сосуществования старых и новых богов. В первой сцене романа описывается источник, ранее посвященный Кастору и Поллуксу, а теперь – Косме и Дамиану. Няня Юлиана одновременно колдунья и христианка, а хозяин таверны клянется одновременно и языческими, и христианскими богами. Несмотря на такое смешение, каждая вера имеет свои четкие характеристики. Юлиан и его друзья-язычники воспевают человеческий потенциал, свободу и красоту, которые они видят в искусстве, риторике, философии и литературе, и презирают христиан как «варваров», не способных ценить все вышеперечисленное (1: 62). Наперекор христианской доктрине Юлиан утверждает, что «побеждают сильные» (298). Он упивается поклонением солдат, провозгласивших его императором после того, как они послужили под его началом на западных границах империи, и радуется, когда солдаты сравнивают его с богом войны Марсом и Александром Великим. Тем временем молитвенное, тайное поклонение Юлиана-мальчика красивой статуе Афродиты в дальнейшем отражается в его влечении к Арсиное, которая сравнивается с богиней Артемидой. Являя собой суть язычества в представлении Мережковского, Арсиноя говорит Юлиану, что их пара олицетворяет красоту и силу соответственно.
На контрасте христианство у Мережковского изображено почти исключительно «историческим» образом и определяется в духе ницшеанской моды как «торжество слабых над сильными, рабов над господами» (259). Арианская христианская церковь, где Юлиана заставляют молиться в детстве, полна несчастных больных и калек, в страхе внимающих тому, как Юлиан читает апокалиптические предсказания из «Откровения»[107]. Христианские монахи в романе демонстрируют свою приверженность умерщвлению плоти. Кроме того, многие христиане, встречающиеся Юлиану, лицемерны и, несмотря на декларацию братской любви, высказывают оскорбительные замечания по доктринальным вопросам[108]. Христиане также ассоциируются с нетерпимостью, которая превращается в насилие или влечет его за собой: в детстве Юлиана наставляют, как клясться в верности Констанцию, сыну Константина и правящему императору, целуя крест со следами крови отца Юлиана, которого на пути к трону убил Констанций.
Несмотря на всепоглощающую неприязнь, с которой изображается в романе «историческое» христианство, автор, оглядываясь назад на пятнадцать веков развития христианства, однозначно заявляет о триумфе новой веры над старой. Попытки Юлиана возродить поклонение языческим богам сталкиваются с насмешками со стороны большинства подданных. Он организует вакхическую процессию и узнает, что женщины, играющие роль вакханок, на самом деле городские проститутки, а женщины из высшего общества, которые прежде исполняли бы роль вакханок, стали христианками. Большинство подданных Юлиана, исповедующих язычество, делают это несерьезно, только исходя из политической целесообразности. После кончины Юлиана они с готовностью возвращаются к христианству: тщетная попытка Юлиана повторить подвиг Александра Великого привела его к смерти. Фигура Ювентина, последнего сына древнего римского рода, отрекающегося от своего наследства, чтобы стать христианином, олицетворяет смерть старого, гордого Рима и силу новой христианской веры[109]. Друг Юлиана язычник Антонин объясняет, что дни их богов прошли: «Мы больные, слишком слабые» (61). Арсиноя с грустью говорит о «тлеющем трупе Эллады и Рима» (104), а языческий жрец, которого вскоре растерзает толпа христиан, стенает, что боги оставили землю[110].
На самом деле, сам Юлиан причастен к вытеснению гордого языческого прошлого христианством. До того как стать императором, он так старается притворяться преданным христианином, что даже вступает в группу молодых баламутов-христиан и разрушает вместе с ними языческий храм. Юлиан своими руками разбивает статую богини Дианы и помогает изуродовать ее лицо. Данный эпизод свидетельствует не только о таких малопривлекательных качествах, как страх Юлиана перед Константином и его умение притворяться, но также и о противоречивых взглядах самого императора-«отступника». С одной стороны, исполненный языческого рвения, он объявляет себя антихристом и превозносит добродетели языческих богов. Юлиан Мережковского намеренно демонстрирует в своем поведении жестокость, свойственную самым безжалостным олимпийцам, насилуя свою христианскую жену и выгоняя из дома престарелую пару христиан, чтоб устроить в их жилище языческий храм. В то же время он не жалеет подаяния беднякам, пусть и во славу языческой богини земли Кибелы, и приказывает закрыть кровавые римские цирки. Самое поразительное в том, что, умирая, Юлиан сознается: он любил Христа всю свою жизнь, несмотря на то что боролся с его приверженцами. Здесь Мережковский отступает от предполагаемой исторической правды, присоединяясь к попыткам христианской традиции показать Юлиана христианином. Эта традиция, вероятно, была начата Феодоритом Кирским, написавшим почти через столетие после кончины императора, что его последними словами были: «Ты победил, галилеянин!»[111] Для Мережковского, стремящегося продемонстрировать, что его европейские соратники жаждали принять Христа, Юлиан, обращенный в христианство, был идеальным символом. Его Юлиан умер в растерянности, не понимая, что влекло его к «галилеянину», занимавшему его мысли вопреки его воле. Горячечный бред, предшествующий его кончине, отражает этот конфликт: «Что тебе до меня, Галилеянин? Любовь твоя – страшнее смерти. Бремя твое – тягчайшее бремя… Как я любил тебя, Пастырь Добрый, Тебя одного… Нет, нет! Пронзенные руки и ноги? Кровь? Тьма? Я хочу солнца, солнца!.. Зачем ты застилаешь солнце?» (332) Юлиан не осознает, что Пастырь Добрый его предсмертной горячки – это «неисторический», «истинный» Христос истоков веры. Юлиан сталкивался с «истинным» христианством ранее в романе, в сцене, посвященной его детству. В сумрачной арианской церкви, среди портретов замученных святых и таких же замученных грешников, Юлиан замечает изображение Христа самого раннего периода развития христианской веры:
А между тем, там, внизу, в полумраке, где теплилась одна лишь лампада, виднелся мраморный барельеф на гробнице первых времен христианства. Там были изваяны маленькие нежные нереиды, пантеры, веселые тритоны; и рядом – Моисей, Иона с китом, Орфей, укрощающий звуками лиры хищных зверей, ветка оливы, голубь и рыба – простодушные символы детской веры; среди них – Пастырь Добрый, несущий овцу на плечах, заблудшую и найденную овцу – душу грешника. Он был радостен и прост, этот босоногий юноша с лицом безбородым, смиренным и кротким, как лица бедных поселян; у него была улыбка тихого веселия. Юлиану казалось, что никто уже не знает и не видит Доброго Пастыря; и с этим маленьким изображением иных времен для него был связан какой-то далекий, детский сон, который иногда хотел он вспомнить и не мог (26).
Это изображение жизнерадостного христианства, принимающего красоту языческих богов, можно найти также в рисунках христианского монаха, изображающего языческих речных богов рядом с Иоанном Крестителем. В сценах, которые Мережковский посвятил христианской вере сестры Арсинои Мирры, он продемонстрировал идеальную форму христианства. Мирра и ее собратья по вере не арианцы, поэтому они вынуждены молиться под землей в катакомбах, скрываясь от властей. Их христианство – религия вечной жизни, которая противопоставляется болезненности изображаемого Мережковским «исторического» христианства, а их традиции, такие, как «лобзание мира», напоминают о первых днях новой веры. Мирра, отражающая его видение ранних, не несущих вражды и разъединения дней христианства, умирает, но ее сестра Арсиноя, вдохновленная ее примером, пытается найти свою форму христианской веры. Являясь одним из самых неутомимых искателей в романе Мережковского, Арсиноя присоединяется к религиозной общине, но позже покидает ее, возвращаясь к своей работе скульптора, и ей удается объединить в своих работах «истинное» христианство с языческой силой и любовью человека к себе.
Арсиноя пытается разделить свое новоприобретенное знание с Юлианом, но ненависть последнего к «историческому» христианству застилает от него образ «истинного» христианства. Она старается убедить его в том, что Христос «любил детей, и свободу, и веселие пиршеств, и белые лилии» (324)[112]. Она объясняет Юлиану, что христиане, отвергающие искусство и красоту плоти, на самом деле отступники от «истинной» христианской веры. По ее мнению, Юлиан не отступник, так как поклоняется «истинному» Христу вопреки собственной воле[113]. Сомневаясь в приверженности Юлиана язычеству, Арсиноя заявляет, что олимпийцы с презрением отнеслись бы к его благотворительной деятельности. «Кровь и страдания людей – нектар и амброзия богов», – утверждает она (242). И добавляет, что, несмотря на временами проявляемую им жестокость, у него не хватило бы смелости вести по-настоящему языческий образ жизни. Языческий наставник Юлиана Максим вторит этому мнению, заявляя Юлиану, что Эллада, которую тот обожает, на самом деле никогда не существовала.
Мережковский заканчивает свой роман рассуждениями о скульптуре, созданной Арсиноей после смерти Юлиана: она воплощает в себе «две правды» – Христа и Антихриста, так сильно мучивших ее друга. Этот образ, по ее словам, «должен быть неумолим и страшен как Митра-Дионис в славе и силе своей, милосерд и кроток как Иисус Галилеянин» (349). Арсиноя и ее спутник Аммиан Марцеллин, оценивший ее искусство, таким образом достигают уникального видения, которое лишь смутно ощущал Юлиан. Юлиан предстает как предвестник новой эры, объединяющей воюющие силы, которые ему не удалось примирить. «Юлиан Отступник» заканчивается смешением звучания тростниковой флейты, поющей песню богу Пану, и гимнов христианских монахов, пока сердца Арсинои и ее друзей предсказывают наступление эпохи Возрождения. Мережковский отдает другому художнику – Леонардо да Винчи – задачу распространить слово о единстве Христа и Антихриста если не в его собственной стране, то в России.
Важно, что последняя сцена романа происходит в Италии, в западной части империи. Это создает переход к следующей части трилогии, в которой многие события происходят в Италии эпохи Возрождения, где Мережковский надеялся найти пример идеального синтеза двух начал. Этот момент также играет роль для географии романа в целом: несмотря на двоеверие, типичное для IV века, для Мережковского Западная империя в принципе ассоциируется с язычеством, а Восточная – с христианством. Точнее, Запад, находящийся под влиянием Рима и его истории, является средоточием власти, человеческих амбиций и потенциала. Юлиан, который на Востоке был слабым, тщедушным учеником и изображал преданность христианской вере, по приказу Констанция отправляется на запад, в Милан, и становится властным цезарем. Он перемещается дальше вглубь Западной Римской империи, в северные провинции, и становится успешным воином, каждый день увеличивая свою физическую мощь благодаря военной подготовке и дисциплине. Во время решающего сражения, после молчаливой молитвы Юлиана олимпийским богам, лучшие и самые опытные солдаты Юлиана кричат: «За Рим!» – и ведут армию к победе во имя Вечного города (150). Константинополь не звучит в их боевых призывах.
В то же время умирает Юлиан в восточной половине империи, где его прославленное военное могущество дает сбой. Его военная кампания против Персии обречена на провал и наглядно демонстрирует, что, несмотря на былые победы, век могучих языческих воинов-римлян пришел к упадку.
Ибо, последовав призыву Константина править на христианском Востоке, Юлиан тем самым признал потерю статуса Рима, прежней столицы империи, и обрек на провал провозглашаемую им антихристианскую политику. И это перекликается с моментом, когда Юлиан навлек на себя гибель, поддавшись льстивым увещеваниям персидского шпиона, назвавшего императора «царем Востока и Запада» (314) и сравнивающего его с богом. Стремящийся стать человекобогом Юлиан под влиянием иллюзии, что «моя воля – как воля богов» (315), совершает катастрофический шаг и сжигает собственные корабли. Родившись в христианскую эпоху, Юлиан должен в конце концов осознать, что его планы, военные и религиозные, не смогут успешно реализоваться. Появление Христа неизбежно.
Конфликт чувств Юлиана созвучен с тем, как Мережковский видит самого себя и своих русских современников, стремящихся к европейскому индивидуализму, свободе, философии и искусству и в то же время вынужденных признать свою потребность в Боге [Stammler 1966: 194–195][114]. Мережковский надеялся, что, учась на примере четвертого века, его соратники-интеллектуалы смогут пойти по стопам художников из «Юлиана Отступника» и создать объединение, о котором он грезил. Он начал работать над романом в 1892 году, вскоре после того, как создал сборник «Символы», вышедший в 1892 года[115]. Сравнение идей, выраженных в романе «Юлиан Отступник», с теми, что встречаются в поэзии Мережковского, в сочетании с другими концепциями данного периода помогают установить связи, которые он видел между веком Юлиана и современностью.
В «Символах» Мережковский противопоставляет Европу, представленную современным Парижем и Древним Римом, и Россию. В серии стихотворений «Конец века. Очерки современного Парижа» он описывал Париж, населенный представителями «нового искусства», которые стремятся к «красоте» и «истине», и разные религиозные, политические и творческие группы, включая «безбожников», объединяются в поисках открытий (23: 257). Париж сравнивается с солнцем, объектом языческого преклонения Юлиана в романе Мережковского. Автор также постоянно связывает его с идеей свободы (23: 253, 257). Мережковский разъясняет взаимосвязь между современным Парижем и Древним Римом, называя Париж «новым Римом» в первых строках того же цикла (23:253). А в стихотворениях, посвященных Риму, он ассоциирует Рим со свободой, человеческим потенциалом и безбожием или язычеством. Например, в стихотворении «Пантеон», посвященном прославленному языческому храму Рима, превращенному в христианскую церковь, он упоминает языческих богов Рима (23:159). А в стихотворении «Рим», написанном в 1891 году, он спрашивает: «Кто тебя создал, о Рим? Гений народной свободы!» И заканчивает стихотворение характеристикой духа Рима: «Равен богам человек!» (23: 159).
С учетом параллелей, которые Мережковский проводил в своей поэзии между Древним Римом, с его языческими характеристиками, и современным европейским обществом, можно сделать вывод, что схожее отображение римского язычества в «Юлиане Отступнике» равным образом показывает взгляды автора на Европу конца века: как царство свободы, красоты и торжество человеческого начала. Однако в Западном Риме четвертого века и в современной Европе отсутствует твердая приверженность Христу. Как написал Мережковский в «Конце века», европейцы забыли Бога. В «Пантеоне» он сравнивает олимпийцев с вытеснившим их «неведомым Богом», распятым, пронзенным гвоздями, в терновой короне. Языческие боги олицетворяют в стихотворении земную красоту, а Христос – небесную любовь и страдание. Перекликаясь с предсмертным смятением Юлиана, лирическое «я» Мережковского признает собственное замешательство от необходимости выбора:
Вот Он, распятый, пронзенный гвоздями, в короне терновой…
Это мой Бог!.. Перед ним я невольно склоняю колени…
Верю в тебя, о Господь, дай мне отречься от жизни,
Дай мне во имя любви вместе с Тобой умереть!..
Я оглянулся назад: солнце, открытое небо…
Льется из купола свет в древний языческий храм…
Сладок нам солнечный свет, жизнь – драгоценнейший дар!..
Где же ты, истина?.. В смерти, небесной любви и страданьях?
Или, о тени богов, в вашей земной красоте?
(23: 159)
И снова язычество ассоциируется с солнцем и красотой, а Христос представляет собой совершенно противоположное начало, которому поэт привержен вопреки себе[116].
В стихотворениях христианское начало связано с Россией – страной, о которой Юлиан в IV веке знать ничего не мог, но которой поэт провозглашает свою преданность, несмотря на всю свою увлеченность Европой. «Нет, не может об отчизне сердце позабыть», – пишет он в стихотворении «Возвращение» (23: 172). А в «Волнах» соединяет Россию с Богом, написав: «И родину, и Бога я люблю!» (23: 157). В финальных строчках «Конца века» он воспевает Россию, отмечая особо красоту ее природы и стихи Пушкина. «Что б ни было, о Русь, в тебя я верю!» – заявляет он (23:265). Гоголь пишет о России в Риме, а Мережковский создает эти строки в Париже в 1891 году, он отмечает место их написания в конце стихотворения. Но словом «верю» он связывает веру с Россией, а не с Европой.
Европа, в которой отсутствует твердая вера в Христа, висит, по мнению Мережковского, над пропастью и обречена на уничтожение. Руины Рима напоминают о крушении могущественных империй, утративших свою веру. Мережковский ссылается в своих стихотворениях на некогда великий Колизей как на фрагмент павшей империи, предсказывая, что «наши гордые столицы» окажутся в столь же жалком положении (52). Позже в эссе 1891 года Мережковский связал атмосферу Древнего Рима и современную Европу, утверждая, что оба мира были обречены на гибель и наполнены ощущением приближающейся катастрофы, а за внешним благополучием скрывалась внутренняя тревога (17: 27–28)[117]. И в своей поэзии Мережковский ассоциирует прозападных русских с угрозой такого плачевного будущего. Используя местоимение множественного числа «мы» в последней части цикла «Петербургская поэма», в последней строфе он цитирует на латыни традиционную фразу, которую произносили гладиаторы перед боем: «Salutant, Caesar Imperator, \ Те morituri!»[118]. Ведь для России, в которой ускоренными темпами проходила индустриализация и которая была охвачена революционными настроениями и идеями марксизма, существовала угроза превращения капитала в новое божество, вытесняющее Христа и несущее вред России (23: 185)[119].
И хотя европейские и европеизированные интеллектуалы не придерживаются христианской веры, предпочитая очарование языческого Запада, на деле они не являются настоящими язычниками, как показал Мережковский, изображая собственную болезненную тягу к Христу в стихотворении «Пантеон». Воскрешая в памяти характеристику Юлиана, данную Арсиноей, Мережковский признает в «Конце века», что европейцы его времени в действительности не совсем язычники в сравнении с древними римлянами, любившими кровь и жестокость амфитеатров. «Мы не язычники, давно смягчились нравы», – признает он, включая самого себя в эту характеристику путем использования местоимения «мы» (260)[120]. Следствием этого становится призыв Мережковского в стихотворении «Будущий Рим» к новой вере и новому Риму, призванному объединить мир. Эта вера заключает в себе и Христа, и Афродиту, к которым поэт, подобно Юлиану, взывает с мольбой в «Символах»[121].
Поскольку язычество в чистом виде более не может существовать, христианство, полностью лишенное языческих черт, также должно быть отвергнуто. Обращаясь к изображению в «Юлиане Отступнике» арианского христианства периода Константина, с присущим ему отрицанием искусства, человеческого потенциала и красоты, которое поддерживалось государством, а также акцентом на страдании и самопожертвовании, можно увидеть прямую связь с современной Мережковскому Россией. Русская православная церковь того времени характеризовалась на протяжении веков недостаточным знанием религиозной доктрины, стойким недоверием к образованию, а также подчинением репрессивной государственной власти [Pipes 1974:222][122]. К концу XIX века официальная Русская православная церковь растеряла последователей как среди народа, так и среди образованного населения. Староверы, сектанты и другие инакомыслящие исчислялись миллионами, а образованные граждане зачастую отвергали религию или искали варианты веры в современной западноевропейской светской системе ценностей или, напротив, в духовных и мистических исканиях, свойственных Европе и России конца века. Когда православное духовенство осознало, что стремление к искусству проникает даже в крестьянское сословие, а деревенские жители с удовольствием смотрят театральные представления, священники стали угрожать своей пастве отлучением, как разъясняет один отчет того времени, описывающий 1880-е и 1890-е годы:
Во время репетиций и представлений священник, пользующийся тем, что его дом через дорогу от театра, сидел на скамейке у своего жилища или стоял на тропинке и отлучал от церкви всех актеров и зрителей; он угрожал им адскими муками… он называл театр греховным, дьявольским развлечением[123].
Церковь порой подвергала отлучению и представителей культурной элиты России; пример тому – Лев Толстой. Непримиримое отношение к культуре и интеллекту со стороны православной церкви времен Мережковского отразилось в невежественных, направленных против искусства высказываниях «исторических» христиан в «Юлиане Отступнике», породивших определение «варвар», данное христианам язычниками. Тема крестового похода христианства против искусства звучит и в двух других романах трилогии.
Мережковский, страстно приверженный как русской, так и западноевропейской культурной традиции и искавший форму христианства, которая вобрала бы в себя последнюю, глубоко разочаровался в Русской православной церкви. При этом он предположил в «Юлиане Отступнике», что может существовать альтернативное русское христианство, базирующееся не на доктринах официальной церкви, а на более простой вере русского народа. Как уже отмечалось, главный образчик народного христианства в романе – сестра Арсинои, отправлявшая обряды так, как это делали первые христиане, что противоречило официальной, санкционированной государством церкви тех времен. Имя Мирра, выбранное для нее Мережковским, который прежде придерживался народнических взглядов, имеет важное значение: оно напоминает русское слово «мир», деревенскую крестьянскую общину, воспеваемую в середине XIX века славянофилами. Вера, берущая свои истоки в русском народе, по его мнению, является более истинной формой христианства, чем та, что характерна для официальной русской церкви. В статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Мережковский написал, что христианская вера, отраженная в работах Достоевского и Толстого, была сильна именно потому, что проистекала из народа. Это был более подходящий вариант веры, который должен был войти в Западную Европу, соединившись с ней и научившись у нее, чтобы создать поистине новую, синтетическую религию, которая объединит правду Востока и Запада. «А только движение, исходящее из самого сердца народа, может сделать литературу поистине национальной и в то же время всечеловеческой», – заявлял Мережковский [Мережковский 1914, 18: 229]. Его слова перекликаются с Пушкинской речью Достоевского 1880 года, где утверждалось, что Россия имеет уникальную способность вбирать в себя характеристики других наций. Поскольку слово «мир» обозначает также общность людей и всю землю, такой собирательный смысл можно считать универсальным, в особенности с учетом того, что в обратном порядке это слово читается как Рим – символ мирового единения для Мережковского[124].
Итак, в соответствии с замыслом Мережковского христианская вера русского народа была значимым элементом в поиске Россией пути превращения в объединяющий других Третий Рим. Но эта вера сама по себе не могла привести к желаемому результату. Он утверждал, что русскому христианству надо проникнуть в Европу, в первую очередь через искусство. Статуя Арсинои, объединяющая Христа и Диониса, предвещает появление искусства конца XIX века, искусства символистов. «В искусстве наших дней ты побеждаешь снова, о Галилеянин…» – заявляет Мережковский в «Конце века» всего через несколько строк после признания роли Венеры в культурном возрождении того времени (23:258)[125]. Таким образом он подчеркивал важность прозападных художников российского общества в процессе создания нового бытия для России и Европы. Призывая этих художников создавать объединяющую мир культуру на христианской основе, воспринятой у народа, Мережковский определял концепцию Третьего Рима так: культурное и священное пространство, где Восток, Запад и все, что они олицетворяли, могло соединиться в могущественный союз.
Бурные дискуссии, вызванные публикацией «Юлиана Отступника», свидетельствуют, что современные автору читатели признавали связи между Юлианом и собственным временем. Как отмечал Святополк-Мирский, Мережковский оживил прошлое для русских, а Рим IV века пролил свет на вопросы, с которыми столкнулась современная Россия. В «Леонардо да Винчи» Мережковский эксплицитно воскрешает тему Третьего Рима, развивая идею, на которую намекает в первом романе. В дальнейшем он разовьет темы, связанные с Россией, обозначенные в «Юлиане Отступнике», на этот раз открыто заявляя, что задача объединения мира возложена на Россию.


