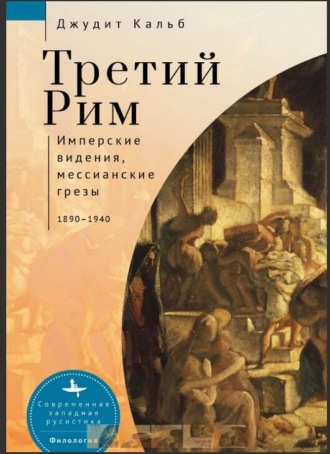
Джудит Кальб
Третий Рим. Имперские видения, мессианские грезы, 1890–1940
Алексу, Элоизе и моим родителям
Judith E. Kalb
Russia’s Rome
Imperial Visions, Messianic Dreams, 1890-1940
The University of Wisconsin Press
2008
Перевод с английского Елены Шинкаревой
Publishers edition of Russia’s Rome by Judith E. Kalb is published by arrangement with the University of Wisconsin Press.
© 2008 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System. All rights reserved.

© Judith Kalb, text, 2008
© E. Шинкарева, перевод с английского, 2021 © Academic Studies Press, 2022
© Оформление и макет, ООО «Библиороссика», 2022
Слова благодарности
Когда я размышляю об истоках и эволюции создания книги «Третий Рим», мне вспоминается карикатура в журнале «Нью-Йоркер» от 24 апреля 2006 года, где отчаявшийся римлянин в тоге говорит другому римлянину: «Мой подрядчик заверил меня, что на Рим хватит одного дня». Основания моей версии города были заложены в диссертации, написанной в Стэнфордском университете (1996) при поддержке факультета славянских языков и литератур Стэнфордского университета, гранта от общества «Фи Бета Каппа» в Северной Калифорнии и Образовательного стипендиального фонда Американской ассоциации женщин с университетским образованием. Когда я работала над проектом, приводя его в нынешний вид, мне повезло получить финансирование от Фонда русских исследований Дэвиса при Колледже Уэллсли, Института Кеннана при Международном центре Вудро Вильсона и Колледжа искусств и наук при Университете Южной Каролины. Я благодарна сотрудникам Европейского читального зала Библиотеки Конгресса, Российской государственной библиотеке Москвы, Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Межбиблиотечному абонементу Библиотеки Томаса Купера в Университете Южной Каролины за неоценимую помощь.
Я бы хотела поблагодарить Стива Салемсона за то, что он предложил этот проект издательству Университета Висконсина, а также Гвен Уолкер и Шейлу Мермонд за помощь с публикацией. Также выражаю благодарность Джейн Барри за тщательное редактирование текста.
Я глубоко признательна Аврил Пайман и Михаилу Вахтелю, читавшим рукопись по просьбе издательства Университета Висконсин. Их детальные, проницательные и информативные комментарии вдохновляли меня и значительно улучшили окончательный вариант книги. Я бы также хотела поблагодарить и других людей, которые читали, комментировали или обсуждали различные аспекты моей работы. Среди них Стивен Баэр, Питер Барта, Николай Богомолов, Кэрил Эмерсон, Лазарь Флейшман, Джон Малмстад, Ирен Масинг-Делич, Пол Аллен Миллер, Стэнли Рабинович, Пол Робинсон, Дэвид Слоун и Эндрю Вахтель. Моего научного руководителя во время учебы в университете Принстона Эллен Чансез, которая увлекла меня изучением русской литературы и всегда отзывалась на мои творческие попытки с присущим ей умом, воодушевлением и интересом. Григория Фрейдина – научного консультанта моей диссертации в Стэнфорде, который неизменно поражает и вдохновляет меня своей бесконечной преданностью масштабным и амбициозным идеям и исследованиям. Выдающегося Михаила Леоновича Гаспарова, ныне покойного, который оказал мне честь в период создания книги, уделив внимание изучению ряда черновиков, поддерживая меня и щедро делясь знаниями.
Благодарю Яну Яхнину из Москвы, а также Марианну и Сергея Ланда, Юну Яновну Зек из Санкт-Петербурга за теплое гостеприимство и оживленные плодотворные беседы. Моих бывших студентов – Жанну Хаггард, Александра Дейнеку, Андре Рэмберта и Сару Сейлор – за безупречное содействие.
Моих родителей Мэдлен Кальб и Марвина Кальба, а также мою сестру Дебору Кальб, которые привили мне любовь к книгам и крепкое уважение к искусно созданному письменному тексту. Они внесли неоценимый вклад в этот проект, и я бесконечно им благодарна. Также выражаю сердечную признательность моему дорогому мужу и коллеге – слависту Александру Огдену, который оказывал мне постоянную моральную и интеллектуальную поддержку.
Я бы хотела выразить свою благодарность людям и учреждениям, которые сделали возможным русское издание моей книги.
Я признательна Программе завершения работы над рукописями Колледжа искусств и наук Университета Южной Каролины за финансовую поддержку. Особое спасибо моему талантливому переводчику Елене Шинкаревой и моим прекрасным редакторам Ирине Знаешевой и редактору по правам Ксении Тверьянович. Я хочу поблагодарить за помощь моих замечательных аспирантов Любовь Карташову и Дарью Смирнову. Наконец, я глубоко благодарна нашей дочери Элоизе Роуз Кальб Огден за ее постоянную и любящую поддержку, когда я завершала этот проект.
Части главы 1 прежде издавались в статье «Merezhkovskiis Third Rome: Imperial Visions and Christian Dreams», вышедшей в 2001 году в журнале «Ab imperio» (№ 1–2. С. 125–140). Глава 3 появилась в 2000 году в более ранней версии «А Roman Bolshevik: Alexander Bloks Catiline and the Russian Revolution» в «The Slavic and East European Journal» (Vol. 44. № 3. P. 413–428). Глава 4 с незначительными изменениями была опубликована в 2003 году под названием «Lodestars on the Via Appia: Viacheslav Ivanov s ‘Roman Sonnets’ in Context» в «Die Welt der Slaven» (B. 48. S. 23–52). Ранний вариант главы 5 был опубликован еще в 1993 году в «Soviet and Post Soviet Review» (Vol. 20. № 1. P. 35–49). Я благодарю редакции этих журналов за возможность переиздать материал. Благодарность за разрешения на иллюстрации выражаю компании Scala ⁄ Art Resource (Леонардо да Винчи, «Иоанн Креститель», Чезаре Маккари, Цицерон; Карл Брюллов «Последний день Помпеи») и попечителям Британского музея (икона Святого Иоанна Крестителя, 1450).
Введение
Зависть к Риму
Дороги к Риму
И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет.
Н. В. Гоголь. Письмо М. П. Балабиной, 1838[1]
Недалеко от Колизея, в самом сердце Рима, возвышается базилика Сан-Клименте, названная в честь папы римского Климента, умершего примерно в 100 году н. э. Базилика датируется XII веком и расположена на руинах христианской церкви IV века, которая в свою очередь покоится на святилище I века, посвященном языческому богу Митре. Митреум возведен над другим уровнем, образованным стенами дохристианского периода, датировка которых восходит к эпохе Римской республики, предшествовавшей началу Римской империи. Поразительно, что на уровне IV века этого архитектурного палимпсеста с изложением римской истории находится гробница святых Кирилла и Мефодия, которым доверили создание первого славянского алфавита и распространение слова христианского Евангелия славянам. Там же видны памятные доски с благодарностью и настенные росписи, сделанные различными славянскими народами – русскими, словаками, болгарами, хорватами и прочими. Русская изображает Мефодия слева, в сопровождении первых слов Евангелия от Иоанна («В начале было Слово…»), а Кирилла – справа, с кириллическим алфавитом в руках. Перед этим свидетельством торжества русской религии и грамотности висит лампада. Объяснение данного неожиданного с географической точки зрения явления таково: кости святого Кирилла были захоронены его братом Мефодием в церкви IV века «справа от алтаря Св. Климента»[2].
Как посланники, несшие слово Божье славянам, оказались в Риме и как эта история связана с трудами группы русских авторов-модернистов, посвященными Риму, созданными в последние годы XIX и первые десятилетия XX века? Ответ на первый вопрос относительно ясен. Согласно легенде, в царствование римского императора Траяна (98-117 гг. н. э.) Климент был отправлен в изгнание в Крым для работы на местных каменоломнях. Несмотря на все превратности судьбы, он продолжил исповедовать христианские заветы, и тогда представители местной власти, противники христианства, привязали его к якорю и кинули в Черное море – фрески на стене базилики Сан-Клименте изображают эту легенду. Много веков спустя братья Кирилл и Мефодий проповедовали в Крыму. Предположительно в 861 году Кирилл обнаружил фрагменты тела Климента, а также знаменитый якорь на острове возле Херсонеса. После реконструкции тело с большими почестями было привезено в Сан-Клименте. Через год Кирилл умер, и папа разрешил захоронить его кости рядом с телом святого, которого он вернул в Рим [Boyle 1989: 5, 8][3].
Ответ на второй вопрос сложнее и составляет предмет моей книги. Русский вклад в создание базилики Сан-Клименте заявляет права на римское наследие, иными словами – на наследие, именуемое западной цивилизацией. Русское присутствие в сооружении, объединившем в себе наиболее яркие черты римской истории и культуры – от республиканских свобод до эпохи империи, от язычества до христианства, – подтверждает связь с русской историей на всех этапах и, что, вероятно, еще важнее, делает очевидным желание России получить признание, что сама эта связь существует. (Можно сказать, что статуя Александра Пушкина, полученная в подарок от российского правительства и установленная на знаменитой вилле Боргезе в Риме в 2000 году, является частью этой самой традиции (рис. 1).)

Рис. 1. Статуя русского поэта Александра Пушкина, установленная в садах виллы Боргезе в Риме в 2000 году. Подарок правительства Москвы Риму
В действительности русские претендовали на римское происхождение веками, начиная с историй о мифическом брате римского императора Августа Прусе, который, предположительно, был прародителем Рюрика[4], и заканчивая доктриной «Москва – Третий Рим». Хотя такого рода попытки обнаружить отзвук римского прошлого (Romanitas) в национальной истории присущи и другим странам, Россия в этом вопросе в какой-то степени уникальна. В отличие от других претендующих на римскость Россия никогда не была частью Римской империи и не входила в состав пришедшего ей на смену католического мира с преобладающей в нем латынью, который позже, в XIX веке, прославлял русский мыслитель Петр Яковлевич Чаадаев как образец объединения культур – в противоположность России. Однако на Россию оказала культурное и религиозное влияние та половина Римской империи, о которой западный мир склонен забывать: Византия, со столицей в Константинополе, провозглашенная Новым Римом в 330 году н. э. первым христианским императором Рима Константином. Византия подарила России православное христианство и, благодаря миссионерам Кириллу и Мефодию, исполненную веры славянскую речь.
«Первый», западный Рим преимущественно воплощал светскую власть и власть императора для различных русских правителей и их подданных, тогда как «второй», восточный Рим, будучи преемником светской власти западного, в то же время мог выступать как символ религиозного благочестия[5]. Константинополь, таким образом, снабдил Россию альтернативной моделью Рима, делавшей упор на чудеса веры: все-таки именно здесь, на Востоке, изуродованное тело Климента воскресил вдохновленный Богом миссионер. Многие поколения русских претендовали на имперское наследие Рима и в то же время опирались на религиозный статус Византии, утверждая временами, как в случае доктрины Третьего Рима, свою уникальную способность объединить опыт и превзойти обоих предшественников. В процессе они сконструировали сложный миф о русском – или, как позже назовет его Марина Цветаева, скифском – Риме[6]. Русская табличка в Сан-Клименте воплощает эту замысловатую схему: она заявляет о русском вкладе в римскую историю, позволяя России приобщиться к римской культуре и императорской власти и в то же время парадоксально подчеркивая русскую духовность. И именно этот процесс – процесс идентификации с Римом, его отвержения, состязания с ним и грез о нем – описали и воплотили русские модернисты, посвятившие ему часть своего творчества.
В этом первом объемном исследовании произведений русских модернистов, писавших о Древнем Риме, я анализирую так или иначе связанные с Римом тексты пяти авторов: Дмитрия Мережковского, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина и Михаила Булгакова. Такой выбор авторов обусловлен намерением охватить разные жанры: роман, эссе, лирику и пьесы, – а также рассмотреть длительный период времени от истоков символистского направления начала 1890-х годов к революциям начала XX века и до сталинских чисток 1930-х. Я пытаюсь таким образом продемонстрировать, что непреходящая власть Рима остается мощным символом для русских писателей-модернистов, несмотря на разницу жанров и радикальные изменения исторических обстоятельств. Это не исследование, посвященное русским модернистам в Риме, их впечатлениям и воспоминаниям, хотя большинство авторов, о которых я говорю, посещали Рим, и я коснусь этого там, где это будет уместно в контексте моей аргументации[7]. Мой анализ в большей степени сосредоточен на том, как эти авторы использовали Рим в качестве инструмента мифотворчества, рассуждая о современной им России и создавая на римской основе идею русской национальной идентичности – не собственно предреволюционную или советскую, но плавно охватывающую оба периода. Используя многогранность символизма и связанную с Римом риторику, русские авторы-модернисты пытались интегрировать национальную историю России в архетипический западный нарратив и в то же время утвердить значимость роли восточного партнера, которым часто пренебрегают, в римской модели. Следуя концепции Фридриха Ницше, Владимир Соловьев и другие важные мыслители и авторы периода русского модернизма в своих работах, связанных с Римом, изображали будущее России через слияние с римским прошлым, трансформируя историю в вечный миф в новом символичном литературном пространстве России[8]. Русский художник считал себя центральной фигурой этого мифотворческого процесса, способной преодолеть временной (прошлое – настоящее) и пространственный (Восток – Запад) разрыв для создания своего собственного текстуально единого и вечного Третьего Рима. Перед тем как перейти к дальнейшему анализу, важно вернуться к истокам этих произведений – сперва к западным и русским идеям о Риме, которые их питали, также к предшествующим русским отсылкам к Риму, включая миф о Третьем Риме, – а затем обрисовать картину fin-de-siecle в Европе и России, которая вдохновляла этих авторов.
Притязания и наследие
Забавна и немного пугающа, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества.
И. Бродский. Путешествие в Стамбул[9]
В начале III века н. э. привыкший к космополитизму культур имперского Рима ученый высказал следующее мнение: «Во… всех странах региона Северного Понта [Черного моря]… нет скульпторов, художников, парфюмеров, ростовщиков и поэтов»[10]. Такой взгляд на страны за Черным морем как на нецивилизованные и в целом варварские был распространен долгое время: в мире греческой мифологии, к примеру, волшебница Медея из Колхиды (Западная Грузия) названа варваркой. Такой же взгляд разделяли многие жители обширной Римской империи: для римского поэта Овидия в 8 году I века н. э. ссылка в румынский город Томы (ныне Констанца) на ближнем побережье Черного моря стала причиной горьких стенаний, нашедших отражение в произведении «Скорби» (рис. 2)[11].

Рис. 2. Статуя римского поэта Овидия в Констанце, Румыния, прежде город Томы
Много веков спустя, после 550 года н. э., когда Римская империя уж давно была разорена нашествием германских племен, другие племена варваров, на этот раз славяне, наконец добрались в Грецию, проделав путь через Балканы. Области, занятые этими славянскими племенами, стали известны как «территории, лишенные государственности, чье население не платило налоги и не поставляло солдат императору», – территории, «обозначавшие конец имперского порядка»[12]. В IX веке, больше чем на тысячу лет позже, чем Платон записал свои диалоги с Сократом, и почти тысячелетие спустя после знаменитых выступлений Цицерона на Римском форуме, моравский принц Ростислав призвал помощь – пришедшую в лице Кирилла и Мефодия – для создания славянского алфавита и литургии на славянских языках. Киевская Русь присоединилась к христианскому миру веком позже, а спустя еще девятьсот лет величайшие романисты России XIX столетия все еще могли восприниматься как варвары западноевропейцами, которые часто отвергали саму мысль, что Россия относится к культурно развитым странам[13]. Россия пропустила не только период Ренессанса – она пропустила также классический период, обеспечивший Западной Европе значительную часть ее культурного наследия.
Изложенное выше – это типично западный нарратив, умаляющий или даже полностью отрицающий значимость восточной половины Римской империи и, следовательно, ее влияния на славянский мир. Это версия, рассказываемая западным «центром» мира о его восточной «периферии»[14]. В силу этого в ней игнорируются осложняющие факторы, включая древнегреческие торговые колонии на побережьях Черного моря, увековеченные римлянами, а также еще более значимые связи, установившиеся между Киевской Русью и Византийской империей в X и XI веках[15]. В глазах западного человека концепция Рима по преимуществу западная концепция. Рим символизируют Форум, Сенат и Колизей, копии которых наводняют Европу и Соединенные Штаты (страну, ставшую еще одним преемником Рима)[16]. Рим отличают массивные здания и своды законов, Рим – это свобода республики и власть империи. С ним можно связать католицизм. Но нельзя связать восточное православие, иконы и восточных монархов. Их можно упоминать только в кратких ссылках и сносках.
Для русских восприятие Рима в корне иное. Рим связан для них со многими ассоциациями, понятными и для западного человека. И многие русские прозападного толка стремились отыскать эти ассоциации со своей нацией. Но, в отличие от Запада, русские не забывают о роли восточной половины империи. Эта половина подарила им алфавит и религию – качества, отличающие Россию от Запада[17].
И все же Константинополю предстояло стать, по сути, вторым Римом, и подразумевалось, что его основание рассматривалось сквозь призму его западного предшественника[18]. Раннее самоопределение Константинополя через Рим создало некую модель для оценки Россией собственного культурного «прогресса» в современный период в сравнении с западным, римским стандартом[19]. Согласно исследованиям Лии Гринфельд, жители претерпевшей трансформации империи Петра I отличались в этом отношении безотчетным воодушевлением, но позже появились менее безапелляционные оценки, в которых показывалось обескураживающее превосходство Запада [Гринфельд 2013: 224–228]. Русские стремились утвердиться через притязания на равенство, нередко преувеличенные. Истоки этих притязаний зачастую лежали в классическом мире, особенно в Риме. В 1766 году Михаил Чулков инициировал создание сборника русских сказок о древних славянских царствах, которые по силе были равны или даже превосходили Грецию и Рим. А Михаил Ломоносов написал о «равенстве» России и Рима, указав на «подобия в порядке деяний российских с римскими» [Ломоносов 1766: З][20]. В тот период европейцы не признавали Россию равной себе и таким образом отказывали русским в их причастности к политическому и культурному авторитету Рима. Гринфельд полагает, что результатом такого отвержения стало развитие в некоторых русских ресентимента, в терминологии Ницше, а также появление соответствующего нарратива, в котором Россия изображалась лучше и сильнее, чем предположительно образцовый Запад, в особенности в отношении возвышенной русской души, определяемой в противопоставлении прагматичности и упорядоченной рациональности Запада [Гринфельд 2013: 254–255][21]. Вера значила больше, чем строительство арок и акведуков. Юродивый по могуществу превосходил императора[22]. Федор Иванович Тютчев в стихотворении «Эти бедные селенья» (1855) пишет, что Христос избрал и благословил Россию из-за ее бедности. Эти слова можно трактовать как пример такого рода тенденции[23]. Обратной стороной письма Чаадаева, в котором он осуждает Россию за отсутствие связи с европейским наследием, является более поздняя «Апология сумасшедшего» (1837), где мыслитель, ранее критиковавший свое отечество, утверждает, что допетровская Россия была по сути «листом белой бумаги», что и сделало реформы Петра возможными, и предвидит способность России «завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество» [Чаадаев 1991: 534][24]. И то отсутствие связи, которое оплакивал Чаадаев, превратилось в новом изложении в спасение России и мира.
Это тесное смешение конкурирующих нарративов отражает в некотором смысле создание Римом мифа о себе, которое на раннем этапе породило действенную модель «периферии», ставшей «центром». Когда император Август заказал Вергилию написать эпическую поэму о Риме, тот сознательно опирался на «Илиаду» и «Одиссею» в качестве образцов: Вергилию нужен был культурный авторитет Греции для создания собственной словесной империи[25]. В своей «Энеиде» Вергилий рассказывает историю «благочестивого» Энея, выжившего при победоносном сокрушении Трои греками в конце Троянской войны. Эней берет статуи домашних богов и, посадив на плечи старика-отца, покидает горящий побежденный город, чтобы вопреки всем напастям добраться до Италии и основать там Римскую империю[26]. Вергилий заявил права на культурное наследие другой страны с тем, чтобы подкрепить римское прошлое героической историей и предсказать выдающееся будущее Рима. Тем самым он обеспечил писателей на века вперед воодушевляющим нарративом о шатком, но богатом культурными ценностями восточном государстве, превратившемся в «империю без конца»[27]. Хотя русские правители, в отличие от других, никогда открыто не заявляли претензий на троянские корни [Уортман 2002, 1: 47], история Энея, а также созданная Вергилием литературная модель строительства нации находила глубокий отклик у русских писателей-символистов на пороге XX века, так как они использовали миф и пример Вергилия для собственных произведений, в основе которых лежала национальная идея.
Таким образом, процесс самоидентификации России с Римом является одним из элементов сложной и долгой мифотворческой традиции, начатой самими римлянами и составленной из ряда нарративов, определений и выводов. Хотя Петр I был первым русским царем, внедрившим романизацию в широком масштабе в свои планы развития России как империи, этот процесс начали его предшественники. Ричард Уортман пишет, что еще в конце XV века русские монархи присваивали характерные римские черты в попытке притязать на статус западных правителей, делавших то же самое: «Россия обрела Рим через Европу, затем присвоила классические символы как указания на собственную западную природу» (там же)[28]. Затем XVIII век обеспечил благодатную почву для этих ранних всходов. Как Вергилий признавал авторитет Греции, так Петр I осознавал, что ради осуществления цели стать частью Европы необходим Рим. Петр приказал перевести с латыни на русский ряд классических произведений, в его правление также были созданы латинско-русско-немецкий и латинско-русско-голландский словари, а также латинская грамматика[29]. И, что более важно, Петр и его последователи использовали Рим для продвижения его имперских амбиций: ведь он возложил на себя римские титулы императора и отца Отечества, праздновал свои военные победы традиционными римскими триумфальными шествиями и поощрял положительные сравнения России и Рима. После основания Петербургской академии наук в 1724–1725 году в новой столице Петра, которая сама была создана по римской модели, русские ученые получили место и государственную поддержку, чтобы изучать Древний мир, и это стало началом новой впечатляющей традиции научных исследований в данной дисциплине [Фролов 1989: 58–60].
Екатерина II продолжила начатую Петром традицию романизации – процесс, символом которого стал Медный всадник, статуя Петра I, вдохновленная римским изображением императора Марка Аврелия, с посвящением на русском и на латыни. Она также поощряла писателей, таких как Михаил Херасков и Василий Майков, изображать Рим, могущественную империю, как модель расширяющей границы имперской России[30]. Как отмечает Стивен Л. Баэр, «былая слава Рима обозначала будущую славу России» [Baehr 1991: 50]. Имперские завоевания Екатерины, включая присоединение Крыма в 1783 году, совершались с оглядкой на Римскую империю. Овладение территорией, которая когда-то была частью Восточной Римской империи, могло рассматриваться как первый шаг на пути восстановления владычества православного Константинополя [King 2004: 140–147][31]. (Ее выбор имени Константин для одного из внуков тоже можно трактовать в этом ключе [Reyfman 2003: 64].) При Александре I Россия также присоединила часть Грузии. Эти новые владения стали существенным географическим подтверждением русских притязаний, ранее базировавшихся в основном на принятии Россией православия, и усилили связь с древним миром[32].
Русско-римские связи также выполнили свою функцию в менее приятном для императрицы и ее преемников ключе, когда Александр Радищев нелестным образом сравнил Россию с «более свободной» Римской республикой [Baehr 1978: 13]. В начале XIX века восхищение Римской республикой стало широко распространено среди приверженцев реформирования русского самодержавия [Baehr 1991: 161–162]. Декабристы, восставшие против существующего режима в 1825 году, вдохновлялись древними авторами, такими как Плутарх, Ливий и Цицерон, и в сибирской ссылке продолжали заявлять об их значимости. Наиболее важным для декабристов был Тацит, автор исторических трудов о Риме I века [Кнабе 2000: 132–133]. Тацит оказал серьезное влияние и на Александра Сергеевича Пушкина. Тот читал труды римского историка, работая над драмой «Борис Годунов» в 1825 году. Как отмечает Г. С. Кнабе, Пушкин заимствовал мифологические имена для своих литературных текстов из эллинской Античности, но, когда он писал о культуре или истории Древнего мира или отмечал их связь с Россией, он имел обыкновение опираться на римский материал[33].
В то же самое время русские знакомились с объектом своих сравнений. Советник Петра I Петр Андреевич Толстой, совершивший путешествие по Италии в последние годы XVII века[34], стоял особняком среди современников, но уже в первой половине XIX века многие крупные русские писатели и художники посещали Вечный город и даже жили там продолжительное время – например, Николай Васильевич Гоголь во время создания первого тома «Мертвых душ» (1842)[35]. Итальянские картины русских художников Карла и Александра Брюллова, Александра Иванова, Сильвестра Щедрина и других свидетельствуют о романтическом феномене «тоски по Италии», распространенном среди образованной прослойки русского населения в первой половине XIX века. «Последний день Помпеи» (1830–1833; рис. 3) Карла Брюллова и «Явление Христа народу» Иванова (1837–1857), ключевые работы русского искусства XIX века, создавались в Риме [Hamilton 1983: 7][36].

Рис. 3. Карл Брюллов. Последний день Помпеи, 1830-1833
Те русские, кто предпочитал оставаться дома, могли наслаждаться многочисленными переводами на русский латинских текстов, особенно стремительно появлявшимися во второй половине XIX века, когда Афанасий Афанасьевич Фет стал главным переводчиком латинских поэтов, таких как Вергилий, Овидий и Ювенал [Гаспаров 1995: 10–11][37]. Тем временем стремление русских ассимилировать классическое наследие отразилось и в сфере образования: XIX век стал эрой классических гимназий в России, хотя требования к студентам сильно разнились в зависимости от преобладающего курса[38]. При Сергее Семеновиче Уварове, занимавшем пост министра образования с 1833 по 1849 год, в русских гимназиях акцент делался одновременно на латынь и древнегреческий[39]. Школьная реформа 1849 года снизила требования к изучению древних языков (латынь все еще требовалась тем, кто стремился получить университетское образование, но древнегреческий – нет), но после 1871 года, при министре образования Дмитрии Андреевиче Толстом, начался новый период более строгих требований к выпускникам, включавших финальный экзамен по древним языкам (там же, 217). Классицизм Толстого был связан с консервативными политическими идеями, суть которых состояла в поддержке имперской власти, и потому латынь, вызывавшая ассоциации с империей, ценилась им выше греческого – несмотря на акцент, делавшийся на православие, которое отвечало его консервативным идеалам (там же, 217–218)[40]. И все же приверженность Толстого классической эпохе вызывала разочарование и недовольство многих студентов: ведь упор в преподавании делался на грамматику, а не на содержание. Мережковский, ходивший в Третью классическую гимназию в Петербурге, позже напишет следующие лишенные всякого энтузиазма слова: «То был конец семидесятых и начало восьмидесятых годов, – самое глухое время классицизма: никакого воспитания, только убийственная зубрежка и выправка» [Мережковский 19146,1:290] Писатель Александр Амфитеатров также вспоминал этот период как удручающее преобладание грамматики над идеями [Амфитеатров 1996, 2: 571].

Рис. 4. Участники постановки комедии «Менахми» римского поэта Плавта в Керченской гимназии, 6 января 1914 года («Гермес», март 1914)
Однако, как отмечает А. А. Носов, такая картина не была однородной: в частных учебных заведениях преподавали превосходно, включая гимназии Франца Краймана и Льва Поливанова, что приводило к восторженному восхищению классическим миром у восприимчивых студентов. Андрей Белый, посещавший гимназию Поливанова, вспоминал присущий тому живой стиль преподавания, включавший энергичные шествия перед учениками в стиле римских сенаторов, облаченных в тоги[41]. И все же число жалоб и сомнений росло, и по окончании толстовского правления в Министерстве образования в 1890 году курс снова поменялся, и упор на древние языки стал меньше.
Несмотря на свои недостатки, классические гимназии, и в особенности их особое внимание на латынь, обеспечили научную основу для создания текстов русских модернистов, посвященных Риму[42]. К концу XIX столетия российские читатели, в особенности те, что окончили классические гимназии, получили доступ к лучшим произведениям признанной литературы на латыни (рис. 4). Эта светская, прозападная линия восхищения Римом развивалась одновременно с традицией, выводившей на первый план восточные, религиозные истоки России: традиция считать Москву, лицо всей России, Третьим Римом.


