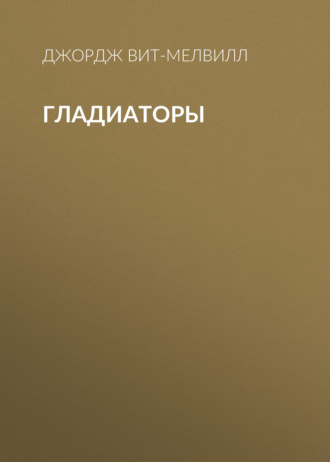
Джордж Вит-Мелвилл
Гладиаторы
Часть третья
Глава I
«Царство, восставшее на себя»
Приближался праздник пасхального агнца – праздник, обыкновенно сзывавший со всех концов Сирии чад Израиля в священный город на молитву; праздник, установленный в воспоминание их освобождения от удручающего фараонова рабства и в ознаменование выполнения пророчеств через падение избранного народа и национальное уничтожение под царственным могуществом Рима. Однако даже и эта Пасха, празднуемая последний раз в этом основанном Соломоном храме, по разрушении которого, несмотря на его священную славу, не должно было остаться камня на камне, привлекла огромное множество потомков Авраама. Они стекались со всех частей Иудеи, Самарии, Галилеи, Персии и других стран, как бы только для того, чтобы увеличить страдания голода и удвоить ужасы осады. Верные букве своей религии, строгие блюстители всех внешних обрядов, не допускающие никаких послаблений в строгости закона, иудеи тысячами и десятками тысяч толпились в своем священном городе, а между тем Тит все теснее и теснее замыкал его «железным кольцом осады», и видно было, как над оплотами парили римские орлы, готовые неудержимо устремиться на свою добычу.
Тишина страшного погрома царила даже в молчаливый час ясного полдня, когда солнце сверкало на белых, изваянных башенках храма и горело огнем на его вызолоченной кровле. Было что-то угрожающее в огромных черных кипарисах, как бы указывавших на небо предостерегающим жестом. Невольно возникала мысль об ужасном кровопролитии при виде множества коршунов, носившихся на своих огромных крыльях по всем открытым местам или тяжело поднимавшихся с земли после насыщения какой-нибудь отвратительной падалью, сочившейся с их клюва. Иерусалим лежал, как находящаяся в агонии царица: с прекрасным лицом, изменившимся от истощения, с величественным челом, сдавленным диадемой, с истомленными членами, дрожащими от боли под багряной одеждой и золотом.
Внутри стен в ужасающем контрасте сочетались великолепие и нищета, кощунственное веселье и полное отчаяние, военная помпа и гнет голода. Под тенью царственных сооружений, посреди улиц гнили непогребенные трупы, и никто не заботился убрать их. Всюду, где только два или три фута земли были укрыты от солнца, можно было видеть какого-нибудь несчастного, приползшего сюда, чтобы здесь умереть. Мраморные столбы, стройные притворы, белые террасы и величественные сады свидетельствовали о богатстве города и тщеславии его жителей, а между тем исхудавшие лица людей, бродивших туда-сюда и смотрящих на землю с целью найти что-нибудь годное для пищи, и, с другой стороны, отсутствие остатков и отбросов на мостовой ясно указывали, до какой степени редки были даже эти омерзительные средства пропитания.
Иерусалим, построенный на двух холмах, лежащих один против другого, со своими покатыми крышами, спускавшимися с одного холма и соединявшимися с другим, после того как их пересекала узкая долина, был удивительно приспособлен для обороны. Более высокий холм, на котором были расположены верхний город и храм, по своему естественному положению мог считаться неприступным, а нижний отличался таким крутым и утесистым всходом, что доступ к нему даже для хорошо обученных войск был почти невозможен. Помимо этой природной силы, город был защищен стенами невероятной вышины и прочности, получал еще большее значение благодаря большим четырехугольным башням, из которых каждая могла вмещать грозный гарнизон, и был снабжен резервуарами воды и всем необходимым для войны. При своих пороках, преступлениях и внезапных порывах ярости, близкой к безумию, Ирод Великий обладал вместе с тем доблестями государственного человека и солдата и не преминул употребить для безопасности своей столицы все средства, какими располагал. Он лично наблюдал за сооружением одного из укреплений, возведенного с большим трудом и огромными издержками, и прибавил три очень высокие башни, назвав их именами своего друга, брата и несчастной жены – Гиппиком, Фасаилом и Мариамной. Эти башни были сооружены из колоссальных глыб мрамора, так искусно прилаженных и затем скрепленных рукой работника, что все здание казалось вырезанным из гигантской массы камня.
В царствование этого пышного монарха эти башни внутри были не чем иным, как дворцами. В них были комнаты для гостей, залы для пира, портики и даже фонтаны, сады и цистерны. В них хранилось множество драгоценных камней, золотых и серебряных ваз и всяких богатств этого могущественного, но бесчеловечного и жестокого царя Иудеи. Укрепленный Иродом, Иерусалим мог бы успешно бороться даже против римской армии.
Агриппа Первый, позднее пораженный ужасной болезнью и «съеденный червями», как простой смертный, хотя он и придал себе атрибуты божества, также начал ряд укреплений вокруг города, которые могли бы взять верх над всеми усилиями врага. Но иудейский монарх был слишком рабом своего царственного владыки в Риме, чтобы пренебречь подозрениями последнего и провести свой проект дальше, и, хотя постройка стены по великолепному плану и была начата и даже доведена до значительной высоты, однако она никогда не достигла тех колоссальных размеров, какие должна была иметь по первоначальному расчету.
Даже в том случае, если бы враг проник в Иерусалим и блокировал его, все же нужно было брать храм, являвшийся также городской крепостью. Это великолепное сооружение, истинное казнохранилище богатств и центр набожности Иудеи, истинный символ этой национальности, к которому так сильно тяготело потомство Иакова, было расположено на вершинах самого высокого холма и царило и над верхним и над нижним городом. С трех сторон храм был тщательно укреплен с необычайным искусством; с четвертой расстилалась пропасть, защищавшая его от всякой случайности. Обладать храмом значило бы, так сказать, взять в руки весь город. Положение его не было лишь важным вопросом для одних осажденных, так как его великолепие возбуждало и жадность осаждающих. Все украшения архитектуры были применены к его внутренним галереям, столбам, портикам и стенам. Даже внешние двери были из меди, серебра или золота; перекладины были из кедрового леса или из других ценных пород дерева, инкрустированных драгоценным металлом, толстыми пластами которого были покрыты дверные косяки, подсвечники в виде ветвей и карнизы – словом, все, что только можно было облечь в такую дорогую одежду Лестница в пятнадцать ступеней, которая вела из двора женщин к большим Кориноским вратам, с двойными дверями, вышиной в сорок локтей, стоила столько талантов золота, сколько в ней было ступеней[37].
Перед тем, кто входил внутрь и видел то, что называлось внутренним храмом, открывалось зрелище, ослепляющее глаза, привыкшие к пышности самых великих властелинов земли. Весь фасад его был покрыт пластами кованого золота. Виноградные лозы с гроздями в рост человека, сплошь из массивного золота, обвивались около дверей, усеянных весьма острыми пиками, чтобы не садились на них и не грязнили их птицы. Внутри стояли золотые двери, вышиной в 55 локтей, и перед этим входом висела знаменитая храмовая завеса из прекрасной материи, из голубого, ярко-красного и пурпурного льна, изображавшая вселенную. И ткань, и каждый цвет имели свое мистическое значение: лен означал землю, голубой цвет – воздух, красный – огонь и пурпурный – воду.
Здесь, в этом величественном святилище, стояли ветвеобразные подсвечники, трапеза с пресными хлебами и кадильный алтарь; семь ветвей подсвечника соответствовали семи небесным планетам; двенадцать хлебов трапезы – кругу зодиака и месяцам года, а тринадцать благовоний алтаря напоминали людям, каков Тот, кто дает блага этого мира.
Среди внутреннего храма находилось священное место, которое не должен был видеть взор и касаться нога смертного. Уединенное, величественное, незримое, не заключающее в себе никаких естественных предметов, это место неизбежно сделалось для иудеев символом того духовного поклонения, на которое они смотрели, как на сошедшее прямо с небес к Аврааму и патриархам.
Но люди всех наций и верований могли видеть внешний фасад храма и судить по великолепию наружной оболочки о ценности и блеске заключенного в ней сокровища. От самого купола из чистого белого мрамора, рисовавшегося в небе, как снежная вершина горы, вся лицевая сторона храма была устлана пластами массивного золота, и, когда вся она сверкала при восходе солнца, на нее невозможно было смотреть, как на самого Бога.
Сколько раз римский солдат издалека, из своего лагеря, смотря на осажденный город, размышлял о нем с завистью и удивлением и взвешивал силу его защитников и стоимость добычи!
Во всем известном тогда мире Иерусалимский храм славился своей величиной, блеском и неслыханными богатствами. На город, сильный по своему природному положению и искусственным мерам защиты, помимо того заключавший в себе гарнизон из смелых и воинственных солдат, на такой город все справедливо смотрели, как на твердыню настолько неприступную, что ей нечего опасаться нападения даже римской армии, даже такого вождя, как сын Веспасиана. Если бы его осаждал только враг, обложивший стены, священный город никогда бы не был взят и разграблен легионами, и потерпевшие неудачу римские орлы ушли бы назад, не получив своей добычи.
Но Иерусалим был «царством, восставшим на себя». Раздоры внутри стен были еще более ужасны, чем внешний враг. Больше крови лилось на улицах, чем на оплотах. Много причин, начало которых восходило к истории прошлого, соединилось вместе, чтобы сломить честность и подорвать национальность евреев. Иудеи уже были довольно враждебно настроены против тех своих единоверцев, которые отличались от них по некоторым неважным пунктам учения или по мелочному соблюдению внешних обрядов. Но, когда ересь касалась существенных догматов их веры, тогда они открыто ненавидели друг друга, злобно и безжалостно, как могут ненавидеть только одни братья.
Уже в продолжение многих поколений иудеи делились на три главные секты, имевшие слишком мало общего в отношении веры, принципов и практики. Эти три секты известны были под именем фарисеев, саддукеев и ессеев. Первые, как это хорошо известно, были строгими блюстителями традиционной веры, перешедшей от отцов, и придавали столько же значения букве, сколько и духу. С неопределенным верованием в то, что называется словом «предопредение», они признавали, что людям предоставлен выбор между добром и злом, и верили в бессмертие души и в учение о вечном возмездии. Слабые стороны их состояли, по-видимому, в необузданной религиозной гордости, в преувеличенном превозношении внешних форм, заставлявшем их пренебрегать тем, символом чего они служили, в пылком тщеславии своей священнической властью и, наконец, в полном отсутствии любви по отношению ко всем, не разделявшим их воззрений.
Саддукеи хотя и разделяли веру в божество, однако отрицали влияние свыше на поведение рода человеческого. Ограничивая воздаяние наград и наказаний жизнью в этом мире, они смотрели как на дело человеческого выбора – приобрести первое или заслужить второе, и так как они не верили в будущую жизнь, то довольствовались наслаждением временным счастьем и уничтожением физического зла. Хотя и чуждые той естественной философии, которой гордились язычники, саддукеи, как в теории, так и на практике, представляли большое сходство с эпикурейцами Рима и Древней Греции.
Но была еще третья секта, насчитывающая много верных иудеев. В положениях ее мы можем найти много пунктов сходства с нашими, и можно с основательностью думать, что из ее рядов вышло много первых последователей христианства. Это была секта ессеев. Она отвергала удовольствие, как настоящее зло, и первым, основным правилом этого учреждения была общность имущества.
Эти люди обрекали себя на безбрачие и возлагали на себя обязанность воспитывать чужих детей. Они не занимались ни куплей, ни продажей и никогда не нуждались в жизненных благах, так как каждый давал и принимал без сожалений, сообразно со своими и чужими нуждами. Они презирали богатство и соблюдали строгую экономию, назначая надзирателей для хранения и распределения общего наследия, собранного путем общественных пожертвований. Рассеянные по всей стране, они были уверены, что найдут убежище в каждом городе, и никто из них не брал в путь ни денег, ни провианта, ни одежд, так как его братья пеклись о его нуждах всюду, где бы он ни остановился. Их благочестие было примерно. До восхода солнца ими не было произносимо ни одно слово, которое касалось бы земных интересов. Моления они возносили публично, испрашивая каждый день благословение света, прежде чем он показывался. Затем каждый шел на свое дело и зарабатывал свою плату, которую и влагал в общее казнохранилище. Собравшись вместе в обеденный час, они омывались в холодной воде и, одетые в белые одежды, садились за свой скромный обед, где каждый получал достаточно пищи. Потом они снова расходились до вечера и подобным же образом собирались снова ужинать, прежде чем предаться покою.
Обеты, произносимые всеми, кто был допущен в их общество – а это делалось не ранее, как после двух лет новициата, – достаточно ясно обнаруживают чистоту и благонамеренность их кодекса. Адепты давали клятву соблюдать благочестие по отношению к Богу и правосудие в отношении людей, никогда не допускать неправды ни добровольно, ни из повиновения другому, избегать зла и содействовать добру, повиноваться законной власти, как идущей свыше, любить истину и открыто обличать ложь, имея руки, чистые от всякой кражи, и сердце, не запятнанное никаким незаконным прибытком, ничего не таить от своей секты, не открывать своих тайн иным сектам и хранить их до смерти; наконец, внушать это учение прозелиту в том точном и буквальном виде, в каком сами его получили.
Если кто-либо из членов впадал в тяжкий грех, он был извергаем из общества на известное время, и этот приговор был равносилен запрещению вкушать какую бы то ни было пищу, так как погрешивший клялся не есть иначе, как в присутствии своих братьев. Когда таким образом он доходил до последней степени физического истощения, его принимали снова, как лицо, понесшее кару, соответствующую его заблуждению, кару, которая, изнурив тело, должна была очистить и спасти душу.
При подобных догматических воззрениях и при таком роде жизни ессеи представляли замечательное явление по своей надежде во время опасности, по своему безропотному перенесению лишений и презрению к смерти. Они презирали плоть, как простую оболочку духа, той негибнущей сущности, которая вечно порывается к небу, куда она непосредственно и отлетает, согласно с желанием самой природы, лишь только выходит из темницы.
Без всякого сомнения, подобные учения, рассеянные там и сям по стране, отчасти искупали тот жестокий и неестественный фанатизм, до которого дошел иудей в период христианской эры. Они, быть может, представляли ту закваску, которая сохранила целый народ от полного осуждения и подготовила пути тем пионерам, которые пронесли в мир, на запад, благую весть, впервые услышанную под Вифлеемской звездой.
Но в момент осады Иерусалима Титом и его легионами в стенах города царили три политические партии, неукротимый фанатизм которых во много раз превосходил фанатизм трех религиозных сект. Первая и самая умеренная из этих партий, хотя и не останавливавшаяся перед насилием, когда ей нужно было придать вес своему взгляду, оказывала значительное влияние на народную массу и более двух остальных была чужда эгоизма и искренна в своем стремлении к общему благу. Она показывала вид, что горячо заботится о целости и значении религии и громко сетовала на то, что некоторые камни и строительный лес, предназначенный некогда Агриппой на украшение храма, были кощунственно употреблены на возведение укреплений и сооружений военных снарядов. Сторонники ее разделяли ту мысль, что соперничество фракций, в котором, однако же, принимали участие и они сами, было гораздо гибельнее для города, чем усилия врага, и они бесцеремонно парализовали энергию осажденных, доказывая, что военное управление римлян, хотя и деспотическое, все же предпочтительнее альтернатив тирании и анархии, в каких жили они.
Эта многочисленная партия была в особенности неприятна для Элеазара, так как всякая попытка капитуляции раздражала его фанатическую отвагу и вечно беспокойный характер. Он решил сопротивляться до смерти и скорее предпочел бы сдаче полный разгром священного города.
И Элеазар жил теперь в стихии бури и борьбы, по-видимому, всего более подходящей к его характеру. Он уже не был чужеземцем, переодетым в бедное одеяние и скрывающимся в безвестной улице Рима. Иудей, казалось, с каждым днем получал новую силу. Он то поспешно переходил улицы, то управлял ходом дел на укреплениях, где в своих блестящих латах, со своей осанкой воина, патриарха и царя, он привлекал столько же взоры своих друзей, сколько и взоры врагов.
Он был на виду у всех, во главе многочисленной партии мятежников, усвоивших имя зилотов[38]. Обнаруживая самый пылкий энтузиазм в силу патриотизма и религиозности, эти последние были, однако же, неразборчивы в средствах, с помощью которых могли достигнуть своей цели. Их действия были в прямом несогласии с провозглашаемыми ими принципами и ревностью к религии, от которой вело начало их название. Не смущаясь, они допустили до участия в баллотировке на первосвященничество и даже до назначения на эту высочайшую и священнейшую должность всей нации необразованного жителя деревни, не имевшего никаких иных прав на жреческое достоинство, кроме своего родства с первосвященническими фамилиями. Притеснение, надругательство и хищение, проявляемые ими в отношении к соотечественникам, сделали самое имя зилота ненавистным народной массе, но они имели в своих рядах большое число решительных людей, искусно владеющих оружием и всецело готовых исполнить какое угодно насильственное дело над друзьями и над врагами. В руках смелого и беззастенчивого вождя эти люди могли бы быть сильным и отлично наточенным оружием. Так именно и смотрел на них Элеазар, держа их в своей власти и готовясь немедленно воспользоваться их услугами.
Третья из этих фракций, быть может самая многочисленная, возбуждала опасения миролюбивых людей точно так же, как и ненависть партии, признававшей Элеазара главой. Она находилась в подчинении Иоанна Гишалы, человека, сочетавшего удивительную двойственность и безрассудство. Прозвище его происходило от небольшого иудейского городка, жителей которого он побудил бороться с римлянами, а сам ускользнул от последних путем хитрости, служившей столько же к чести милостивого Тита, сколько и к бесславию ее выдумщика.
Заселенная деревенскими жителями, вовсе не способными к войне, к тому же лишенная средств защиты против регулярных войск, Гишала легко сделалась бы добычей князя с его горстью всадников, если бы не склонность к милосердию, какая была свойственна Титу и которой повиновалось так много других полководцев, когда к тому представлялся случай. Зная, что если укрепление будет взято приступом, то невозможно будет удержать солдат от резни жителей, Тит сам приблизился к стенам так близко, чтобы можно было слышать его голос, и начал убеждать защищающихся открыть свои ворота и положиться на его милость. Иоанн, вместе со своими единомышленниками управлявший и господствовавший над толпой, взял на себя ответить на это предложение.
Он напомнил римскому генералу, что теперь был день субботы, и что закон запрещал иудеям в этот день не только вести бой или заниматься политикой и делами, но даже и обдумывать эти вопросы, и что поэтому они не могут обсудить настоящего предложения о мире. Но он сообщил вместе с тем, что если римляне согласны дать им 24 часа перемирия и на это время станут около города лагерем, так чтобы никто из него не мог выйти, то на другой день им будут вручены ключи города и вождь может совершить свой торжественный вход в город и завладеть им.
Тит отступил к селению, лежавшему на некотором расстоянии, вероятно с целью добыть подножный корм скоту, а Иоанн, в сопровождении своих людей и множества женщин и детей, которых он скоро покинул, выбрался ночью из города и спасся в Иерусалиме.
После такого доказательства своей недобросовестности Иоанну Гишале уже не приходилось чего-нибудь ждать от милосердия римского полководца, и о нем, как и о многих других осажденных, можно было сказать, что он бился с веревкой на шее.
Внутри города шла ожесточенная борьба между зилотами, предводительствуемыми Элеазаром, и на все готовой партией, стоявшей на стороне Иоанна и обозначаемой многими оскорбительными прозвищами, из которых название «грабители» было еще наиболее мягким. Мирная партия, неспособная бороться с двумя остальными, с беспокойством ожидала того момента, когда в город войдут римские орлы, и добрая часть ее наиболее богатых членов перешла бы к врагу, как только это было бы возможно. А между тем римляне деятельно продолжали осаду. Их армия в это время состояла из лучших легионов Веспасиана, лично ведомых его сыном. Опытные, искусные, отлично дисциплинированные, ранее доказавшие свою храбрость, эти легионы – медленно, но верно – стекались к осужденному городу, замышляя решительное нападение. Уже вторая стена была взята, затем отбита в неистовой битве осажденными и снова перешла во власть легионов, взявших ее приступом. Голод своей бесчеловечной рукой ослаблял самые сильные руки и леденил самые отважные сердца в городе. Наступал час, когда нужно было забыть личный интерес, дух партийности, фанатизм, – все, кроме иудейской народности и того, что враг стоял при дверях.


