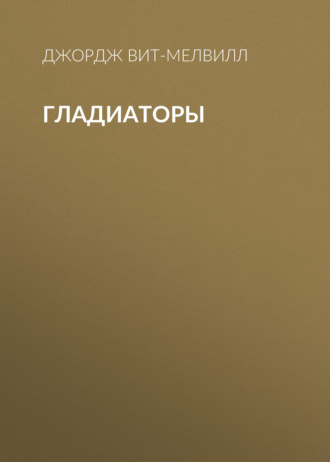
Джордж Вит-Мелвилл
Гладиаторы
Глава IV
Кубок любви
Когда он открыл глаза, она вскочила на ноги, так как теперь голоса нарушали царившее до сих пор молчание, и шаги рабов, бегавших туда-сюда, возвестили о возвращении господина, не терпевшего, как им хорошо было известно, никакой небрежности со стороны своих слуг. Она едва успела оставить свою позу любящей и преданной женщины, едва улучила минуту откинуть назад свои длинные волосы, как Юлий Плацид вошел во двор и остановился перед ней с тем испытующим видом, который она всего более презирала в нем и по которому вовсе нельзя было догадаться, был ли он свидетелем тех ласк, какие она расточала его узнику. Теперь в Валерии сказалась ее женская натура, которая всегда, несмотря на все ее недостатки, была ей присуща в сильной степени. В этот критический момент отвага и присутствие духа были сильно возбуждены в ней, и, хотя, как настоящая женщина, она прибегла к притворству, обычному прибежищу слабых людей, тем не менее ее лицо ясно говорило, что в случае нужды она не остановилась бы перед самыми последними, отчаянными средствами насилия.
Повернувшись лицом к трибуну со спокойным достоинством и прелестной улыбкой, которая, она знала, так шла ей, она показала пальцем на бретонца и с нежностью сказала:
– Ты мне подарил его, и я пришла за ним. Как это произошло, что с некоторого времени я так высоко ценю даже самые ничтожные твои подарки? Что ты, Плацид, подумаешь теперь обо мне, видя, что я пришла без зова в твой дом?
Затем она опустила глаза и склонила свою величественную голову, как будто готовая умереть от любви и позора.
Каким обманщиком и интриганом ни был Плацид с той поры, как появилась борода на его подбородке, однако ему не по плечу было бороться с Валерией. Он бросил проницательный и испытующий взор на Эску, но удивленно смотревшие глаза раба успокоили его подозрение. Истомленный усталостью и лишениями, Эска проснулся только наполовину и все еще считал себя игрушкой сновидения. Вслед за этим во взгляде трибуна засветилась нежность, когда он посмотрел на свою повелительницу, и хотя на лице его мелькнуло злобное торжество, однако это жестокое и суровое выражение тотчас же исчезло, и лицо его сделалось более нежным и сердечным, чем обыкновенно.
– Этот дом больше не принадлежит мне, – сказал он, – он твой, прекрасная Валерия. Ты здесь всегда желанный гость, и не правда ли, что ты останешься здесь с тем, кто любит тебя больше всего в мире?
Пока он говорил, она мысленно взвешивала требования и трудности своего положения. В эту минуту она могла думать об ужасном положении Эски и о необходимости ее присутствия для спасения его от опасности, очевидно висящей над его головой, опасности, которую она во что бы то ни стало решила открыть. Она могла, далее, думать о позорной репутации трибуна и о своем собственном добром имени, так как сама Корнелия не смогла бы выйти незапятнанной из подобного дома, а Валерия могла гораздо скорее потерять это столь хрупкое достояние, чем суровая мать Гракхов. Но ее лицо не носило следов заботы и в ее тоне не слышалось ничего, кроме искреннего благодушия, когда она отвечала:
– Да, Плацид! Ты знаешь, что даже мы, патриции по происхождению, не можем всегда делать то, что хотим. Конечно, я уже достаточно рисковала, потому что… потому что мне вообразилось, будто ты покинул меня в гневе, и эта мысль была для меня невыносимой даже на один час. Я попрошу у тебя только предложить мне кубок вина, и затем я отправлюсь. Миррина провожала меня сюда, и мы возвратимся домой точно так же, как и пришли, не будучи узнаны и не вызывая подозрений.
Ему не нужно было ничего больше. Кубок вина, великолепный пир, устроенный в мгновение ока, гирлянды цветов, тяжелый запах благовоний, наполняющих душный воздух, тихая музыка, нежащая чувства подобно теплому ветерку, веющему в усыпляющей тени, – все эти сладострастные подробности, столь опасные для охотно поддающегося им человека, были в его распоряжении. Ему никогда не случалось видеть неуспех этих средств, и ни господин, ни его рабы не виновны были бы, если бы в данном случае они остались без результата.
Он почтительно взял Валерию за руку и ввел ее в большую залу пиршества почти с таким же уважением, с каким он отнесся бы к жене цезаря. Никто не знал лучше трибуна, как заботливо нужно оказывать военные почести крепости, готовой сдаться на капитуляцию. Когда он наклонился перед ней, купленный у Петозириса пузырек показался внутри его туники, и она увидела его. Во мгновение ока она оглянулась назад, как будто он нечаянно наступил на шлейф ее платья, и быстро сделала знак Эске, поднеся руку к губам и сопровождая этот жест движением головы и красноречивым взглядом, который, она надеялась, дал бы ему возможность понять, что ему не следовало ни пить, ни есть до ее возвращения. Когда она делала эти немые знаки, лицо трибуна еще раз сделалось напряженным и холодным. Как она ни была хитра и осторожна, его змеиный взор достаточно ясно видел все это. И в эту минуту Плацид решил, что Эска умрет в течение часа.
Хозяин и гостья грациозно прошли в соседнюю залу и уселись за пир с сохранением мельчайших требований вежливости и строгим соблюдением всех правил этикета. Поджидавшие их рабы думали, что это просто обычное для их господина ухаживание и что находившаяся перед ними благородная чета страстно любит друг друга.
Подобно большинству, трибун не мог есть много, когда ум его был занят любовью, и его аппетит, который мог бы поспорить с аппетитом Вителлия во время самого утонченного пиршества у обжоры-цезаря, теперь, в присутствии Валерии, удовлетворился горстью фиников и одной или двумя ветками винограда. В свою очередь и она, томимая тоской и взволнованная, по-видимому, боялась, что каждый кусок задушит ее, но все же выпила за здоровье своего хозяина кубок красного фалернского со смутной мыслью о том, что каждая минута, во время которой она отвлекала внимание трибуна, представлялась неоценимо важной. И почти с отчаянием ее неотступно преследовала мысль о том, как бы изобрести какое-нибудь средство сделать пустым роковой пузырек, пока еще не поздно.
Он был очень веселым, остроумным, красноречивым и ядовитым собеседником, всецело преданным Валерии. В момент своего триумфа он мог, как ему казалось, выказать, действительно или притворно, гораздо больше деликатности и благородства, чем она ожидала, и вследствие этого он был для нее еще ненавистнее. Один раз, когда он только что высказал ей самые пламенные чувства уважения и привязанности, ей удалось поймать устремленный на нее взгляд, и, испуганно оглядевшись кругом, она неистово стиснула свои руки, видя, что со стены было снято оружие. Этот ловкий интриган не был величественным и великодушным Агамемноном, но, если бы в ее белой руке оказался меч, топор или кинжал, она не хотела бы ничего более, как сыграть роль Клитемнестры[24]. О, как хотела бы она в эту минуту быть мужчиной, и мужчиной сильным! Ей казалось, что она задушила бы его, там, на его ложе, с ненавистью в сердце и усмешкой на устах. О, зачем она не обладала жилами и мускулами Эски, этого прекрасного, отважного, честного Эски! Ею овладевало безумие, когда она думала о том, что он привязан в десяти шагах от нее, как дикое животное. Нужно было собрать все усилия, чтобы спасти его, с какой угодно опасностью, ценой какой угодно жертвы.
Плацид весело болтал, затрагивая поочередно разнообразные темы: роскошь, мотовство и даже порок, то есть именно все то, к чему сводилась обыденная жизнь людей патрицианского круга в Риме, а она употребляла все усилия, чтобы отвечать ему с деланой легкостью и хладнокровием, приводившими ее в безумие. Пиры цезаря, головной убор Галерии[25], дурной вкус, с каким были выставлены напоказ ее драгоценности и который был так непростителен в супруге императора, иудейская война, последняя скачка на колесницах, удачи и неудачи двух состязающихся партий – красных и зеленых – все это послужило предметом веселого и шутливого обсуждения, а затем было оставлено в стороне. Эти темы неизбежно привели к рассуждению об арене и борцах, о великолепии последних игр и удали самого трибуна в ужасной битве. Вдруг Плацид оглянулся назад, как будто вспомнив о чем-то забытом, подозвал раба, дал ему на ухо приказание и велел уйти. Слуга поспешно вышел, снова оставив наедине любовника и его повелительницу.
Самообладание, которым так гордилась Валерия, теперь совершенно покинуло ее. В томительной тревоге за Эску она тотчас же пришла к тому заключению, что приказание о его казни дано. Трибун, обратившийся к ней с изысканной, полушутливой-полульстивой фразой, был поражен, видя, как побледнели щеки и губы его возлюбленной, а большие глаза заблестели сверхъестественным блеском. Испустив долгий, подавленный крик, как дикое животное, находящееся в агонии, она упала к ногам трибуна, обняла руками его колени и воскликнула:
– Пощади его!.. Пощади его, Плацид!.. Милый Плацид, пощади его… ради меня!
Хозяин дома, ум которого в эту минуту был занят совсем не кровожадными мыслями и приказание которого, данное шепотом рабу, не представляло ничего более ужасного, как приказ дать знак для неожиданной музыки, удивленно посмотрел на эту надменную женщину, так униженно склонившуюся перед ним. Действительно, он имел намерение погубить Эску посредством яда до наступления ночи и, таким образом, заодно отделаться и от опасного свидетеля, и, может быть, от соперника, но в продолжение этой четверти часа раб был далек от его мыслей. Если час назад он забылся до той странной мысли, будто простой варвар мог пленить женщину, которой он, сам он, подарил свое сердце, то Валерия, добровольно согласившись быть его гостьей и вступив в такой сердечный разговор с ним, окончательно изгнала столь наивное и несправедливое подозрение, и он уже удивлялся, как оно могло прийти ему в голову хотя бы на одну минуту.
Но теперь он почувствовал как бы озноб, вдруг сковавший кровь в его сердце. Он очень спокойно помог ей подняться, но, сам того не подозревая, так крепко сжал ее руку, что на ней остался след его пожатия. Тон его речи был ясен и тверд, когда он, успокаивая ее, любезно спросил:
– Скажи мне, Валерия, кого я должен пощадить? Ты, конечно, уже не думаешь больше об этом варваре-рабе? Кто такой этот раб, чтобы становиться между тобой и мной? Теперь уже слишком поздно!.. Слишком поздно!..
– О, никогда!.. Никогда!.. – воскликнула она, схватив его руку своими обеими руками и опираясь на нее грудью. – Теперь не время что-нибудь скрывать от тебя, теперь не место для изысканных фраз, фальшивых отговорок и ложного стыда! Я люблю его, Плацид, я люблю его, слышишь! Дай мне только его жизнь и проси от меня взамен этого чего угодно!
Она была прекрасна, снова стоя на коленях перед ним, с беспорядочно разлетевшимися волосами и распахнувшимися одеждами, с поднятым кверху лицом. Трибуну казалось, что удар кинжала поразил его в сердце, но он собрал всю свою энергию, чтобы найти соответствующее ране мщение. И он лениво откинулся на свой диван, в сто раз злее, чем был несколько секунд назад.
– Почему ты не сказала мне этого раньше, прекрасная Валерия? – спросил он самым вежливым и спокойным тоном. – Ты делаешь мне щедрое предложение, и я думаю, что нам остается только выработать последние подробности торга.
Какой ценой она могла бы окупить свое вмешательство! Никакая женщина в Риме не чувствовала живее ее все переживаемое унижение, весь перенесенный позор, и над всем этим преобладало ужасное убеждение в том, что она сделала ложный ход в игре со своим ужасным противником. Она решила не отступать ни перед каким унижением ради спасения Эски, и кровь залила ее лицо от негодования и позора, когда она поднялась и закрыла лицо руками, призывая на помощь в этих роковых обстоятельствах весь свой женский ум и способность выносить пытку.
Со своей стороны, Плацид думал о соответствующем мщении. Трибун никогда не прощал, а за оскорбление, подобное тому, какое было нанесено ему, его природа требовала такого возмездия, которое своей утонченной жестокостью превзошло бы саму обиду. Нет более смертельного яда, как раздраженная любовь злого человека. Славным развлечением было бы собственной рукой перерезать горло этому светловолосому избраннику ее сердца, мысленно говорил себе Плацид. Его триумф был бы полным, если бы он мог тонко насмеяться над покойником и над страстными упреками женщины. Первым шагом к этой необычайно соблазнительной мести, конечно, должны были являться меры, усыпляющие ее подозрения, а для этого необходимо было показать вид, что он, естественно, недоволен. Слишком веселое лицо, несомненно, возбудило бы опасения, и он гневно заговорил резким и раздраженным тоном благородного человека, которому нанесли оскорбление.
– Я обманут, – сказал он, ударив кулаком по столу, – я обманут, одурачен, покрыт презрением, и кем же? Тобой, Валерия! О, я этого не заслужил! Позор женщине, которая могла так терзать благородное сердце из-за одного пустого тщеславия. И однако, – прибавил он тихим, упавшим голосом, с удивительно правдоподобным видом обиженного человека, – я могу это простить, потому что я не пожелал бы никому страдать так, как я сам страдаю. Да, Валерия, твои желания всегда будут для меня законом: я пощажу его для тебя, и ты сама передашь ему эту весть. Но он, должно быть, еле жив теперь от жажды и истощения. Снеси ему своими прелестными руками кубок вина и скажи, что он будет свободен прежде, чем сядет солнце.
Говоря это, он направился к шкафу, где стояла большая амфора фалернского вина и рядом с ней два серебряных кубка. Она сошла с ложа, находившегося подле него, и оперлась на стол, но, быстро подняв на минуту голову, увидела спину трибуна, отразившуюся на блестящей поверхности золотой вазы, стоявшей перед ней. По движению его плеч она догадалась, что, наливая вино, он вынул что-то из-под своей туники. Вся опасность положения тотчас предстала ее уму. Она инстинктивно решила, что один из кубков отравлен, и, чтобы узнать, какой, она рискнула бы своей жизнью. Ее слезы высохли, нервы окрепли, точно благодаря каким-то чарам, и она поднялась уже совершенно иной женщиной, чем была за минуту до этого. Теперь она была бледна и прекрасна, но совершенно спокойна и хладнокровна.
– Ты любишь меня, Плацид, – сказала она, взяв один из кубков с подноса, на котором они стояли. – Такая любовь, как твоя, способна победить всякую женщину. Я пью за твое здоровье, чтобы показать тебе, что мы все же остаемся друзьями, если не больше.
Она готова была поднести кубок к устам, как вдруг он как-то торопливо и менее твердым, чем обыкновенно, голосом воскликнул: «Постой!» – и, взяв кубок из ее рук, опять поставил его на прежнее место.
– Мы еще не покончили с условиями. Уговор должен быть запечатан и утвержден, а богам должно быть совершено возлияние. Фалернское вино сильно и грубо, у меня здесь есть коанское, какое ты предпочитаешь. Ты видишь: я не забыл твоих вкусов.
Он нервно захохотал, и его губы задрожали. Теперь она знала, что яд заключался в правом кубке. Оба они были одинаково полны и бок о бок стояли на подносе.
«Однако, – подумала она, – этот человек не хотел моей смерти!»
Эта мысль на мгновение растрогала ее сердце, вдохнув в него тень сострадания к своему обожателю. Каким бы дурным он ни был, однако она не могла отрешиться от мысли, что только к ней одной он чувствовал единственную в жизни, настоящую страсть, и это размышление заставило ее поколебаться, хотя и не надолго. Тотчас же ей представился образ прикованного цепью и лежащего на плитах Эски, и при воспоминании о недавнем позорном торге неодержимая ненависть снова закипела в ее сердце.
Она вложила свою руку в руку трибуна с преданностью истинно любящей женщины и взглянула на него тем нежным взглядом, значение которого она не преувеличивала.
– Прости меня, – сказала она, – я никогда, никогда не ценила тебя так высоко, как сегодня. Я была бессердечной, бесчувственной, сумасбродной, но сегодня я получила урок, о котором мы оба никогда не забудем, ни ты, ни я. Нет, больше мы никогда не будем ссориться.
Он схватил ее за руки и прижал к своему сердцу. Ум его помутился, чувства отказывались служить ему. Эта очаровательная красавица, казалось, заполняла все его существование, окружала его благоуханием, словно какими-то опьяняющими парами. А тем временем она, дрожа всем телом и прерывающимся шепотом говоря нежные слова, своей белой рукой, с таким доверием закинутой за его плечо, переставила с места на место кубки. Сердце, бившееся так горячо против его сердца, осуждало его на беспощадную смерть.
Она освободилась от его объятий и откинула волосы со своего лба. В самом деле, любовь слепа, так как в противном случае он заметил бы, что вместо того чтобы покраснеть от действительной нежности, ее щеки были белы и холодны как мрамор, а глаза опущены, как будто она боялась встретить его взгляд.
– Выпей за мое здоровье, – сказала она с величайшей нежностью, насильно вызывая на свои губы прелестную улыбку, которая осталась как бы вырезанной неподвижными линиями на ее устах. – Выпей за мое здоровье в знак того, что ты прощаешь меня. Для меня будет приятнейшим напитком тот, который ты дашь мне, коснувшись его своими устами.
Он радостно протянул руку к подносу. Сердце Валерии замерло от ожидания и страха, как бы он не заметил столь искусно сделанной перестановки, но кубки были совершенно одинаковы. Он, не колеблясь, взял ближайший из них, осушил наполовину, прежде чем отнял от уст, и затем, смеясь, протянул к ней то, что еще оставалось в кубке. Вдруг глаза его помутились, нижняя губа опустилась, и он упал без сознания на диван, пробормотав какие-то недоконченные слова.
Теперь она почти готова была бы отдать жизнь Эски, лишь бы не происходило того, что она сделала. Но не время было для раскаяния или нерешительности. Отвратив свои глаза от бледного и неподвижного лица трибуна, которое, казалось ей, отныне вечно будет перед ней, она смело начала рыться в тунике трибуна, чтобы достать драгоценный ключ и, отыскав его, приблизилась к двери и стала прислушиваться. Это была счастливая мысль, так как она услышала быстро приближающиеся шаги раба и едва лишь успела до прихода служителя занять снова свое место на диване и положить себе на колени беспомощно опустившуюся голову трибуна, как будто он заснул под ее ласками. Раб скромно удалился; но, несмотря на непродолжительность его появления, пытка, вынесенная ею в эти немногие секунды, почти стоила того преступления, какое ей предшествовало. Затем она пустилась по хорошо известным ей коридорам и достигла двора, где был заключен Эска. Ни одно слово пояснения, ни одно нежное имя не сорвалось с ее уст, пока она спокойно освобождала человека, ради которого претерпела столько опасностей.
Машинально, как сомнамбула, она открыла колодку, повешенную ему на шею, и сделала ему знак (она, по-видимому, неспособна была говорить) подняться и следовать за ней. Он повиновался, едва сознавая сам, что делает, удивленный появлением своей освободительницы и почти испуганный ее взорами и странными, повелительными жестами. Они прошли по коридорам дома, никого не встречая, и через тайный вход вышли на улицу, пустынную и погруженную в молчание. Тогда в Валерии наступила реакция: она не могла дольше крепиться. Дрожа, она оперлась на руку Эски, без поддержки которого упала бы, и горько зарыдала на его груди.
Глава V
Surgit amari
Мало счастливых минут изведала в своей шумной жизни эта гордая и неукротимая женщина. И теперь, хотя угрызения совести терзали ее сердце, присутствие бретонца вызывало в ней такую безумную радость, мысль, что она спасла его, хотя бы ценой ужасного преступления, повергала ее в такой восторг, что удовольствие брало верх над страданием и подавляло его. Для нее было совершенно новым ощущением опираться на его сильные руки и видеть своим господином того, в ком другие видели не более как варвара и раба. Она находила тайную радость в той мысли, что она угадала его благородный характер, отдала ему свою любовь, хотя он не просил ее, что только подобный дар мог спасти его от смерти и что она не отступила ни перед чем, чтобы искупить его. Теперь, первый раз в жизни, Валерия воспользовалась своим женским правом слиться своим существом с существом другого, и на мгновение эта упоительная уверенность совершенно изменила характер и привычки молодой патрицианки. Миррине, скромно идущей в нескольких шагах позади, с трудом верилось, что эта согнувшаяся фигура, двигающаяся неуверенным шагом и делающая робкие жесты, принадлежала ее властной и своевольной госпоже.
Расторопная служанка, которой никогда не случалось быть растроганной или удивленной, выскочила из дома трибуна, как только ее привычное ухо услышало легкие шаги Валерии, направляющейся к двери, и, хотя она не ожидала, что ее госпожа возвратится к ней рядом с пленником, совершенно позабыв и о существовании своей доверенной служанки, и о всем остальном в мире, однако она с огромным удовольствием заметила, что эта сосредоточенность была результатом ее внимания к своему спутнику. С той минуты, как интрига приходила к концу, Миррина слишком мало беспокоилась и о тех, кто замышлял ее, и о тех, кто был ее жертвой.
Они не отошли еще далеко, как Эска остановился и наклонил голову, как человек, оторванный от сновидения.
– Я обязан тебе жизнью, – сказал он тем тихим голосом с иностранным акцентом, который казался для нее такой сладкой музыкой. – Чем я могу когда-либо воздать тебе за это, благородная матрона? Я не могу дать ничего, кроме силы моей руки, и какую услугу может оказать подобный мне человек такой женщине, как ты?
Она густо покраснела и опустила глаза.
– Мы пока еще не в безопасности, – отвечала она, – поговорим обо всем этом, как придем в мой дом.
Он смотрел перед собой на величественную улицу, с ее великолепными портиками, высокими чертогами, рядами стройных колонн, терявшихся вдали, в очаровательной перспективе, и сливавшихся с багряным заревом заката, и, быть может, думал о стране свободы, о голубых холмах, о лучах весело сияющего солнца, отражающихся на водной поверхности и трепещущих в рощах его далекой родины. По крайней мере, он удовольствовался только тем, что повторил со вздохом последние слова Валерии и прибавил:
– А для меня нет дома: я пришелец, пария, презренное существо.
Казалось, Валерия сдержала крик, просившийся у нее с уст, и отвела свои глаза от лица Эски, прошептав:
– Я решила спасти тебя. Разве ты не знаешь, что я не откажу тебе ни в чем, чего бы ты ни попросил у меня.
Он поднес руку Валерии к своим губам, но это был скорее жест уважения низшего к высшей, чем порыв любовника. Она инстинктивно почувствовала, что это была дань признательности и преданности, а не страстная ласка, и во второй раз смутно подумала, что лучше было бы ей не выполнить дела этого дня. Затем она начала быстро говорить о тех опасностях, к каким привело бы преследование, и о необходимости для него немедленно скрыться у нее и таиться там. Она порывисто переходила с одной темы на другую и, казалось, сама только наполовину понимала, что говорила.
Вдруг он беспокойно и почти сухо спросил у нее:
– А трибун?.. Что с ним сталось?.. Как он мог согласиться отпустить меня? Я говорю тебе, что я держал жизнь Плацида в своих руках так же крепко, как если бы мы были в амфитеатре и моя нога стояла на его шее. Неужели какою-нибудь ценой его можно было склонить к тому, чтобы он продал меня, несмотря на все, что я узнал?
Ее лицо покрылось густой краской, когда она торопливо отвечала ему:
– Никакой цены, верь мне, никакой цены не было, какую мог бы дать мужчина или женщина. Эска, не будь обо мне более дурного мнения, чем я стою.
– Тогда как же я здесь? – продолжал он, кротко посмотрев на нее. – Мне бы очень хотелось узнать тайну, посредством которой Валерия сумела склонить такого человека, как Плацид, сделать то, чего ей хотелось?
Она страшно побледнела.
– Трибун больше никогда не потребует тебя к себе, – сказала она, – я покончила с этим делом навсегда.
Он ее не понял, однако отпустил ее руку, лежавшую в его руке, и несколько отстранился от нее. Она чувствовала, что ее кара уже началась, и, когда заговорила снова, голос ее был резок, холоден и не похож на прежний:
– Он стоял на моей дороге, Эска, и ему выпала судьба всех тех, кто безрассудно противоречит Валерии. Разве, имея дело с Плацидом, можно делать призыв к состраданию, любви или чести? Разве когда-нибудь случалось ему отступать от намеченной цели ради какого-либо чуждого ему соображения? Увы, я узнала его слишком хорошо! Можно было привести трибуну только один неопровержимый довод, и я прибегла к нему. Я убила его, убила на его ложе, но это для твоего спасения.
Может быть, он понял, что был неблагодарным. Может быть, он сказал себе по крайней мере, что не ему строго судить ее, что такое самоотвержение ради него заставляло его смотреть снисходительным оком на столь ужасное преступление, как убийство, но он не мог отрешиться от чувств отвращения и страха, какие теперь внушала ему эта прекрасная, смелая, ни перед чем не останавливающаяся женщина, и как ни старался он скрыть и замаскировать эти чувства под покровом уважения и благодарности, инстинктом любви она угадала все, что происходило в нем, и страдала, как только могут страдать те, кто попрал ногами честь, добродетель, совесть, словом – все, для того чтобы в конце концов вынести только убеждение в бесполезности своих позорных жертв.
Она решила положить конец терзавшим ее пыткам. Они только что вошли в улицу, в которую выдавался один из частных подъездов ее дома. Миррина, хотя и видимая глазом, все еще скромно держалась позади. Теперь-то наступило то положение, тот момент, который так часто представлялся Валерии в упоительных грезах, который казался слишком блаженным для того, чтоб когда-либо осуществиться. Спасти его от какой-то огромной опасности столь же великой ценой, торжественно привести его с собой, пройти вместе пустынные улицы в этот очаровательный час солнечного заката, довести его, свое счастье, сокровище, до самой двери дома и притом так, чтоб подле них не было никого, кроме верной Миррины, и видеть, наконец, перед собой в будущем долгий ряд безоблачных дней, – все это было восторженной мечтой, какую она лелеяла. Но теперь, когда эта надежда перешла в действительность, она принесла с собой только чувство печали, терзавшей ее сердце и превосходившей своею мучительностью всякую боль.
Вместе с надменной головой и величественными формами тела, наследственными в ее семье, Валерия унаследовала и мужественный, бурный характер. Никакой отпрыск этого благородного и древнего дома не трепетал и не бежал ни от моральной пытки, ни от физического страдания. Среди бюстов предков, украшавших ее карнизы, находился один, изображавший человека, со спокойным видом смотревшего, как горела и трескалась его рука в пламени костра. Его потомки, и по мужской и по женской линии, унаследовали этот непреклонный характер, и сам Муций Сцевола, прямой и стойкий перед лицом тосканского царя, не обладал более отважным упрямством, вызывающим судьбу на бой, чем какое скрывалось под нежной и белой кожей, под повелительной улыбкой и в сладострастной красоте гордой Валерии.
В эту минуту остановившись у своей двери и прямо смотря в лицо бретонца, она казалась даже более величественной и прекрасной, чем когда-либо.
– Ты спасен! – сказала она, и чего стоило ей сказать это, знала только одна она. – Теперь ты свободен и имеешь право идти, куда тебе угодно.
Пылкость, с какой он поцеловал ее руку, когда она говорила эти слова, сияние радости, озарившее его лицо, живая признательность, с какой он склонился перед ней, – все это, как удары кинжала, поразило ее сердце.
Она продолжала тоном хорошо подделанного равнодушия, хотя менее сосредоточенный наблюдатель и мог бы заметить ее дрожащие ресницы и расширяющиеся ноздри:
– Может быть, у тебя есть друзья, которых ты ждешь не дождешься увидать… друзья, которые очень беспокоились о твоей участи. Хотя мне кажется, – иронически прибавила она, – что они не очень-то заботились о том, чтоб спасти тебя от опасности.
Эска всегда был чистосердечен и честен; может быть, эти достоинства, в соединении с его белокурыми кудрями и широкими плечами, и делали его столь милым для римлянки! Она не привыкла видеть эти качества среди встречаемых ею обыкновенно мужчин.
– У меня нет друзей, – отвечал он с оттенком печали. – У меня не было никого во всем этом огромном городе, может быть, кроме тебя, благородная матрона, кто бы побеспокоился о том, жив я или умер. Но у меня есть одно дело, которое надо исполнить, и я больше благодарен тебе за то, что ты дала мне эту возможность, чем за спасение моей жизни. Завтра было бы уже слишком поздно.
Скорее утвердительным, чем вопросительным тоном Валерия проговорила:
– Твое дело касается молодой девушки с черными глазами!.. Эска, не бойся сказать мне правду.
Слабая краска выступила на лице юноши. Они стояли бок о бок, внутри сада, на ровной лужайке, доходившей до самого дома. Черные кедры ясно и отчетливо рисовались на чистом и светлом фоне вечернего неба. Одна или две звезды слабо блестели, и малейшее дыхание ветерка не шевелило ни молчаливой листвы зеленых, словно погруженных в дремоту дубов, ни цветов, склонивших свои головки, как будто усыпленные под тяжестью собственного благоухания. И время и место, казалось, были созданы для любовных речей. Но какой насмешкой было для Валерии стоять здесь, видеть румянец Эски и слушать трепетные слова, выдававшие его тайну!
– Я должен спасти ее, благородная матрона, – говорил он, – я должен спасти ее сегодня же вечером, чем бы мне ни пришлось ради этого пренебречь. Жив ли трибун или мертв, все равно она не должна войти в его дом до тех пор, пока я могу наносить удары и хватать врага за горло. Благородная женщина, ты приобрела мою вечную благодарность, мою вечную преданность. Уступи мне только сегодняшний вечер, и завтра же я вернусь к тебе, чтобы быть навсегда самым смиренным и усердным твоим рабом.
– И с тем, чтобы больше не видеть ее? – спросила Валерия. Что-то теснило ее горло, и она была готова разразиться слезами.
– Да, с тем, чтобы больше ее не видеть! – печально и безропотно повторил Эска.
Нельзя было ошибочно понять тон этих слов: они выражали мужественную, чуждую эгоизма, но совершенно безнадежную любовь.
Валерия провела рукой по лбу и несколько раз пыталась заговорить. Наконец, подавленным и суровым голосом она прошептала:


