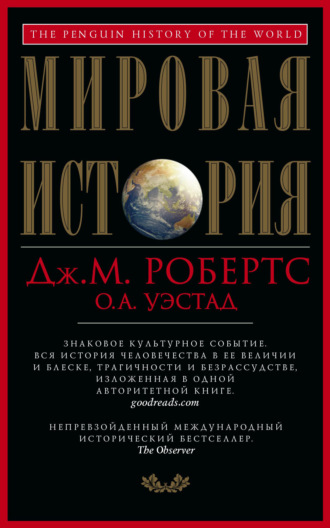
Джон М. Робертс
Мировая история
Реакция римских властей на повышение авторитета новой христианской общины выглядела по большому счету предсказуемой; их главный принцип состоял в том, что в отсутствие какой-либо конкретной причины для вмешательства к новым культам относились терпимо, если они не побуждали к непочтительности по отношению к империи или неповиновению правителю. Сначала возникла опасность того, что христиан могут отождествить с другими евреями в ходе активной римской реакции на еврейские националистические движения, достигшие высшей точки в многочисленных кровавых столкновениях, но собственная политическая пассивность и провозглашенная враждебность к ним со стороны остальных спасли их. В самой Галилее в 6 году н. э. шло восстание (возможно, память о нем повлияла на отношение Пилата к знаменитому делу галилеянина, среди учеников которого был Зилот), но настоящее отличие от еврейского национализма проявилось в великом еврейском мятеже 66 года н. э. Он считается самым важным во всей истории еврейства под правлением Римской империи, когда экстремисты захватили власть в Иудее и взяли Иерусалим.
Еврейский историк Иосиф Флавий описывает жестокую борьбу, развязанную после заключительного штурма иерусалимского Храма, где находился главный очаг сопротивления евреев, и пожар в нем, когда римляне одержали победу. Перед решающим штурмом несчастные жители Иерусалима в борьбе за выживание от голода дошли до людоедства. Археологи не так давно обнаружили в Масаде, расположенном вблизи Иерусалима, возможное место последнего стояния евреев перед сдачей римлянам в 73 году н. э.
Беспокойные времена на этом для евреев не закончились, но поворотный момент все-таки наступил. Крайние элементы еврейского националистического движения былой поддержкой населения больше никогда не пользовались, и доверие к ним пошло на убыль. Формальным признаком принадлежности к еврейству теперь, как никогда раньше, считалась приверженность Закону Божьему, а еврейские ученые и наставники (после этого периода времени их все чаще стали называть «раввинами») продолжили разворачивать его значение в центрах обучения, находившихся уже не в Иерусалиме, все еще терзаемом мятежом евреев. Похоже, благодаря их достойному поведению все-таки удалось спасти этих евреев от разгона по диаспорам. Позже беспорядки никогда не играли такой важной роли, как в случае с великим еврейским восстанием, хотя в 117 году н. э. массовые еврейские беспорядки в Киренаике переросли в полномасштабную вооруженную схватку, а в 132 году последний «мессия» Симон Бар-Козива (Бар-Кохба) поднял свой народ на еще одно восстание в Иудее. Но евреи сохранили свой особый статус, причем закон у них остался нетронутым. Иерусалим у них отняли (Адриан провозгласил его итальянской колонией, на территорию которой евреям разрешалось входить только лишь один раз в год). Однако их вероисповеданию римляне предоставили привилегию – специального чиновника в виде патриарха, пользовавшегося персональным суверенитетом. К тому же евреев освободили от обязательств по положениям римского права, противоречащим их религиозным обязанностям. Здесь том еврейской истории можно закрывать. На последующие 1800 лет еврейская история сводится к повествованию об общинах еврейских диаспор до тех пор, пока среди развалин очередной империи в Палестине не провозгласили национальное государство евреев.
Без националистов Иудеи евреи на протяжении долгого времени вполне безмятежно жили повсеместно на территории Римской империи даже с наступлением беспокойных лет. Христианам жилось похуже, хотя их религию власти не очень-то отличали от иудаизма; для римлян она представлялась, в конце-то концов, одним из вариантов еврейского единобожия, предположительно, с теми же самыми утверждениями. Судя по подвигу первомученика Стефана и злоключениям апостола Павла, как раз евреи, а не римляне первыми придумали казнь через распятие на кресте. Именно еврейский царь Ирод Агриппа, который, если верить авторам Деяний святых апостолов, первым учинил гонения на еврейскую общину в Иерусалиме. Кое-кому из ученых даже казалось вполне правдоподобным то, что Нерон, подыскивавший козла отпущения за великий римский пожар, случившийся в 64 году н. э., заставил враждебно настроенных евреев указать ему на христиан. Кто бы ни организовал массовые казни христиан (в ходе них согласно известной христианской легенде погибли святой Петр и святой Павел), которые сопровождались леденящими душу кровавыми представлениями на арене, все-таки ими на продолжительное время закончились какие-либо официальные гонения римлян на христиан. Христиане никогда не поднимали оружия против римлян во время еврейских восстаний, и власти должны были по достоинству оценить их лояльность.
В начале II века н. э. в административных документах появляются упоминания о христианах как о заслуживающей внимания правительства категории подданных империи. Обоснованием такого внимания служит откровенная непочтительность, которую христиане к тому времени демонстрировали через отказ в пожертвованиях императору и римским божествам. Именно этим они тогда отличались от остальных граждан Римской империи. Евреи обладали правом на отказ; им принадлежал исторический культ, признававшийся римлянами – как они всегда признавали подобные культы, когда взяли Иудею под свое управление. Теперь христиан со всей очевидностью отличали от евреев, и их считали недавним «изобретением». И все-таки отношение римлян к ним состояло в том, что при всей неправомерности христианства его не следовало подвергать всеобщим гонениям. Если же подозревались нарушения закона (а отказ от пожертвований к ним относился), власти применяли наказания, когда в суде такие подозрения удавалось квалифицировать и должным образом обосновать. В результате появились многочисленные мученики, так как христиане отвергали благонамеренные попытки римских государственных служащих убедить их нести пожертвования или отказаться от своего Бога. Однако системных попыток уничтожить христиан властями не предпринималось.
Враждебность властей на самом деле представляла намного меньшую опасность, чем ненависть соотечественников. После завершения II века появляются новые свидетельства массовых погромов и нападений на христиан, не пользовавшихся защитой властей в силу приверженности не признанному по закону вероисповеданию. Иногда их могли использовать в качестве козлов отпущения, когда это было выгодно администрации, или громоотводов, бравших на себя опасные напряжения, возникавшие в обществе. Носителям общественного сознания суеверного века легко было внушить преступления христиан перед богами, обрушившими на народ голод, наводнения, чуму и прочие стихийные бедствия. В мире, где еще не изобрели иные приемы объяснения природных катаклизмов, какие-либо еще одинаково убедительные объяснения таких явлений отсутствовали. Христиан подозревали в черной магии, кровосмешении, даже людоедстве (предположение, несомненно, объяснимое с точки зрения вводящих в заблуждение сообщений о евхаристии – причастии). Христиане собирались тайно по ночам. Более определенно, хотя нам не дано судить о масштабе всего этого, христиане вызывали страх контролем приверженцев их вероучения над всей привычной структурой, которой регулировались и определялись надлежащие отношения родителей и детей, мужей и жен, хозяев и рабов. Они провозглашали, что в учении Христа отсутствовали оковы, но и вольницы не предусматривалось и что пришел Он, чтобы принести не мир, но секущий меч семьям и друзьям. Язычникам хватало прозорливости, чтобы ощутить опасность в таких воззрениях.
Величайший вклад христианства в грядущую западную цивилизацию состоял в последовательном пророческом и индивидуалистическом утверждении того, что жизнь следует строить с оглядкой на нравственный ориентир, независимый не только от правительства, но и любого другого исключительного человеческого авторитета. В этой связи совсем несложно понять причины вспышек гнева в крупных провинциальных городах, таких как случились в Смирне в 165 году или в Лионе в 177-м. Они послужили популярным аспектом усиления оппозиции христианству, у которого был интеллектуальный аналог в виде первых нападок на новый культ со стороны писателей-язычников.
Гонения выглядели не единственной опасностью, грозящей церкви на заре ее существования. Их можно назвать самой мелкой угрозой ей. Гораздо серьезнее представлялась угроза того, что она просто разовьется в еще один своего рода культ, многочисленные примеры которого можно встретить в Римской империи, и в конечном счете ее поглотила бы загадочная трясина древней религии. По всему Ближнему Востоку обнаруживались примеры «таинственных религий», сердцевиной которых было приобщение верующих к тайному знанию посвящения, сосредоточенному на конкретном боге (одним из популярных божеств была египетская Исида, вторым – персидский Митра). Практически всегда верующему человеку предлагали шанс соединить себя с божественным существом во время церемонии с инсценировкой смерти и воскрешения, и таким манером имитировалось преодоление смертности. Служители таких культов предлагали через свои выразительные обряды покой и освобождение от искушения, чего многие и жаждали. Они пользовались большой популярностью.
Реальную опасность развития христианства по такому пути показала роль гностиков, которую они сыграли во II веке. Их название происходит от греческого слова гнозис, означающее «знание»: знание, которое христианские гностики относили к тайной, эзотерической традиции, доступной далеко не всем христианам, а только немногим из них (по одной версии, им владели только апостолы и представители секты, которым впоследствии его доверили). Некоторые из их представлений пришли из зороастрийских, индуистских и буддистских источников, в которых обращалось внимание на противоречие духа и материи в том ключе, из-за которого случилось искажение иудейско-христианской традиции; кое-что пришло из астрологии и даже магии. При такой двойственности всегда возникало искушение причисления добра и зла к противоположным принципам и объектам, а также опровержения благости творения всего сущего.
Гностики выступали хулителями этого света и в некоторых своих системах доходили до уныния, типичного для проповедников таинственных культов; спасение души виделось возможным только лишь через приобретение навыков колдовства, тайн посвященных избранников судьбы. Кое-кто из гностиков даже видел во Христе не спасителя, который подтвердил и обновил обет, а того, кто освободил людей от заблуждения Иеговы. Это вероучение считается опасным в любом проявлении, так как его адепты подрубают корни надежды, служащей душой христианского богооткровения. Они отвернулись от искупления здесь и сейчас, из-за которого христианам не пристало впадать в полное уныние, так как они восприняли иудейский обычай, что Бог создал этот мир и мир был добро.
Во II столетии, с его общинами, рассеянными всюду, где существовала еврейская диаспора, и их вполне основательными организационными фундаментами, христианство тем самым вроде бы оказалось на распутье дорог, каждая из которых могла оказаться фатальной для него. Если бы христианство отвернулось от воплощения в жизнь заветов апостола Павла и осталось просто еврейской ересью, его со временем в лучшем случае опять поглотила бы иудейская традиция; в то же время бегство от еврейства, которое его отвергло, могло толкнуть христиан в объятия эллинского мира таинственных культов или бросить в безысходность гностиков. Благодаря горстке мужчин оно избежало обоих этих вариантов и превратилось в обещание спасения каждому отдельному человеку.
Достижение Отцов Церкви, которые провели свою паству через эти опасности, при всем его нравственном и благочестивом содержании было прежде всего интеллектуальным. Их взбадривала опасность складывавшейся ситуации. Ириней, в 177 году н. э. пришедший на смену преданному мученической смерти епископу Лиона, предложил первый великий набросок христианской доктрины, догму и определение писаного канона. Благодаря его нововведениям христианство удалось отделить от иудаизма. Но он к тому же писал свои наброски на фоне вызовов со стороны еретических верований. В 172 году собрался первый Поместный собор, чтобы отмежеваться от догматов гностиков. Христианская догма подверглась сжатию до интеллектуальной респектабельности в связи с потребностью оказания сопротивления нажиму со стороны соперников. Ересь и православие шли рука об руку, как близнецы по рождению. Одним из кормчих, управлявших судном зарождавшегося христианского богословия в данный период истории, был необычайно образованный христианский платоник Климент Александрийский (вероятно, родившийся в Афинах), через труды которого христиане пришли к пониманию того, что, кроме мистерий, могла означать эллинская традиция. В частности, он направил христиан к изучению наследия Платона. Своему превзошедшему наставника ученику Оригену он передал мысль о том, что правда Бога была разумной правдой, верой, способной привлечь на свою сторону людей, образованных на представлении стоиков о действительности.
Интеллектуальный порыв ранних отцов церкви и врожденная социальная привлекательность христианства позволили использовать его огромные возможности, состоявшие в рассеянности и экспансии паствы, унаследованные от структуры классического и последующего римского мира. Проповедники христианства могли свободно путешествовать, а также общаться и переписываться друг с другом на греческом языке. Великое преимущество заключалось в его появлении в религиозную эпоху; нелепое легковерие II века скрывалось под глубокими вожделениями. Они служат намеком на то, что жизненная энергия канонического мира уже сходит на нет; греческое достояние требовало пополнения, а источник пополнения виделся в новых вероучениях. Философия превратилась в своего рода инструмент духовного поиска, а рационализм или скептицизм сохранил привлекательность только для уходящего в бесконечность меньшинства. Но даже в такой вселяющей надежды обстановке перед церковью стояла одна важная задача; христианство на заре своего существования следует рассматривать в постоянном контексте взаимодействия с процветающими соперниками. Рождение в религиозную эпоху сулило такие же выгоды, как и опасности. То, насколько успешно христианство встретило угрозу и воспользовалось выпавшим ему шансом, будет видно на переломе в III веке, когда канонический мир практически рухнул и сохранился исключительно за счет колоссальных, и в конце губительных, уступок.
После 200 года н. э. появляется множество признаков того, что римляне стали смотреть на свое прошлое по-новому. Они постоянно говорили о золотых веках прошлого, сладострастно впадая в обывательскую ностальгию. Но в III столетии пришло нечто новое, с ощущением упадка в сознании. Историки говорят о каком-то «надломе», но его наиболее очевидные проявления фактически удалось преодолеть. Изменения, проведенные римлянами или согласованные ими к 300 году, послужили возрождению надежд на светлое будущее практически всей классической средиземноморской цивилизации. Они даже могли сыграть решающую роль в передаче многих черт этой цивилизации новым поколениям преемников. Тем не менее эти изменения не обошлись совсем без последствий, так как некоторые из них оказались чрезвычайно разрушительными для самого духа той же цивилизации. Деятели, занимающиеся восстановлением чего-то ушедшего, зачастую всего лишь бессознательно подражают предшественникам. Приблизительно в начале IV столетия мы можем ощутить, что баланс качнулся в сторону, противоположную сохранению средиземноморского наследия. Его легче чувствовать, чем увидеть то, что стало решающим моментом. Такие знаки представляют собой внезапное умножение зловещих нововведений – административная структура империи восстановлена на новых принципах, ее идеология претерпела преобразования, религия некогда никому не известной еврейской секты превращается в формальное православие, а просторные участки территории физически отдаются поселенцам из-за рубежа, иноземным переселенцам. Еще столетие спустя и в качестве последствия от этих изменений происходит явное политическое и культурное разъединение.
В этом процессе важную роль играли взлеты и падения имперского авторитета. К концу II столетия н. э. каноническая цивилизация приобрела общие границы с Римской империей. Господствующее положение в ней занимала концепция романита, означавшая римский подход ко всем делам. Из-за нее первопричиной всего, что в империи шло не так, как надо, можно назвать недостатки системы ее управления. Кабинет императора перестал занимать, как при притворявшемся его хозяином Августе, ставленник сената и избранник народа; в реальной жизни появился полновластный монарх, жестокость правления которого сдерживалась разве что такими практическими соображениями, как умиротворение преторианской гвардии, от которой зависела его жизнь. Серией гражданских войн, разгоревшихся вслед за вступлением на престол последнего, причем не достойного своего чина, императора династии Антонинов в 180 году открылась ужасная эпоха. Этого испорченного человека по имени Коммод задушил раб-атлет по распоряжению любовницы самого императора и управляющего двором в 192 году, но убийство ненавистного правителя ничего не решило. В результате борьбы четырех «императоров», продолжавшейся несколько месяцев после убийства Коммода, появился Луций Септимий Север из провинции Африка, женатый на сирийке, который стремился основывать империю на принципе престолонаследия через попытку связать свою собственную семью родственными узами с Антонинами и тем самым воспользоваться одним из фундаментальных конституционных упущений.
Таким образом он отрицал факт своего собственного успеха. Север, как его соперники, был выдвиженцем одной из провинциальных армий. В III веке императоров на самом деле назначали военные, и их сила коренилась в тенденции империи к дроблению. К тому же без военных было совсем не обойтись; из-за угрозы варваров, теперь нависавшей одновременно на нескольких участках границы, численность армии следовало увеличивать, а ее командование всячески ублажать. В результате возникла дилемма, решать которую предстояло императорам на протяжении следующего столетия. Сын Севера Каракалла, который осмотрительно начал свое правление с щедрого подкупа военных, тем не менее тоже умер не своей смертью.
В теории за сенатом сохранялось право на назначение императора. Фактически же власть его распространялась не дальше одобрения своим авторитетом одного кандидата на престол из многочисленных претендентов. Сильным козырем сенатскую поддержку назвать трудно, но с точки зрения нравственного эффекта сохранения старых форм что-то позитивное все-таки в ней содержалось. Как бы там ни было, подобные маневры служили обострению скрытого антагонизма между сенатом и императором. Север передал больше полномочий чиновникам, набранным из сословия всадников, по социальному положению стоящего ниже клана сенаторов. Каракалла рассудил так, что чистка сената ему поможет, и сделал решительный шаг к авторитарному правлению. Его примеру последовали новые императоры из военного сословия; в скором времени появился первый римский император, не имевший отношения к отряду сенаторов, хотя происходил из сословия тех же эквитов (всадников). Дальше – хуже. В 235 году огромного роста и физической силы бывший ратник рейнского легиона Максимин взошел на престол, на который претендовал восьмидесятилетний кандидат из Африки, пользовавшийся поддержкой африканской армии и даже сената. Многие императоры погибли от рук собственных солдат; один погиб в схватке со своим главнокомандующим в бою (его победителя впоследствии убили готы, а выдал его им предатель из числа командиров). Столетие тогда выдалось ужасное; в общем и целом пришли и ушли 22 римских императора, и в это число не входят претенденты (или такие императоры наполовину, как Марк Кассианий Латиний Постум, который на некоторое время провозгласил себя правителем Галльской империи и тем самым предвосхитил предстоящий раскол Римской империи).
Притом что Север своими реформами на какое-то время сумел поправить дела империи, шаткость положения его преемников послужила ускорению заката в управлении государством. Каракалла последним из императоров попытался расширить базу налогообложения, провозгласив всех вольных обитателей своей империи римскими гражданами, на которых распространялся налог на наследство, но ни на какую радикальную финансовую реформу он не решился. С учетом неотложных дел, которыми необходимо было заниматься, и имевшихся в наличии ресурсов закат империи выглядит по большому счету неизбежным. С утратой надлежащей организованности и импровизациями во всем расцвели жадность и продажность, так как те, кто пробрался к власти или на должность, использовали их исключительно в своих шкурных интересах. К этому прибавилась еще одна проблема: хозяйственная слабость империи, проявившаяся в III столетии.
Особых обобщений по поводу того, что это означало для потребителя и поставщика, не требуется. При всей продуманности и тщательной организации сети городов хозяйственная жизнь империи всецело вращалась вокруг земледелия. Ее основой служило сельское имение с большим или маленьким домом, которое считалось основной единицей производства, а во многих местах к тому же и общественного объединения. Такие имения являлись источником пропитания для всех тех, кто жил на их территориях (а это практически все сельское население). Быть может, поэтому большинство населения сельской местности не ощущало всей тяжести долгосрочных зигзагов экономики, зато страдало от реквизиций и утяжеления бремени налогообложения, ставшего результатом прекращения экспансии империи; армии приходилось содержать на сузившейся базе ресурсов. Иногда к тому же возделанные на полях посевы гибли из-за разворачивавшихся там сражений. Но земледельцы существовали на прожиточном минимуме, не вылезали из нищеты, и ничего в их жизни не менялось, будь они крепостными или вольными. По мере ухудшения их благосостояния, некоторая часть земледельцев соглашалась на положение смердов, предлагавшее такую систему хозяйствования, при которой внесение денег можно было заменить расчетом товарами и подневольным трудом. Смутные времена порождали еще и такие явления, как переселение земледельцев в города или образование шаек разбойников; мужчины искали заступничества везде, где только можно.
Реквизиция и повышение ставок налогов в некоторых местах могли способствовать сокращению народонаселения, хотя в IV веке находится больше свидетельств такого явления, чем в III. И с точки зрения сокращения населения такие меры представляются весьма пагубными для империи. В любом случае реквизиции и обременительные налоги можно назвать мерами пристрастными, так как многие богачи освобождались от налогов, и владельцы поместий не слишком сильно страдали во времена роста цен, если только не теряли благоразумия. Преемственность многих владевших крупными имениями семей в древности не позволяет полагать, что проблемы III века сильно сократили их ресурсы.
Администрация и армия острее других ощущали пагубное воздействие практически всех экономических проблем, и особенно главного зла того времени в виде роста цен. Их источники и глубину сложно определить, и они все еще вызывают споры у историков. Одной из причин бед называют официальное снижение содержания благородного металла в монетах, усугубившееся необходимостью выплаты в слитках дани варварам, которых время от времени надежнее всего умиротворяли с помощью этого средства. Но вторжения варваров сами по себе служили причиной нарушения доставки дани, и это снова шло во вред городам, где росли цены на товары и услуги. Так как денежное довольствие солдатам устанавливалось на фиксированном уровне, его фактическая величина уменьшалась (поэтому солдаты беспрекословно слушались военачальников, предлагавших им щедрые взятки). Притом что конкретные факты оценке поддаются с трудом, высказывается предположение относительно того, что ценность денег в течение того столетия от их изначального уровня могла снизиться в 50 раз.
Такой спад одновременно проявился в делах городов и в финансовой практике властей империи. Начиная с III века и позже многие города ужались в размере и стали более сдержанными во внешнем проявлении богатства; преемники периода раннего Средневековья выглядели бледными отражениями тех величавых мест, которыми они когда-то представлялись. Одной из причин считали повышенную настойчивость императорских сборщиков налогов. С начала IV века из-за обесценивания монет императорским чиновникам пришлось взимать налоги в натуральном виде. И подобные поступления зачастую использовали непосредственно для снабжения местных гарнизонов, но также они шли на оплату услуг государственных служащих. И при таком фискальном выверте все больше теряло поддержку населения не только правительство, но также куриалы, или муниципальные служащие, выполнявшие задачу по сбору таких податей. К 300 году их часто на такие должности назначали принудительно, и это служило верным признаком того, что когда-то желанные почести превратились в требующую напряженного труда обузу. Некоторым городам был к тому же нанесен фактический физический урон, особенно тем, что находились в пограничных областях. Значительным представляется тот факт, что ближе к завершению III века вокруг городов, находившихся в глубине территории империи, начали восстанавливать (или возводить заново) стены для их защиты. В Риме приступили к фортификационным работам вскоре после 270 года.
Между тем армия постоянно увеличивалась в размере. Для того чтобы не пускать варваров внутрь империи, этой армии следовало платить, она к тому же нуждалась в пропитании и вооружении. Однако, если варваров не отгонять от границ силой, им пришлось бы платить дань. Но бороться приходилось не с одними лишь варварами. Только в Африке граница империи с соседями Рима выглядела относительно спокойной (потому что там не было соседей, достойных особого внимания). В Азии дела обстояли гораздо мрачнее. Еще со времен Суллы холодная война с Парфянским царством время от времени перерастала в полномасштабное вооруженное столкновение. К полному и окончательному примирению римляне и парфяне не могли прийти по двум причинам. Первая заключалась в пересечении сфер их интересов. Наиболее наглядно оно просматривалось в Армении, царстве, которое поочередно служило буфером и предметом бесконечных споров между ними в течение полутора веков. Но парфяне к тому же вмешивались в потревоженные воды еврейских мятежей. А они для Рима оставались весьма деликатным делом. Еще один источник беспокойства находился в искушении, постоянно появлявшемся у Рима из-за собственных внутренних династических проблем Парфянского царства.

Такого рода факторы уже приводили во II веке н. э. к кровопролитной схватке за обладание Арменией, подробности которой до нас дошли в очень расплывчатом виде. Север как-то вторгся на территорию Месопотамии, но ему пришлось вывести свои войска; слишком уж далеко находились месопотамские долины. Римляне старались хвататься за слишком много дел сразу и поэтому столкнулись с классической проблемой чрезмерного напряжения империализма. Но их противники тоже утратили былую прыть и пребывали в упадке. Письменные документы парфян сохранились во фрагментарном виде, свидетельства истощении сил и всеохватывающей некомпетентности проявляются даже в чеканке монет, изображения на которых читаются неясно и выглядят как смазанные подобия древних эллинизированнных эскизов.
В III веке Парфянское царство исчезло, но угроза Риму с Востока сохранилась. В истории старой области персидской цивилизации наступил поворотный момент. Около 225 года царь по имени Ардашир Папакан (позже известный на Западе в греческой передаче как Артаксеркс) убил последнего монарха Парфянского царства и взошел на престол Ктесифона. Ему предстояло воссоздать Ахеменидскую империю Персии под управлением новой династии – Сасанидов, выступавшей величайшим антагонистом Рима на протяжении 400 с лишним лет. В этом наблюдается огромная преемственность; империя Сасанидов принадлежала зороастрийской ветви вероисповедания, каким было Парфянское царство, и возродилась ахеменидская традиция, как это произошло во времена Парфянского царства.
Через несколько лет персы вторглись в пределы Сирии, и с тех пор три столетия шла борьба с Римской империей. В III веке не было ни одного десятилетия без войны. Решительная попытка римлян прогнать Сасанидов назад в 260 году закончилась катастрофой. Император Валериан I, возглавивший римское войско, попал в плен к персам и числится единственным римским императором, которому когда-либо выпадала такая судьба: умереть в плену у иноземцев. Персидский шахиншах Шапур I после смерти незадачливого римского императора в плену якобы приказал снять с тела Валериана кожу и хранил изготовленное из него чучело в качестве боевого трофея. Весь остаток III столетия сражения шли то тут, то там, но ни одной из держав не удалось одержать решающего превосходства над другой. Все вылилось в затянувшееся и ожесточенное соперничество. Своего рода равновесие установилось на весь IV и V века. Так что только в VI столетии наметился заметный перелом. Между тем появились коммерческие связи. Хотя торговля на границе официально ограничивалась тремя формально назначенными городами, крупные колонии персидских купцов ожили во всех крупных городах Римской империи. Более того, через Персию пролегали торговые маршруты в Индию и Китай, которые представлялись настолько же жизненно важными для римских экспортеров товаров, как и для тех, кто нуждался в восточном шелке, хлопке и специях. Все-таки такие связи не отменяли наличия остальных факторов. Когда обходилось без войны, эти две империи как-то умудрялись сосуществовать, пряча холодную и благоразумную враждебность; их отношения осложнялись наличием общин и народов, осевших с обеих сторон границы, поэтому постоянно существовала опасность нарушения стратегического баланса из-за любого изменения в одном из буферных царств – в Армении, например. Последний тур открытой борьбы долго откладывался, и его время наконец-то наступило в VI веке.
Но не будем забегать слишком далеко вперед; к тому времени в Римской империи произошли огромные изменения, требующие объяснений. Одним из источников нажима, стимулирующего их, был рациональный динамизм монархии Сасанидов. Второй исходил от варваров, обитавших вдоль границ по Дунаю и Рейну; причину переселения народов, двигавшего ими в III веке и после, следует искать в протяженном развитии, и оно не так важно, как его результат. Эти народы становились все более упорными в своих намерениях, действовали большими массами, и в конце концов им пришлось позволить осесть внутри римской территории. Здесь их сначала использовали в качестве солдат, призванных защитить империю от других варваров, а затем переселенцы постепенно начали прибирать к рукам управление самой империей.


