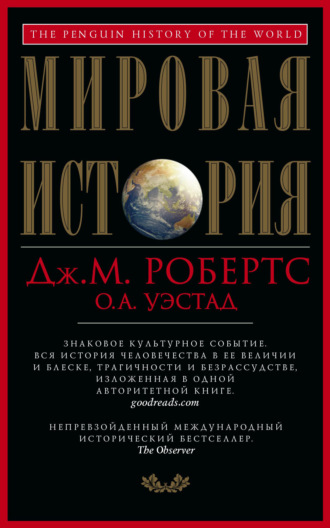
Джон М. Робертс
Мировая история
Птолемей Сотер, считающийся одним из лучших генералов Александра, захватил власть в Египте сразу после смерти своего господина, и туда же он впоследствии перевез ценный трофей в виде тела Александра Великого. Потомкам Птолемея предстояло править его провинцией на протяжении без малого 300 лет до смерти легендарной Клеопатры в 30 году до н. э. Египет при династии Птолемеев оказался самым живучим и богатым из государств – преемников империи Александра Македонского. Из азиатской части империи индийские территории и часть Афганистана ушли из рук греков целиком, так как их пришлось уступить индийскому правителю в обмен на военную помощь. Оставшаяся от нее часть к 300 году до н. э. представляла собой огромное царство площадью 28,5 миллиона квадратных километров с приблизительно 30 миллионами подданных. Она простиралась от Афганистана до Сирии, а столица находилась в Антиохии. Этой обширной вотчиной правили потомки еще одного македонского полководца по имени Селевк. Из-за набегов кочевых кельтов, забредавших из Северной Европы (которые уже вторглись в саму Македонию), в начале III века до н. э. произошло ее частичное разобщение, и отколовшаяся от нее территория впоследствии превратилась в вотчину царства Пергам, которым правила династия так называемых Атталидов, выдавивших кельтов дальше вглубь Малой Азии. Селевкидам перепали остальные территории, хотя в 225 году до н. э. им пришлось уступить Бактрию, где потомки воинов Александра образовали знаменитое греческое царство. Македонцы при правлении еще одной династии – Антигонидов попытались сохранить контроль над греческими государствами, оспаривавшимися в Эгейском море флотом Птолемеев, а в Малой Азии – селевкидами. Около 265 года до н. э. афиняне предприняли очередную попытку обрести независимость, но потерпели неудачу.
Эти события выглядят сложными, но не представляют большой важности для нашего повествования. Значение имело то, что на протяжении около 60 лет после 280 года до н. э. эллинские царства пребывали в относительном равновесии сил, занятые событиями в Восточном Средиземноморье и Азии и, за исключением греков и македонцев, обращая мало внимания на события, происходившие дальше на западе. Сложились мирные условия для самого активного распространения вширь греческой культуры, и с такой точки зрения эти государства представляли большую важность. Именно своим вкладом в распространение и рост цивилизации они привлекают наше внимание, а не туманной политикой и неблагодарной междоусобицей диадохов.
Греческий язык теперь считался официальным языком на всем Ближнем Востоке; но гораздо важнее то, что он был языком общения жителей городов, служивших очагами нового мира. При династии Селевкидов союз эллинской и восточной цивилизаций, о котором мог мечтать Александр Македонский, начал обретать реальные очертания. Селевкиды собирали всех греческих переселенцев и основывали новые города везде, где они могли служить средством укрепления структуры их империи и эллинизации местного населения. Власть Селевкидов сосредоточивалась в городах, поскольку за их пределами простирались районы обитания разнообразных местных племен, персидских сатрапий и вассалов. В основе административной системы селевкидов все еще лежали сатрапии; теорию абсолютизма цари Селевкидов унаследовали у Ахеменидов, а также их систему налогообложения.
В появлении новых городов отразился экономический рост, а также здравость политики властей. Победоносные участники войн Александра и продолжателей его дела завладели огромной добычей, большую часть которой составляли слитки золота, накопленные правителями персидской империи. Добытые трофеи пошли на стимулирование хозяйственной жизни по всему Ближнему Востоку, но к тому же принесли бедствия инфляции и нестабильности. Однако, как бы там ни было, в целом все шло к дальнейшему накоплению богатства. Никаких нововведений не внедрялось ни в ремесленное производство, ни в освоение новых природных ресурсов. Средиземноморская экономика оставалась практически тем, чем всегда была, разве что вырос ее масштаб. Зато эллинская цивилизация стала богаче своих предшественников, и прирост населения служил одним из показателей этого.
По развалинам эллинских городов можно судить о затратах на внешние атрибуты греческой городской жизни; в избытке строили театры и гимназии, во всех городах проводились спортивные игры и праздничные мероприятия. Местное сельское население, вносившее подати и в некоторой своей части негодовавшее по поводу того, что теперь называют «вестернизацией», вряд ли приглашали на все эти городские мероприятия. Тем не менее солидные достижения были налицо. Через города удалось провести эллинизацию Ближнего Востока в том виде, в каком он оставался до прихода ислама. В скором времени здесь появляется собственная греческая литература.

Все-таки притом, что здесь прижилась цивилизация греческих городов, по своему духу она отличалась от цивилизации прошлого, как это с горечью отмечала некоторая часть греков. Македонцы никогда не знали жизни города-государства, и в их творениях в Азии отсутствовала сущность таких городов; Селевкиды основали множество городов, но над ними сохранили старую автократическую и централизованную администрацию сатрапий. Мощное развитие получила бюрократия, а самоуправление зачахло. Как ни странно, наряду с ответственностью за ликвидацию последствий стихийных бедствий, лежавшей на них с прошлого, города самой Греции, где сохранялась едва тлеющая традиция независимости, представлялись той частью эллинского мира, которая фактически переживала экономический и демографический упадок.
Хотя политический кураж из городов ушел, городская культура все еще служила великим механизмом передачи греческих воззрений на мир. Огромный интеллектуальный капитал можно было позаимствовать в двух крупнейших библиотеках древнего мира, открытых в Александрии и Пергаме. Птолемей I к тому же основал свой Музей, представлявший собой своего рода учреждение передового просвещения. В Пергаме один царь жертвовал средства наставникам, и в том же Пергаме народ усовершенствовал использование пергамента, когда Птолемеи прекратили поставку папируса. В Афинах сохранились Академия и Лицей, и эти учреждения способствовали повсеместному оживлению традиции греческой интеллектуальной деятельности свежими мыслями. В таких заведениях велась в основном деятельность в узком смысле академическая, то есть по большому счету подыскивались достойные толкования былых достижений, но зато она находилась на высоком качественном уровне и теперь представляется малозначимой из-за грандиозных достижений ученых V и IV веков до н. э. Эта традиция была достаточно прочной, чтобы выдержать испытание временем на протяжении даже христианской эры, хотя значительная ее содержательная часть безвозвратно утрачена. Со временем мир ислама воспримет учение Платона и Аристотеля через наследие эллинских грамотеев-наставников.
Наилучшим образом в эллинской цивилизации сохранилась греческая традиция в науке, и здесь выдающаяся роль принадлежит Александрии, как крупнейшему из всех эллинских городов. Величайшим специалистом в области систематизации геометрии считается Евклид, определявший путь развития этой науки вплоть до XIX века, а Архимед, известный своими практическими достижениями в разработке конструкции боевых устройств на Сицилии, числится предположительным учеником Евклида. Еще один александриец по имени Эратосфен первым из представителей рода человеческого вычислил размеры Земли, а эллинский грек Аристарх Самосский договорился до того, что Земля вращается вокруг Солнца, хотя его взгляды отвергли современники и потомки потому, что они противоречили принципам Аристотелевой физики, построенным на противоположном принципе. Архимед добился больших успехов в развитии гидростатики (он к тому же изобрел ворот), но главные достижения носителей греческой традиции всегда лежали в области математики, а не прикладных дисциплин, и в эллинские времена греческие математики достигли своих высот в теории конических сечений и эллипсов, а также заложили основы тригонометрии.
Они послужили важными дополнениями к инструментальному набору познания мира человечеством. И все же они не настолько определенно выглядели достижениями эллинской нравственной и политической философии по сравнению с тем, что было раньше. Представляется заманчивой попытка отыскать причину этого в политических изменениях при переходе от города-государства к более крупным государственным образованиям. В тех же Афинах философия нашла свой величайший центр развития, и Аристотель надеялся возродить этот город-государство; в достойных руках, думал этот философ, в нем могли бы появиться условия для лучшей жизни. Но, возможно, из-за необходимости произвести благоприятное впечатление на представителей остальных национальностей, в силу, возможно, несомненной привлекательности для них мира за пределами греческой культуры, новые монархи все больше склонялись к восточным культам, положенным личности правителя. Такое почитание царя уходило корнями в месопотамскую и египетскую старину. Между тем настоящим основанием эллинистических государств служила бюрократия, причем не обузданная традициями гражданственной независимости (так как большинство греческих городов в Азии основали или восстановили Селевкиды, все, что они давали, они же могли и забрать), и армии греческих и македонских наемников, освободивших их от зависимости, привязанной к местным ратникам. Какими бы могущественными и внушающими страх они ни были, в таких структурах обнаруживалось мало качеств, способных внушить их разношерстым подданным лояльность и эмоциональную привязанность.
В некотором роде эллинистический триумф греческой культуры выглядел обманчиво. Греческий язык все еще использовался, но некоторые его слова приобретали иное значение. Греческая религия, например, как великая объединяющая эллинов сила пребывала в упадке, и греческий рационализм V века до н. э. вместе с ней. Такой крах традиционной системы ценностей послужил предпосылкой к переменам в области философской мысли. Изучение философии в самой Греции все еще велось весьма энергично, и даже здесь представители эллинистической ветви предположили, что люди возвращаются к своим личным проблемам, отстраняются от общества, на которое не могут повлиять, ища убежища от ударов судьбы и трудностей повседневной жизни. Похоже, ничего нового в этом нет. Вспомним хотя бы Эпикура, искавшего благо исключительно в личных человеческих удовольствиях. Вопреки появившимся позже искаженным толкованиям он подразумевал под этим нечто далекое от потакания своим слабостям. Удовольствием Эпикуру служила субъективная удовлетворенность и отсутствие боли. Такое представление об удовольствии для современного человека выглядит аскетичным. Но с точки зрения симптоматики его важность представляется значительной, потому что в нем просматривается устремление человеческого увлечения в сторону частного и личного.
Другая форма этой философской реакции выразилась в отстаивании идеалов самоотречения и неприсоединения. Представители школы, известной как школа киников, отказались от общепризнанных норм жизни и старались избавиться от радостей окружающего их материального мира. Один из них – киприот по имени Зенон, живший в Афинах, стал пропагандировать собственную доктрину в общественном месте – в расписном портике stoa Poikile. По месту сбора учеников Зенона его школу назвали школой стоиков. Стоики заняли место среди наиболее влиятельных философов, потому что их учение казалось легко применимым к повседневной жизни. По большому счету стоики проповедовали ту истину, что жизнь следует прожить в соответствии с разумным порядком, позаимствованным у движения Вселенной. Человек не может повлиять на то, что с ним происходит, говорили они, но он может принять послания судьбы, распоряжение воли Всевышнего, в которого они верили. Благие дела, соответственно, не следует совершать ради ожидаемой похвалы, ведь они могут не получиться или принести зло. Совершать их надо ради них самих и приносимой ими пользы.
В стоицизме, пользовавшемся большой популярностью в эллинистическом мире, заложена доктрина, придающая человеку новую опору для нравственной веры в то время, когда авторитетом больше не пользовался ни полис, ни традиционная греческая религия. Стоицизм к тому же обладал потенциалом на долгую жизнь, потому что он отвечал чаяниям всех людей, которые согласно этому учению уравнивались в правах: в нем содержалось зерно нравственного всеспасения, через которое постепенно изживалось старинное различие между греком и варваром, а также любое другое различие между благоразумными людьми. Оно взывало к общей человечности и фактически выражало осуждение рабству, что представляется потрясающим шагом в мире, построенном на принудительном труде. Стоицизму предстояло послужить плодотворным источником для мыслителей на протяжении двух тысяч лет. В скором времени его этика дисциплинированного здравого смысла должна будет удостоиться великого успеха в Риме.
У философии, таким образом, появились признаки эклектизма и космополитизма, которые бросаются в глаза практически в любом аспекте эллинской культуры. Возможно, их самым наглядным отображением послужило приспособление греческой скульптуры к монументальной скульптуре Востока, мастер которой произвел таких чудовищ, как тридцатиметровый Колосс Родосский; все же в конечном счете эклектизм и космополитизм проявились в устремлениях стоиков точно так же, как в экзотических восточных культах, пришедших на смену греческим богам. Ученый Эратосфен сказал, что он видел во всех добрых людях своих соотечественников, и в данном замечании выражается новый дух эллинизма в его лучших проявлениях.
Политическая конструкция этого мира, в конце концов, стремилась к переменам, так как источники перемен появлялись помимо человеческой воли. Одним из ранних предзнаменований грядущих перемен стало появление новой угрозы с востока в виде Парфянского царства. К середине III столетия до н. э. слабость, обусловленная сосредоточением династией Селевкидов населения и богатства в западной половине их царства, потребовала безотлагательно заняться отношениями с остальными эллинскими государствами. С северо-востока, как всегда, угрожали степные кочевники, но правительство отвлеклось от этой опасности на добывание денег и ресурсов, необходимых для ведения споров с птолемеевским Египтом. Искушение для находившегося вдали сатрапа действовать по своему собственному усмотрению в качестве военачальника подчас было просто непреодолимым. Ученые не сходятся в деталях, но одной из сатрапий, где предводитель не удержался от такого соблазна, было Парфянское царство, занимавшее важную область на юго-восточном побережье Каспийского моря. Ему предстояло занять еще более важное место несколько веков спустя, так как через него пролегали караванные маршруты в Центральную Азию, по которой осуществлялась связь западного классического мира с далеким Китаем по Великому шелковому пути.
Кто же были эти парфяне? Изначально они представляли собой иранскую кочевую народность, появившуюся из Центральной Евразии. Из нее в высокогорье Ирана и Месопотамии возникло некое политическое образование. Они стали символом военной выучки, так как только парфяне владели одним неоценимым навыком: они умели пускать стрелы в цель из лука на скаку. Но просуществовало их царство почти 500 лет не только за счет воинского искусства. Они к тому же унаследовали административную структуру, оставленную Селевкидам Александром Македонским, который позаимствовал ее у персов. На самом деле парфяне во многом казались наследниками, а не творцами; официальные документы их великой династии составлялись на греческом языке, и они явно не имели никакого собственного права, зато радостно согласились на уже сложившуюся практику, будь то вавилонян, персов или эллинов.
Их древняя история по большому счету остается туманной. В III столетии до н. э. в Парфянском царстве существовала какая-то монархия, центр которой не удается обнаружить до сих пор, но Селевкидам до него явно не было особого дела. Во II веке, когда династия Селевкидов полностью отвлеклась на проблемы, нависшие с запада, два брата, младшего из которых звали Митридат I, образовали Парфянскую империю, территория которой к моменту кончины Митридата простиралась от Бактрии (еще один осколок наследия Селевкидов, который в конечном счете отделился приблизительно в то же самое время, что и Парфянское царство) на востоке до Вавилонии на западе. Прекрасно помнивший судьбу тех, кто ушел в лучший мир до него, Митридат сам приказал отчеканить на своих монетах собственное положение «великий царь». После его смерти случилось несколько потерь, но его тезка Митридат II вернул утраченные позиции и пошел дальше. Селевкиды теперь увязли в проблемах Сирии. В Месопотамии границей его империи служил Евфрат, а китайцы установили с ним дипломатические отношения. На монетах второго Митридата чеканился гордый ахеменидский титул «царь царей», и напрашивается разумный вывод о том, что династия Аршакидов, к которой принадлежали Митридаты, теперь сознательно связывалась с великим персидским родом. Все-таки Парфянское государство представляется намного более свободным, чем персидское. Оно больше напоминает феодальное объединение дворян вокруг военачальника, чем забюрократизированное государство.
На Евфрате Парфянское царство должно было в конечном счете познакомиться с новой державой запада. Даже эллинские царства, находившиеся ближе к нему, чем Парфянское царство, и поэтому практически не имеющие оправдания, почти не обращали внимания на подъем Рима – этой новой звезды политического небосклона, и они пошли своим путем, не принимая во внимание то, что происходило на западе.

Западные греки, конечно, лучше знали о происходящем, но были заняты первой большой угрозой, то есть Карфагеном, противостоящим грекам в Средиземноморье. Основанный финикийцами около 800-х годов до н. э., возможно, даже тогда, чтобы прекратить греческое коммерческое влияние на маршрутах транспортировки металлов, Карфаген вырос и превзошел Тир с Сидоном в богатстве и мощи. Но он остался городом-государством, пользующимся союзами и покровительством, а не завоеваниями и гарнизонами, его граждане предпочитали торговлю и земледелие войнам. К сожалению, собственные документы Карфагена погибли, когда в конечном счете этот город стерли с лица земли в 146 году до н. э., и мы мало знаем о его истории из первых рук.
Все же он откровенно представлялся значительным коммерческим конкурентом для западных греков. К 480 году до н. э. они были ограничены в коммерческом плане чуть больше, чем долиной Роны, Италией и, прежде всего, Сицилией. Этот остров и один из его городов – Сиракузы – служил ключом к греческому западу. Сиракузы прикрыли Сицилию от карфагенян в первый раз, когда их жители схватились с ними и разбили. На протяжении практически всего V века до н. э. Карфаген больше не обеспокоил западных греков, и жители Сиракуз смогли оказать помощь греческим городам Италии в борьбе против этрусков. Тогда Сиракузы стали целью провалившейся сицилийской экспедиции из Афин (415–413 гг. до н. э.), потому что они были величайшим из западных греческих государств. Карфагеняне после этого вернулись, но Сиракузы избежали поражения, чтобы в скором времени вступить в величайший период своей власти, распространявшейся не только на сам остров, но и на Южную Италию и Адриатику. Жителей Сиракуз переполняла решимость к действию; в какой-то момент они чуть было не захватили Карфаген, и в результате еще одной экспедиции к своей Адриатической вотчине добавили Керкиру (Корфу). Но чуть позже 300-х годов до н. э. стало ясно, что карфагенская мощь росла, в то время как Сиракузам пришлось встретиться с римской угрозой на материке Италии.
Сицилийцы поссорились с человеком, который, возможно, спас их, – с Пирром Эпирским, и к середине III века до н. э. римляне стали хозяевами своего материка.
Теперь на западной арене появилось три основных персонажа, но эллинский Восток казался удивительно равнодушным к тому, что происходило (хотя Пирр знал обо всем). Такое безразличие выглядит недальновидным, но в это время римляне не видели себя мировыми завоевателями. Во время вступления в Пунические войны с Карфагеном, из которого они выйдут победителями, ими двигали в равной степени страх и алчность. Потом им предстоит обратить свой взор на восток. Кое-кто из эллинских греков к концу века начнет понимать то, что их могло ожидать. «Туча на Западе» – так называли битву между Карфагеном и Римом, за которой наблюдали на эллинизированном Востоке. Независимо от ее исхода она должна была иметь большие последствия для всего Средиземноморья. Как бы там ни было, Восток должен был доказать в таком случае, что у него найдутся собственные силы и воля для сопротивления. Как позже выразился один римлянин, Греция возьмет своих пленителей в неволю, приобщив к греческой культуре новых варваров.


