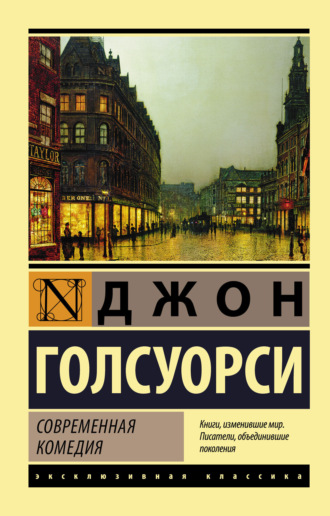
Джон Голсуорси
Современная комедия
VII
Нагая натура
В этот день, после сытного завтрака, Тони Бикету повезло. Он живо распродал шары и отправился домой, чувствуя себя победителем.
У Викторины на щеках тоже играл румянец. На его рассказ об удачном дне она ответила таким же рассказом. Правда, рассказ был выдуман – ни слова о Дэнби и Уинтере, о господине со скользящей улыбкой, о ликере, о нагой натуре. Она не испытывала угрызений совести. То была ее тайна, ее сюрприз; если дело с нагой натурой выгорит (она еще не совсем решилась) и даст ей возможность заработать деньги на дорогу – что ж, она скажет мужу, что выиграла на скачках. В тот вечер она несколько раз спрашивала: «Разве я такая уж худая, Тони? Ах как мне хочется пополнеть!»
Бикет, все еще огорченный, что она не разделила с ним завтрак, нежно погладил ее и сказал, что скоро она у него станет жирной, как масло, не объясняя, каким образом.
Им обоим снились синие бабочки, а утро встретило их тусклым светом газа и скудным завтраком из какао и хлеба с маргарином. Густой туман проглотил Бикета в десяти шагах от дверей, и с досадой на душе Викторина вернулась в спальню. Ну кто станет покупать шары в такой туман? Лучше взяться за что угодно, только бы не давать Тони дрогнуть целыми днями. Раздевшись, она тщательно вымылась – на всякий случай – и только закончила одеваться, когда квартирная хозяйка известила ее о приходе посыльного. Он принес огромный пакет с надписью: «Мистеру Бикету».
Внутри оказалась записка:
«Дорогой Бикет, вот обещанная одежка. Надеюсь, пригодится.
Майкл Монт».
Дрожащим голосом она сказала посыльному:
– Спасибо, все в порядке. Вот вам два пенса.
Когда громкий свист посыльного растаял в тумане, она в восторге набросилась на пакет. Предметы мужского обихода были отделены от дамских папиросной бумагой. Синий костюм, велюровая шляпа, коричневые штиблеты, три пары носков с двумя маленькими дырочками, четыре рубашки, только слегка потертые на обшлагах, два полосатых галстука, шесть воротничков, не совсем новых, несколько носовых платков, две замечательно плотные фуфайки, две пары кальсон и коричневое пальто с поясом и всего с двумя-тремя симпатичными пятнышками. Она прикинула синий костюм на себя: рукава и брюки придется только укоротить пальца на два, – сложила вещи стопкой и благоговейно взялась за то, что лежало под папиросной бумагой. Коричневое вязаное платье с маленькими прозрачными желтыми пуговками – совершенно чистое, даже не смятое. Как можно отдавать такие вещи? Коричневая бархатная шапочка с пучком золотистых перьев. Викторина тут же надела ее. Розовый пояс, только чуть-чуть полинявший на косточках, чуть повыше и пониже талии, с розовыми шелковыми лентами и подвязками – прямо мечта! Она не могла удержаться, надела и пояс. Две пары коричневых чулок, коричневые туфли, две комбинации и вязаная кофточка. Белый шелковый джемпер с дырочкой на одном рукаве, юбка сиреневого полотна, немного полинявшая, пара бледно-розовых шелковых панталон, и подо всем этим – темно-коричневое длинное пальто, теплое и уютное, с большими агатовыми пуговицами, а в кармане – шесть маленьких носовых платков. Она глубоко вдохнула сладкий запах – герань!
Ее охватил целый вихрь мыслей. Одеты, обуты с ног до головы: синие бабочки, солнце! Не хватает только денег на проезд. И вдруг она увидела себя совсем раздетой, перед джентльменом со скользящими глазами. Ну и что же? Зато деньги!
Весь остаток утра она лихорадочно работала, укорачивая костюм Тони, штопая носки, загибая потертые обшлага. Она съела бисквит, выпила еще чашку какао – от него полнеют – и взялась за дырочку в белом шелковом джемпере. Пробило час. Страшно волнуясь, она опять разделась, надела новую комбинацию, чулки, розовый пояс – и вдруг остановилась. Нет! Платье и шляпу она наденет свои собственные, как вчера. Остальное пусть будет на ней, пока… пока… Она побежала к автобусу: ее бросало то в жар, то в холод. Может быть, ей дадут еще стаканчик этого замечательного питья. Хорошо, если бы у нее закружилась голова и все бы стало безразлично!
Она добралась до студии, когда пробило два часа, и постучала. Там было уютно и тепло, много теплее, чем вчера, и она внезапно поняла зачем. У камина стояла дама с маленькой собачкой.
– Мисс Коллинз – миссис Майкл Монт: она привела нам своего китайчонка, мисс Коллинз.
Дама – одних лет с Викториной и прелесть какая хорошенькая – протянула ей руку. Герань! Так значит, это она прислала…
Викторина приняла протянутую руку, но не могла сказать ни слова. Если дама останется, то… то это будет просто немыслимо – перед ней, такой красивой, такой одетой… О нет, нет!
– Ну, Тинг, будь умницей и веди себя как можно забавней. До свидания, Обри, желаю удачи! До свидания, мисс Коллинз! Наверно, выйдет чудесно!
Ушла! Запах герани рассеялся. Собачка обнюхивала дверь. Скользящий джентльмен держал в руках две рюмки.
«Aгa!» – подумала Викторина и выпила свою порцию залпом.
– Ну, мисс Коллинз, не надо стесняться, право! Там все для вас готово. Ничего нет страшного, уверяю вас. Мне нужно, чтобы вы легли вот тут ничком, опираясь на локти, чуть подняли голову и повернулись сюда. Волосы распушите как можно больше и смотрите вот на эту косточку. Вообразите, что перед вами какой-нибудь фавн или еще какая-нибудь занятная штука. И собачка вам поможет, когда примется грызть кость. Вы знаете, что такое «фавн»?
– Да, – чуть слышно сказала Викторина.
– Хотите еще глоточек?
– О да!
Он принес рюмку.
– Я вполне понимаю вас, но знаете – ей-богу, это нелепо. Ведь не станете же вы стесняться доктора? Ну ладно. Смотрите: я поставлю вот сюда, на пол, колокольчик, когда приготовитесь, позвоните, и я войду. Так вам будет легче.
– Большое спасибо, – прошептала Викторина.
– Не стоит, это вполне естественно. Ну что ж, начнем. Надо пользоваться, пока светло. Пятнадцать шиллингов в день, как условились.
Викторина посмотрела ему вслед – он проскользнул за ширму, – потом взглянула на колокольчик. Пятнадцать монет! И еще пятнадцать монет. И много, много раз по пятнадцати монет, прежде чем… Но не больше, чем должен выстаивать Тони, переминаясь с ноги на ногу, предлагая шарики. И как будто эта мысль пустила в ход какую-то пружинку – Викторина, словно заводная кукла, спустилась с подмостков в комнату для натурщиц. И здесь уютно и очень тепло. Зеленый шелковый халат брошен на стул. Она сняла платье. Красота розовых подвязок снова приятно поразила ее. А может быть, джентльмен захотел бы… нет, это еще хуже. Она услышала какие-то звуки. Тинг-а-Линг жаловался на одиночество. Если она станет медлить, у нее никогда не хватит смелости. Быстро раздевшись, она стала перед зеркалом. Если бы это тоненькое, белое, как слоновая кость, отражение могло пройти туда, на подмостки, а ей бы остаться тут. Нет, это ужасно, ужасно! Она не может, никак не может… Она опять потянулась к платью. Пятнадцать монет! Ведь пятнадцать монет! Перед ее тоскливо расширенными глазами встало видение: огромное здание и крохотный Тони с малюсенькими шариками в протянутой руке. Что-то холодное, стальное легло ей на сердце, как ложится ледяная кора на окно. Если это все, что люди могли для него сделать, она сделает больше! Она бросила рубашку и, смущенная, онемелая, взошла на подмостки – нагая натура. Тинг-а-Линг заворчал над своей косточкой. Она легла ничком, как ей велели, скрестив ноги, подперев подбородок одной рукой, тронула колокольчик. Раздался звук, какого она еще никогда не слышала, и собачонка залаяла – пресмешная собачонка!
– Превосходно, мисс Коллинз! Так и оставайтесь!
Пятнадцать монет! И еще пятнадцать!
– Только еще чуть-чуть вытяните левую ногу. Прекрасно! Тон кожи изумительный! Ах, бог мой, почему это надо плестись шагом, пока не разгонишься? Рисовать – скучная вещь, мисс Коллинз. Писать стоит только кистью. Рисует же скульптор резцом, особенно если он Микеланджело. Сколько вам лет?
– Двадцать один, – произнесли губы, которые самой Викторине показались чужими и далекими.
– А мне тридцать два. Говорят, что наше поколение родилось таким старым, что дальше ему стареть некуда. У нас нет иллюзий. Да я сам, насколько помню, никогда ни во что не верил. А вы?
Викторина утратила всякую способность что-либо соображать, но это было не важно, так как художник болтал без умолку.
– Мы даже не верим в наших предков. И все-таки мы начинаем им подражать. Вы не знаете такую книгу – «Рыдающая черепаха», которая наделала столько шуму? Настоящий Стерн, очень хорошо сделано, но все-таки чистейший Стерн, и автор здорово издевается и иронизирует. В этом вся суть, мисс Коллинз, мы над всем издеваемся, а это плохо! Ну, ничего! Этой картиной я переплюну Пьеро Козимо. Голову чуть повыше и, пожалуйста, примите прядь волос с глаза. Спасибо! Вот теперь отлично! Кстати, нет ли в вас итальянской крови? Как, например, была фамилия вашей матери?
– Браун.
– Ага! Никогда не знаешь наверно, откуда эти Брауны. Возможно, что они были Бруми или Бруно – во всяком случае, очень возможно, что она была из Иберии. Наверно, всех жителей Британии, оставленных в живых англосаксами, звали Браун. Но, в сущности, все это чепуха. Если вернуться к Эдуарду Исповеднику, мисс Коллинз, всего на каких-нибудь тридцать поколений назад, у каждого из нас окажется тысяча семьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре предка, а население всего острова было меньше миллиона. Мы все породисты, как скаковые лошади, только не так красивы, правда? Уверяю вас, мисс Коллинз, за таких, как вы, надо быть благодарным судьбе. И за таких, как миссис Монт, – тоже. Правда, она хороша? Посмотрите-ка на собачку.
Тинг-а-Линг, вытянув передние лапки и сморщив нос, принюхивался и присматривался к Викторине, точно она была второй лакомой косточкой.
– Он смешной! – сказала она, и снова собственный голос показался ей чужим.
Согласилась бы миссис Монт лежать здесь, если б он ее попросил? Она-то выглядела бы чудесно! Но ведь ей не нужны пятнадцать шиллингов!
– Вам так удобно?
Викторина встрепенулась:
– О да, спасибо!
– Не холодно?
– Нет-нет, спасибо!
– Чудесно! Чуть повыше голову!
Понемногу острое чувство необычности исчезло. Тони никогда не узнает. А раз не узнает – значит, ему все равно. Она может лежать так целыми днями – пятнадцать монет да еще пятнадцать монет! Ничуть не трудно. Она следила за движениями проворных, гибких пальцев, за синим дымком папиросы. Следила за собачонкой.
– Хотите отдохнуть? Вы оставили там свой халат, сейчас я его принесу.
Завернувшись в зеленый шелковый халат – теплый, стеганый! – она села на край подмостков, спустив ноги на пол.
– Хотите папироску? Я сейчас приготовлю кофе по-турецки. Вы лучше походите, разомнитесь.
Викторина послушно встала.
– Вы словно из волшебной сказки, мисс Коллинз. Придется сделать с вас этюд в этом халате в стиле Маттейса Мариса.
Кофе, какого она никогда не пробовала, наполнил ее чувством блаженства.
– Даже не похоже на кофе, – сказала она.
Обри Грин развел руками.
– О, как вы правы! Англичане – великий народ, их ничем не проймешь. А ведь если бы они были подвержены разрушению, то давно погибли бы от своего кофе. Хотите еще?
– Пожалуйста! – сказала Викторина. Чашечка была такая крохотная.
– Ну как, отдохнули?
Викторина снова улеглась и сбросила халат.
– Отлично. Оставим его здесь – вы лежите в высокой траве, – зеленое мне поможет. Как жаль, что сейчас зима: я бы снял садик с лужайкой.
Лежать в траве – и, наверно, цветы кругом. Она так любила цветы. Девочкой она часто лежала в траве и плела венки из ромашек там, в поле за бабушкиной сторожкой, в Норбитоне. Бабушка была сторожихой. Каждый год на две недели Викторина ездила к ней – как она любила деревню! Только на ней всегда было что-нибудь надето. А так, без всего, было бы еще приятнее. Есть ли цветы в центральной Австралии? Наверно, есть, раз там есть бабочки! Лежать на солнце – вдвоем с Тони, – как в раю!..
– Ну, спасибо, на сегодня хватит. Полдня – десять шиллингов. Завтра утром в одиннадцать. Вы первоклассная натурщица, мисс Коллинз!
Викторина надевала розовые подвязки, и в душе у нее все пело! Сделано! Тони ничего не надо знать. Мысль о том, что он ничего и не узнает, доставляла ей удовольствие. И, сняв с себя костюм нагой натуры, она вышла в студию.
Обри Грин заслонил свое произведение:
– Нет, пока нельзя, мисс Коллинз. Я не хочу вас разочаровывать. Бедро слишком высоко. Завтра исправим. Простите, руки грязные. До свидания! Значит, завтра в одиннадцать. И этот малыш нам не понадобится. Ну-ну, не смей! – прикрикнул он, ибо Тинг-а-Линг выказывал явное желание сопровождать большую «косточку».
Викторина вышла улыбаясь.
VIII
Сомс берется за дело
Сомс размышлял, сидя у огня в своей комнате, пока Биг-Бен не пробил двенадцать. В конце концов он пришел к решению переговорить со Старым Монтом. Несмотря на легкомыслие, старик все же настоящий джентльмен, а вопрос – деликатный. Сомс лег спать, но в половине третьего проснулся. Какая досада! «Не буду думать об этом», – решил он и тут же начал «об этом» думать. Всю жизнь он имел дело с денежными вопросами и никогда не испытывал таких затруднений. Точно и неизменно придерживаться буквы закона, который сам далеко не всегда точен и неизменен, было непременным условием его карьеры. Говорят, что честность – лучшая политика. Но может быть, это и не так? Абсолютно честный человек и недели не мог бы прожить, не попав в работный дом. Конечно, работный дом – это не тюрьма и не суд. А честность, по ходячим понятиям, на то и существует, чтобы удержать человека за пределами этих учреждений. До сих пор у Сомса затруднений не бывало. В чем, кроме распивания чая и получения жалованья, в сущности, состоят обязанности директора? Вот что интересно. И в какой мере он ответствен в случае невыполнения этих обязанностей? Директор обязан быть совершенно честным. Но если так, он не может оставаться директором. Это ясно. Ведь первым делом ему придется заявить своим акционерам, что он совершенно не заслуживает своего жалованья. Что он делал на заседаниях правления? Да просто сидел, расписывался, немного говорил и голосовал за то, что по ходу дела должно было быть принято. Проявлял ли он когда-нибудь инициативу? Может быть, один-единственный раз. Вел ли он расчеты? Нет, только прочитывал. Рассматривал ли сметы? Нет, за него это делали служащие. Конечно, есть еще политика общества. Успокоительные слова, но – если говорить откровенно – все дело директора и заключается в том, чтобы не мешать существующей политике. Взять, например, его самого. Если бы он выполнял свой долг, то через месяц по вступлении в правление должен был бы приостановить страхование иностранных контрактов, которым он с самого начала инстинктивно не доверял, или, в случае неудачи, отказаться от своего места. А он этого не сделал. Казалось, что все наладится, что момент неподходящий и так далее. Если бы он хотел выполнять свой долг как абсолютно честный директор, то вообще не должен был бы стать директором ОГС, потому что, прежде чем занять место в правлении, нужно было разобраться в делах общества гораздо основательнее, чем он это сделал. Но все эти имена, престиж и – «дареному коню в зубы не смотрят» – вот и вышло! Если бы он теперь захотел быть абсолютно честным, то должен был бы объявить акционерам: «Мое попустительство обошлось вам в двести с чем-то тысяч фунтов. Я отдаю эту сумму в руки доверенных лиц на покрытие ваших убытков и постараюсь выжать из остальных директоров их долю». Но он не собирался так поступить, потому что… ну, просто потому, что это не принято и другим директорам это вряд ли понравится. Вывод один: ждать, пока акционеры сами не раскроют эту историю, но надеяться, что не раскроют. Словом, совершенно как правительство, путать карты и стараться выйти сухим из воды. Не без некоторого удовольствия Сомс подумал об Ирландии: предыдущее правительство сначала вовлекло страну в эту историю с Ирландией, а потом делало вид, что исправило то, чего и не должно было быть. А мир, а воздушный флот, а земельная политика, а Египет – во всех этих важнейших вопросах правительство каждый раз подливало масла в огонь. Но признавалось ли оно в этом? Нет, в таких случаях не признаются, в таких случаях принято говорить: «В данный момент это вызвано политической необходимостью». А еще лучше – ничего не говорить и просто положиться на британский характер. Высвободив подбородок из-под одеяла, Сомс вдруг почувствовал какое-то облегчение. Нет, последнее правительство, наверно, не тряслось под одеялом от страха. Устремив глаза на потухающие угли в камине, Сомс размышлял о неравенстве и несправедливости судьбы. Взять всех этих политиков и дельцов, которые всю жизнь ходят по тонкому льду и за это получают титулы. Они и в ус не дуют. И взять его самого – он впервые очутился на тонком льду и страдает от этого невероятно. В сущности, установился целый культ обманывания публики, целый культ того, как избежать последствий неразумного ведения дел. И он, человек деловой, человек закона, не знает этого культа – и рад этому. Из врожденной осторожности, из чувства гордости, в которой был даже какой-то оттенок высокомерия, Сомс всегда чурался той примитивной, стандартной «честности», которой руководствовалась в своих делах британская публика. Во всем, что касалось денег, он был непоколебим, тверд, несгибаем. Деньги есть деньги, фунт есть фунт, и нельзя притворяться, что это не так, и все-таки сохранить чувство собственного достоинства.
Сомс встал, выпил воды, сделал несколько глубоких вдохов и поразмял ноги. Кто это ему вчера говорил, что нет такой вещи, из-за которой он лишился бы сна хоть на пять минут? Наверно, этот человек здоров как бык или врет, как барон Мюнхаузен. Он взял книгу, но мысли все время вертелись вокруг того, что он мог бы реализовать из своего состояния. Не считая картин, решил он, его состояние, наверно, не меньше двухсот пятидесяти тысяч фунтов, и, кроме Флер, у него никого нет, а она уже обеспечена. Для жены он тоже выделял средства – она превосходно может на них жить во Франции. Что же касается его самого – не все ли ему равно? Комната в клубе, поближе к Флер – ему будет так же хорошо, как и сейчас, а может, даже лучше! И вдруг он увидел, что нашел выход из всех своих неприятностей и страхов. Представив себе худшее, что его ждало впереди – потерю состояния, – он изгнал демона. Книга «Рыдающая черепаха», из которой он не прочел ни слова, выпала у него из рук: он уснул…
Встреча со Старым Монтом состоялась в «Клубе шутников» сейчас же после завтрака. Телеграфная лента в холле, на которую он взглянул мимоходом, отмечала дальнейшее падение марки. Так он и думал: она совершенно обесценивается.
Прихлебывавший кофе баронет показался Сомсу прямо-таки оскорбительно веселым. «Держу пари, что он ничего не подозревает. Хорошо, – подумал Сомс, – сейчас я, как говаривал старый дядя Джолион, преподнесу ему сюрприз!»
И без предисловий он начал:
– Добрый день, Монт. Марка обесценена. Вы понимаете, что ОГС потерпело около четверти миллиона убытка на этих злополучных иностранных контрактах Элдерсона. Я не уверен, что на нас не ляжет обвинение за такой ничем не оправданный риск. Но поговорить с вами я хотел, собственно, вот о чем. – Он подробно изложил свой разговор с клерком Баттерфилдом, наблюдая за бровями собеседника, и закончил: – Что вы на это скажете?
Сэр Лоренс, качая ногой так, что все его тело тряслось, вскинул монокль:
– Галлюцинации, мой дорогой Форсайт. Я знаком с Элдерсоном всю жизнь. Мы вместе учились в Уинчестере.
Опять, опять! О боже!
– Это еще ничего не значит, – медленно проговорил Сомс. – Один человек, с которым я учился в Молборо, сбежал с кассой офицерского собрания и с женой полковника и нажил состояние в Чили на помидорных консервах. Суть вот в чем: если рассказ этого человека – правда, то мы в руках злостного афериста. Это не годится, Монт. Хотите позондировать его и посмотреть, что он скажет? Ведь вам было бы не особенно приятно, если бы про вас говорили такие вещи. Хотите, пойдем вместе?
– Да, – вдруг согласился сэр Лоренс. – Вы правы. Пойдем вместе. Это неприятно, но пойдем вместе. Надо ему все сказать.
– Сейчас?
– Сейчас.
Они торжественно взяли цилиндры и вышли.
– Мы, я полагаю, возьмем такси, Форсайт?
– Да, – сказал Сомс.
Машина медленно объехала львов на Трафальгар-сквер, потом быстро покатила по набережной. Старики сидели рядом, неотступно глядя вперед.
– Мы ездили с ним охотиться месяц назад, – сказал сэр Лоренс. – Вы знаете гимн: «Господь – наш щит в веках минувших»? Очень хороший гимн, Форсайт.
Сомс не отвечал. Ну, теперь пошел трещать!
– У нас пели его в то воскресенье, – продолжал сэр Лоренс. – У Элдерсона был когда-то приятный голос, он пел даже соло. Теперь-то у него настоящий козлетон, но исполнение неплохое. – Он засмеялся своим пискливым смешком.
«Интересно, бывает этот человек когда-нибудь серьезным?» – подумал Сомс и проговорил вслух:
– Если мы узнаем, что история с Элдерсоном – правда, и скроем ее, нас всех, чего доброго, посадят на скамью подсудимых.
Сэр Лоренс поправил монокль.
– Черт возьми…
– Вы сами с ним поговорите, – продолжил Сомс, – или предоставите мне?
– По-моему, лучше вам, Форсайт; не вызвать ли нам и этого молодого человека?
– Подождем, посмотрим, – сказал Сомс.
Они поднялись в контору ОГС и вошли в кабинет правления. В комнате было холодно, стол ничем не был покрыт; старый конторщик ползал, словно муха по стеклу, наполняя чернильницы из бутыли.
– Спросите директора-распорядителя, не будет ли он любезен принять сэра Лоренса Монта и мистера Форсайта, – обратился к нему Сомс.
Старый клерк заморгал, поставил бутыль и вышел.
– Теперь нам надо быть начеку, – тихо проговорил Сомс, – он, разумеется, будет все отрицать.
– Надеюсь, Форсайт, надеюсь. Элдерсон – джентльмен.
– Никто так не лжет, как джентльмены, – вполголоса проворчал Сомс.
Они молча стояли у пустого камина, пристально рассматривая свои цилиндры, стоявшие рядом на столе.
– Одну минуту! – внезапно сказал Сомс и, пройдя через всю комнату, открыл противоположную дверь.
Там, как и говорил молодой клерк, было что-то вроде коридорчика между кабинетом правления и кабинетом директора с дверью, выходившей в главный коридор. Сомс вернулся, закрыл дверь и, подойдя к сэру Лоренсу, снова погрузился в созерцание цилиндров, потом хмуро сказал:
– География правильна.
Появление директора-распорядителя было отмечено стуком монокля сэра Лоренса, звякнувшего о пуговицу. Весь вид Элдерсона: черная визитка, чисто выбритое лицо, серые, довольно сильно опухшие глаза, розовые щеки, аккуратно разложенные на лысом яйцевидном черепе волоски, губы, которые то вытягивались вперед, то стягивались в ниточку, то расходились в улыбке, – до смешного напоминал Сомсу старого дядю Николаса в среднем возрасте. Дядя Ник был умный малый – «умнейший человек в Лондоне», как кто-то назвал его, – но никто не сомневался в его честности. Сомнение, неприязнь всколыхнули Сомса. Казалось чудовищным предъявлять такое обвинение человеку одного с тобой возраста, одного воспитания. Но глаза молодого Баттерфилда, глядевшие так честно, с такой собачьей преданностью! Выдумать такую штуку – да разве это мыслимо?
– Дверь закрыта? – отрывисто бросил Сомс.
– Да. Вам, может быть, дует? Хотите, я велю затопить?
– Нет, благодарю, – сказал Сомс. – Дело в том, мистер Элдерсон, что вчера один из молодых служащих этой конторы пришел ко мне с очень странным рассказом. Мы с Монтом решили, что вам нужно его передать.
Сомсу, привыкшему наблюдать за глазами людей, показалось, что на глаза директора набежала какая-то пленка, как бывает у попугаев, но она сразу исчезла. А может, ему только показалось.
– Ну, разумеется, – сказал Элдерсон.
Твердо, с тем самообладанием, какое было ему свойственно в решительные минуты, Сомс повторил рассказ, который выучил наизусть в часы ночной бессонницы.
– Вы, несомненно, захотите его вызвать сюда, – заключил он. – Его зовут Баттерфилд.
В продолжение всей речи сэр Лоренс не вмешивался и пристально разглядывал свои ногти, затем сказал:
– Нельзя было не сказать вам, Элдерсон.
– Конечно.
Директор подошел к звонку. Румянец на его щеках выступил гуще, зубы обнажились и как будто стали острее.
– Попросите сюда мистера Баттерфилда.
Последовала минута деланого невнимания друг к другу. Затем вошел молодой клерк, аккуратный, очень заурядный, глядевший, как подобает, в глаза начальству. На миг Сомса кольнула совесть. Клерк держал в руках всю свою жизнь: был одним из великой армии тех, кто живет своей честностью и подавлением своего «я», а сотни других готовы занять его место, если он хоть раз оступится. Сомсу вспомнилась напыщенная декламация из репертуара провинциального актера, над которой так любил подшучивать старый дядя Джолион: «Как бедный мученик в пылающей одежде…»
– Итак, мистер Баттерфилд, вы соблаговолили изощрять вашу фантазию на мой счет?
– Нет, сэр.
– Вы настаиваете на вашей фантастической истории с подслушиванием?
– Да, сэр.
– В таком случае мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Вы свободны.
Молодой человек поднял на Сомса голодные, собачьи глаза, сглотнул, его губы беззвучно шевельнулись, молча повернулся и вышел.
– С этим покончено, – послышался голос директора, – теперь он ни за что не получит другого места.
Злоба, с которой директор произнес эти слова, подействовала на Сомса как запах ворвани. Одновременно у него явилась мысль: это следует хорошенько обдумать. Такой резкий тон мог быть у Элдерсона, только если он ни в чем не виноват или же если виноват и решился на все. Что же правильно?
Директор продолжил:
– Благодарю вас, господа, что вы обратили мое внимание на это дело. Я и сам с некоторого времени следил за этим молодчиком. Он большой мошенник.
Сомс сказал угрюмо:
– Что же, по-вашему, он надеялся выиграть?
– Предвидел расчет и хотел заранее наделать неприятностей.
– Понимаю, – сказал Сомс. Но в памяти его встала контора, где сидел старый Грэдмен, потирая нос и качая седой головой, и слова Баттерфилда: «Нет, сэр, я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня».
«Надо будет разузнать побольше об этом молодом человеке», – подумал он.
Голос директора снова прорезал молчание:
– Я думал над вашими вчерашними словами, мистер Форсайт, относительно того, что правление могут обвинить в небрежном ведении дел. Это совершенно неосновательно: наша политика была полностью изложена на двух общих собраниях и не вызвала никаких возражений. Пайщики столь же ответственны, как и правление.
– Гм! – промычал Сомс и взял свой цилиндр. – Вы идете, Монт?
Сэр Лоренс нервно вскинул монокль, словно его окликнули издалека.
– Вышло ужасно неприятно, – сказал он. – Вы должны извинить нас, Элдерсон. Нельзя было не уведомить вас. Мне кажется, что у этого молодого человека не все дома: у него удивительно странный вид. Но конечно, мы не можем терпеть подобных историй. Прощайте, Элдерсон.
Одновременно надев цилиндры, оба вышли. Некоторое время они шли молча. Затем сэр Лоренс заговорил:
– Баттерфилд? У моего зятя работает старшим садовником некий Баттерфилд – вполне порядочный малый. Не следует ли нам приглядеться к этому молодому человеку, Форсайт?
– Да, – сказал Сомс, – предоставьте это мне.
– С удовольствием! Как-никак, если учился с человеком в одной школе, то невольно… вы понимаете…
Сомс внезапно вспылил:
– В наше время, по-моему, никому нельзя доверять. Происходит это оттого… впрочем, право, не знаю отчего. Но я с этим делом еще не покончил.







