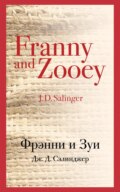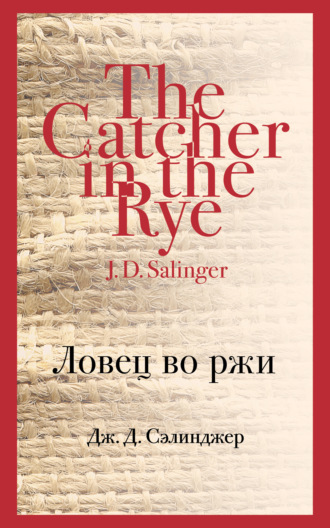
Дж. Д. Сэлинджер
Ловец во ржи
Мне не понравилось, как он это сказал, поэтому я сказал:
– Почему она так сделала, это наверно потому, что просто не знала, какой ты красавец и неотразимый сукин сын. А если б знала, то наверно отпросилась бы до девяти-тридцати утра.
– Чертовски верно, – сказал Стрэдлейтер. Его ничем не проймешь. С его-то самодовольством. – Только кроме шуток. Напиши за меня это сочинение, – сказал он. Он надел куртку, и был готов идти. – Из кожи лезть не надо, просто сделай, нафиг, что-нибудь наглядное. Окей?
Я ему не ответил. Не хотелось отвечать. Я только сказал:
– Спроси ее, она все так же держит все свои дамки в заднем ряду?
– Окей, – сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он ее не спросит. – Давай, не перестарайся, – и он выкатился к чертям из комнаты.
Я просидел еще примерно полчаса после того, как он ушел. То есть, я просто сидел в кресле, ничего не делая. Я все думал о Джейн, и о том, что Стрэдлейтер с ней на свидании, и все такое. Я так разнервничался, что чуть умом не тронулся. Я вам уже говорил, какой Стрэдлейтер сукин сын по части секса.
Вдруг снова ввалился Экли, как обычно, через чертовы занавески. Впервые в моей дурацкой жизни я ему по-настоящему обрадовался. Он отвлек мои мысли от всякой фигни.
Он проторчал примерно до обеда, рассуждая обо всех ребятах в Пэнси, кого он люто ненавидел, и давя здоровый прыщ на подбородке. Он даже платком не пользовался. Я даже сомневаюсь, что у этого козла имелся платок, если уж по правде. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы он им пользовался.
5
Субботними вечерами нас в Пэнси всегда кормили одинаково. Это считалось большим делом, потому что давали стейк. Готов поставить тысячу баксов, что это делалось потому, что родители многих ребят приезжали в школу в воскресенье, и старик Термер вероятно смекнул, что каждая мать спросит, что ел вчера на обед ее ненаглядный сыночек, и он скажет: «Бифштекс.» Какое надувательство. Видели бы вы эти бифштексы. Такие твердые, сухие кусочки, которые и нож почти не брал. К ним всегда давали такое комковатое пюре, а на десерт – Смуглую Бетти[7], которую никто не ел, кроме, может, мелких из младшей школы, не знавших ничего лучше, и типов, вроде Экли, которые все слопают.
Зато, когда мы вышли из столовой, было здорово. Снега нападало дюйма на три, и он все падал, как сумасшедший. Было офигеть, как красиво, и мы все стали кидать снежки и повсюду валять дурака. Очень по-детски, но все откровенно веселились.
У меня ни с кем не было свидания или чего-то такого, так что мы с этим моим другом, Мэлом Броссардом, из борцовской команды, решили сгонять автобусом в Эгерстаун и съесть по гамбургеру и, может, посмотреть дурацкую киношку. Ни мне, ни ему не хотелось сидеть на жопе до самой ночи. Я спросил Мэла, не будет ли он против, если с нами пойдет Экли. Почему я спросил, это потому, что Экли никогда ничем не занимался субботними вечерами, кроме как давил прыщи у себя в комнате или вроде того. Мэл сказал, что не против, но не без ума от этой идеи. Он недолюбливал Экли. Короче, мы разошлись по комнатам, привести себя в порядок и все такое, и пока я натягивал галоши и прочую фигню, я проорал старику Экли, не хочет ли он пойти в кино. Он нормально меня слышал через душевую занавеску, но ответил не сразу. Он из тех ребят, которые терпеть не могут отвечать сразу. Наконец, он показался через чертовы занавески, и спросил, стоя на пороге душевой, кто еще со мной идет. Всегда ему надо было знать, кто идет. Ей-богу, если бы такой тип выжил после кораблекрушения, и ты бы, блин, приплыл спасать его на лодке, ему бы надо было знать прежде, чем залезть, кто там на веслах. Я сказал ему, что идет Мэл Броссард. Он сказал:
– Этот козел… Ну, ладно. Погоди секунду.
Можно подумать, сделал большое одолжение.
У него ушло часов пять на сборы. Пока он этим занимался, я подошел к своему окну, открыл его и слепил снежок голыми руками. Снег отлично лепился. Только я ни во что его не бросил. Хотя собирался. В машину, припаркованную через улицу. Но передумал. Машина была до того хорошая, белая. Затем я замахнулся на гидрант, но он тоже был слишком хорошим и белым. В итоге, я так и не бросил. Просто закрыл окно и ходил по комнате со снежком, утрамбовывая его. Через какое-то время, когда мы с Броссардом и Экли сели в автобус, снежок еще был у меня. Водитель автобуса открыл двери и сказал, чтобы я выбросил снежок. Я сказал ему, что не собираюсь ни в кого бросаться, но он мне не поверил. Люди никогда тебе не верят.
Броссард и Экли уже видели картину, которую крутили, так что все, что мы сделали, это съели по паре гамбургеров и поиграли немного в пинбол, а потом поехали автобусом обратно в Пэнси. Мне до кино все равно не было дела. Считалось, что это комедия, с Кэри Грантом и прочей фигней. К тому же, я уже ходил в кино с Броссардом и Экли. Они оба гоготали как гиены над любой несмешной ерундой. Не велико удовольствие сидеть с ними в кино.
В общагу мы вернулись где-то без четверти девять. Старик Броссард заядлый картежник и стал искать по всей общаге, с кем бы сыграть в бридж. Старик Экли завалился ко мне в комнату, просто для разнообразия. Только вместо того, чтобы сидеть на подлокотнике кресла Стрэдлейтера, он разлегся на моей кровати, лицом в подушку и все такое. И принялся бубнить таким монотонным голосом и ковырять все свои прыщи. Я наверно тысячу раз намекнул ему, но он не собирался уходить. Знай себе, бубнит этим жутко монотонным голосом, как он якобы имел половую связь с одной крошкой прошлым летом. Он уже раз сто мне об этом рассказывал. И каждый раз по-разному. То он вставил ей в “бьюике” своего кузена, то он вставил ей под каким-то променадом. Разумеется, все это было брехней. Он же вопиющий девственник. Сомневаюсь, что он хотя бы трогал кого-то. Короче, мне, в итоге, пришлось прямым текстом сказать ему, что мне нужно писать сочинение для Стрэдлейтера, и чтобы он к чертям выметался, а то я не сосредоточусь. В итоге, он вымелся, но далеко не сразу, как обычно. Когда он ушел, я надел пижаму и халат, и старую охотничью кепку, и принялся за это сочинение.
Да только мне никак не думалось ни о комнате, ни о доме, ни о чем таком, что бы можно было описать, как Стрэдлейтер сказал, что ему надо. Вообще, идея описывать комнаты или дома не внушает мне безумной радости. Поэтому я что сделал, я написал о перчатке ловца моего брата Элли. Это очень наглядный предмет. Правда. У брата Элли была такая бейсбольная перчатка полевого игрока на левую руку. Он был левшой. А что в ней такого наглядного, это то, что по всем пальцам и на кармашке и повсюду он исписал ее стихами. Зелеными чернилами. Он написал их, чтобы можно было что-то почитать, пока он стоял на поле, и никто не махал битой. Он уже умер. Заболел лейкемией и умер, когда мы жили в Мэне, 18 июля 1946 года[8]. Он бы вам понравился. Он был на два года моложе меня, но раз в пятьдесят умнее. Он был зверски умным. Его учителя вечно писали письма моей маме, как они довольны, что у них в классе такой мальчик, как Элли. И они не просто фуфло толкали. Они это всерьез. Но он не просто был самым умным в семье. Он был еще самым хорошим, во многом. Никогда ни на кого не злился. Считается, что рыжие запросто злятся, но только не Элли, хотя у него были очень рыжие волосы. Сейчас расскажу, до чего рыжие у него были волосы. Я начал играть в гольф, когда мне было всего десять. Помню как-то летом, когда мне было лет двенадцать, я отрабатываю удар и все такое, и нутром чую, что стоит мне внезапно обернуться, и я увижу Элли. Я так и сделал, и правда, он сидел на велике за забором – там был такой забор, шедший вокруг поля – и он сидел там, ярдах в ста пятидесяти позади меня, глядя, как я отрабатываю удар. Вот до чего рыжие у него были волосы. Боже, хорошим он был пацаном. Он так хохотал над какими-то своими мыслями за обеденным столом, что чуть со стула не падал. Мне было всего тринадцать, и мне хотели назначить психоанализ и все такое, потому что я перебил все окна в гараже. Я на предков не в обиде. Правда. Я спал в гараже в ту ночь, когда умер Элли, и перебил кулаком все чертовы окна, просто по приколу. Я даже пытался перебить все окна в фургоне, который был у нас тем летом, но я к тому времени уже сломал руку и все такое, и не смог. Очень по-дурацки, признаю, но я вообще едва соображал, что делаю, и вы не знали Элли. У меня до сих пор иногда рука побаливает, когда дождь и все такое, и я больше не могу толком сжать кулак – то есть, чтобы крепкий, – но в остальном мне почти неважно. То есть, я же все равно не собираюсь быть к чертям хирургом или скрипачом или кем-нибудь еще.
Короче, об этом я и написал сочинение Стрэдлейтеру. О старой бейсбольной перчатке Элли. Она была у меня с собой, в чемодане, так что я достал ее и переписал с нее стихи. Все, что от меня требовалось, это заменить имя Элли, чтобы никто не догадался, что это мой брат, а не Стрэдлейтера. Не скажу, что я был без ума от этой идеи, но я не смог найти ничего более наглядного. К тому же, мне как бы понравилось писать об этом. Мне понадобилось около часа, потому что пришлось писать на паршивой машинке Стрэдлейтера, которая все время заедала. А почему я не мог сделать это на своей, потому что одолжил ее одному парню в конце коридора.
Было наверно где-то десять-тридцать, когда я закончил. Но я не устал, так что какое-то время стоял и смотрел в окно. Снег уже не падал, но периодически слышалось, как какая-то машина никак не заведется. И долетал храп старика Экли. Прямо через чертовы душевые занавески долетал. У него был гайморит, и он не мог нормально дышать во сне. У этого парня чего только не было. Гайморит, прыщи, паршивые зубы, вонь изо рта, захезанные ногти. Волей-неволей пожалеешь придурочного сукина сына.
6
Какие-то вещи я никак не вспомню. Я все думаю о том, как Стрэдлейтер вернулся со свидания с Джейн. То есть, я не помню, чем именно был занят, когда услышал, как его чертовы дурацкие шаги приближаются по коридору. Наверно я смотрел в окно, но ей-богу, не помню. Я чертовски разволновался, в этом дело. Когда я всерьез о чем-то волнуюсь, я уже не валяю дурака. Даже в туалет хочется, когда волнуюсь о чем-то. Только я не иду. Слишком волнуюсь. Не хочу перебивать волнение. Знали бы вы Стрэдлейтера, тоже волновались бы. Пару раз я ходил с этим козлом на двойные свидания, и знаю, о чем говорю. Он бессовестный. Правда.
Короче, коридор был весь в линолеуме и все такое, и слышно было, как его чертовы шаги приближаются. Я даже не помню, где сидел, когда он вошел – у окна, в своем кресле или в его. Ей-богу, не помню. Он вошел и стал ворчать, какой на улице холод. Затем сказал:
– Где, блин, все? Тут как в чертовом морге.
Я ему даже не ответил. Если он был настолько, блин, тупым, что не сознавал, что сейчас субботний вечер, и все ушли или спят или дома на выходных, я не собирался лезть из кожи вон, чтобы объяснять это ему. Он стал снимать одежду. И ни слова, блин, про Джейн. Ни словечка. И я молчал. Просто смотрел на него. Он только и сказал, что спасибо за то, что я одолжил ему гусиную лапку. Повесил на плечики и убрал в шкаф.
Затем, когда он снимал галстук, он спросил меня, написал ли я за него чертово сочинение. Я сказал ему, оно на его чертовой кровати. Он подошел и стал читать его, расстегивая рубашку. Он стоял там, читая его, и как бы поглаживал голую грудь и живот, с таким дико дурацким выражением лица. Он вечно поглаживал себе живот или грудь. Он был без ума от себя.
Вдруг он сказал:
– Бога в душу, Холден. Это же про чертову бейсбольную рукавицу.
– И что? – сказал я. Адски холодно.
– Что значит и что? Я же сказал, чтобы было про чертову комнату или дом или вроде того.
– Ты сказал, чтобы было наглядно. Какая к черту разница, если это про бейсбольную рукавицу?
– Черт возьми, – он адски разозлился. Рвал и метал. – Вечно ты все делаешь через жопу, – он посмотрел на меня. – Не удивительно, что тебя выперли к чертям отсюда, – сказал он. – Ты ни единой вещи не сделаешь, как положено. Я серьезно. Ни единой, блин, вещи.
– Ну, ладно, давай тогда сюда, – сказал я. Я подошел и выхватил листок из его поганой руки. И разорвал.
– Какого черта ты это? – сказал он.
Я ему даже не ответил. Просто выбросил клочки в корзину. Затем лег на кровать, и мы оба долго ничего не говорили. Он совсем разделся, до трусов, а я все лежал, а потом и закурил сигарету. В общаге курить не разрешалось, но можно было ближе к ночи, когда все спят или в отпуске, и никто не учует дыма. К тому же, я хотел досадить Стрэдлейтеру. Он бесился, когда ты нарушал любые правила. Сам он в общаге никогда не курил. А я – да.
Он так и не сказал ни слова о Джейн, ни единого словечка. Поэтому я, наконец, сказал:
– Ты вернулся чертовски поздно, если ее отпустили только до девяти-тридцати. Она не опоздала назад из-за тебя?
Он сидел на краю своей кровати, стриг свои поганые ногти, когда я спросил его.
– На пару минут, – сказал он. – Кто, блин, отпрашивается субботним вечером до девяти-тридцати?
Боже, как я его ненавидел.
– Вы ездили в Нью-Йорк? – сказал я.
– Спятил? Как бы мы нафиг съездили в Нью-Йорк, если она отпросилась только до девяти-тридцати?
– Незадача.
Он взглянул на меня.
– Слушай, – сказал он, – если собрался курить в комнате, как насчет пойти в уборную? Ты можешь к чертям выметаться отсюда, но мне надо торчать тут, пока не закончу.
Я на него ноль внимания. Правда. Лежал и курил как ненормальный. Все, что я сделал, это как бы повернулся набок и стал смотреть, как от стрижет свои поганые ногти. Ну и школа. Вечно ты смотрел, как кто-нибудь стрижет свои поганые ногти или давит прыщи или еще что-нибудь.
– Ты передал ей привет от меня? – спросил я его.
– Ага.
Черта с два он передал, козел.
– И что она сказала? – сказал я. – Ты спросил ее, держит ли она всех своих дамок все так же в заднем ряду?
– Нет, не спросил. Чем, по-твоему, мы весь вечер нафиг занимались – в шашки играли, бога в душу?
Я ему даже не ответил. Боже, как я его ненавидел.
– Если вы не ездили в Нью-Йорк, куда ж ты с ней ездил? – спросил я его чуть погодя. Я с трудом сдерживал голос, чтобы он не дрожал по всей комнате. Ух, как я нервничал. Просто было такое чувство, что какая-то фигня случилась.
Он закончил стричь свои поганые ногти. Встал, значит, с кровати, в одних, блин, трусах и все такое, и сделался таким, блин, игривым. Подошел к моей кровати, навис надо мной и стал так чертовски игриво колотить в плечо.
– Хорош, – сказал я. – Куда ты с ней ездил, если вы в Нью-Йорк не поехали?
– Никуда. Просто сидели в чертовой машине, – он послал мне в плечо очередную дурацкую игривую колотушку.
– Хорош, – сказал я. – В чьей машине?
– Эда Бэнки.
Эд Бэнки был баскетбольным тренером в Пэнси. Старик Стрэдлейтер ходил у него в любимчиках, потому что играл центовым в команде, и Эд Бэнки всегда одалживал ему машину, когда было нужно. Брать машины преподов учащимся не разрешалось, но все козлы-спортсмены друг друга выручают. В каждой школе, куда я ходил, все козлы-спортсмены друг друга выручали.
Стрэдлейтер продолжал вести бой с тенью, обрабатывая мне плечо. В руке у него была зубная щетка, и он сунул ее в рот.
– Чем вы занимались? – сказал я. – Ты ей вставил в чертовой машине Эда Бэнки? – голос у меня ужас, как дрожал.
– Какие слова ты говоришь. Хочешь, чтобы я тебе рот с мылом вымыл?
– Вставил?
– Это профессиональная тайна, дружок.
Как дальше было, я уже не очень помню. Я только знаю, что встал с кровати, словно собрался в уборную или вроде того, а затем попытался вмазать ему, со всей силы, аккурат по зубной щетке, чтобы она разорвала его поганую глотку. Но не попал. Не вышло, как хотел. Только задел как бы сбоку по голове или вроде того. Ему наверно было малость больно, но не настолько, как я хотел. Ему бы наверно было очень больно, но я ударил правой рукой, которой не могу сжать хороший кулак. Из-за травмы, о которой рассказывал.
Короче, дальше как было, я, блин, валялся на полу, а он сидел у меня на груди, с такой красной рожей. В смысле, поставил мне на грудь свои поганые колени, а весил он около тонны. Запястья мои он тоже держал, так что я больше не мог ему вмазать. Убил бы его.
– Да что, блин, с тобой такое? – повторял он, и его дурацкая рожа все краснела и краснела.
– Убери свои паршивые колени у меня с груди, – сказал я ему. Почти завопил. Правда. – А ну слезь с меня, козел поганый.
Но он меня не слушал. Он все держал мои запястья, а я называл его сучьим сыном и все такое, часов десять наверно. Я даже почти не помню, что говорил ему. Сказал, что он думает, будто может вставить любой, какой захочет. Сказал, что ему все равно, держит ли девушка всех своих дамок в заднем ряду, а все потому, что он тупой, блин, кретин. Он ненавидел, когда его называли кретином. Все кретины ненавидят, когда их кретинами называют.
– А ну заткнись, Холден, – сказал он со своей большой дурацкой красной рожей, – просто заткнись.
– Ты даже не знаешь, зовут ее Джейн или Джин, кретин поганый!
– А ну заткнись, Холден, черт тебя дери – я тебя предупреждаю, – сказал он – я его действительно довел. – Если не заткнешься, я тебе врежу.
– Убери свои грязные вонючие кретинские колени у меня с груди.
– Если я тебя отпущу, ты заткнешься?
Я ему даже не ответил.
Он повторил.
– Холден. Если я тебя отпущу, ты заткнешься?
– Да.
Он слез с меня, и я тоже встал. Грудь адски болела от его грязных коленей.
– Грязный тупой кретинский сукин сын, – сказал я ему.
Тут он всерьез взбеленился. Стал махать своим здоровым дурацким пальцем мне в лицо.
– Холден, черт тебя дери, я тебя предупреждаю. Последний раз, имей в виду. Если не захлопнешь варежку, я тебе…
– И чего? – сказал я – я уже почти орал. – В этом беда с вами, кретинами. Вы никогда не хотите ничего обсуждать. Вот так всегда и видно кретина. Они никогда не хотят обсуждать ничего умно…
Тогда он действительно мне засветил, и следующее, что я помню, это что я снова, блин, на полу. Не помню, вырубил он меня или нет, но вряд ли. Вырубить кого-то не так-то легко, не то, что в чертовом кино. Но из носа у меня текла кровища по всей комнате. Когда я поднял взгляд, старик Стрэдлейтер стоял практически на мне. Под мышкой он держал свой поганый туалетный набор.
– Какого черта ты не заткнешься, когда я тебе говорю? – сказал он. Голос у него был довольно нервный. Наверно испугался, что я сломал череп или вроде того, когда упал на пол. Очень жаль, но нет. – Сам напросился, черт возьми, – сказал он. Ух, как же он встревожился.
А я лежу и не думаю вставать. Я просто лежал на полу какое-то время и называл его кретинским сукиным сыном. Я прямо обезумел и почти вопил.
– Слушай. Иди вымой лицо, – сказал Стрэдлейтер. – Слышал меня?
Я сказал, чтобы он сам вымыл свое кретинское лицо – довольно по-детски, но я дико озверел. Я сказал ему задержаться по пути в уборную и вставить миссис Шмидт. Миссис Шмидт – это жена вахтера. Ей было лет шестьдесят пять.
Я так и сидел на полу, пока не услышал, как старик Стрэдлейтер закрыл дверь и пошел по коридору в уборную. Затем я встал. Я нигде не мог найти своей чертовой охотничьей кепки. Наконец, нашел. Она была под кроватью. Надел ее и повернул старый козырек назад, как мне нравилось, а затем пошел и взглянул на свою дурацкую рожу в зеркале. Вы в жизни такой кровищи не видели. Весь рот был залит и подбородок, и даже по пижаме и халату. Это отчасти меня испугало, отчасти заворожило. Вся эта кровища и все такое придавала мне как бы крутой такой вид. Я за всю жизнь дрался раза два, и проиграл оба раза. Я не слишком крутой. Я пацифист, если хотите знать.
У меня было такое ощущение, что старик Экли наверно слышал весь этот галдеж и проснулся. Так что я прошел через душевые занавески к нему в комнату, просто посмотреть, что он там нафиг делает. Я почти ни разу не был в его комнате. Там всегда так стремно пахло, потому что он такой неряха в личном плане.
7
Из нашей комнаты просачивался свет и все такое через душевые занавески, и я видел, что Экли лежит на кровати. Я прекрасно понимал, что он нефига не спит.
– Экли, – сказал я, – ты не спишь?
– Неа.
Было довольно темно, и я наступил на чью-то туфлю и чуть не грохнулся нафиг башкой об пол. Экли как бы сел на кровати и оперся на руку. У него все лицо было в белой мази, от прыщей. В темноте он смотрелся как бы стремно.
– Какого черта ты вообще делаешь? – сказал я.
– Шо значит, какого черта я делаю? Я пытался спать, пока вы там не начали шуметь. Из-за чего вы, блин, вообще ругались?
– Где свет? – я не мог найти свет. Шарил рукой по всей стене.
– Зачем тебе свет?.. Прямо у твоей руки.
Наконец, я нашел выключатель и повернул. Старик Экли поднял руку, чтобы свет не резал глаза.
– Господи! – сказал он. – Какого черта с тобой случилось?
Он имел в виду всю эту кровь и все такое.
– Вышла небольшая нафиг стычка со Стрэдлейтером, – сказал я. Затем сел на пол. У них в комнате никогда не было стульев. Не знаю, какого черта они делали со своими стульями. – Слушай, – сказал я, – не желаешь перекинуться раз-другой в канасту?
Он был помешан на канасте.
– У тебя еще кровь идет, бога в душу. Ты бы наложил чего-нибудь.
– Перестанет. Слушай. Хочешь раз-другой перекинуться в канасту или нет?
– В канасту, бога в душу. Ты случайно не знаешь, сколько времени?
– Еще не поздно. Сейчас только где-то одиннадцать, одиннадцать-тридцать.
– Только где-то! – сказал Экли. – Слушай. Мне надо вставать и идти утром на мессу, бога в душу. Вы ребята начинаете орать и драться среди нафиг… Из-за чего вы, блин, вообще подрались?
– Это долгая история. Не хочу докучать тебе, Экли. Я думаю о твоем благополучии, – сказал я ему. Я никогда не обсуждал с ним мою личную жизнь. Начать с того, что он был еще тупее Стрэдлейтера. Стрэдлейтер был, блин, гением рядом с Экли. – Эй, – сказал я, – я посплю сегодня на кровати Эли, окей? Он ведь не вернется до завтрашнего вечера, да?
Я был, блин, в этом уверен. Эли ездил домой почти каждые, блин, выходные.
– Я не знаю, когда он нафиг вернется, – сказал Экли. Ух, как он меня раздражал.
– Что, блин, значит, ты не знаешь, когда он вернется? Он никогда не возвращается до воскресного вечера, так?
– Так, но бога в душу, я не могу просто сказать кому-то, что он может спать на его чертовой кровати, если ему так охота.
Сдохнуть можно. Я потянулся с того места, где сидел на полу, и похлопал его нафиг по плечу.
– Ты принц, Экли-детка, – сказал я. – Ты это знаешь?
– Нет, я серьезно – я не могу просто сказать кому-то, что он может спать на…
– Ты настоящий принц. Ты джентльмен и богослов, детка, – сказал я. И это правда. – У тебя случаем нет никаких сигарет? Скажи “нет”, и я сдохну.
– Нет, между прочим, у меня нет. Слушай, из-за чего вы, блин, подрались?
Я ему не ответил. Что я сделал, я встал, подошел к окну и посмотрел на улицу. Мне вдруг стало до того одиноко. Я почти пожалел, что не сдох.
– Из-за чего вы вообще, блин, дрались? – сказал Экли, раз в пятидесятый. Вот уж зануда.
– Из-за тебя, – сказал я.
– Из-за меня, бога в душу?
– Ага. Я защищал твою чертову честь. Стрэдлейтер сказал, у тебя дерьмовый характер. Я не мог спустить ему такое.
Тут он разволновался.
– Он так сказал? Серьезно? Так и сказал?
Я сказал ему, что просто шучу, а затем подошел к кровати Эли и прилег. Ух, как паршиво мне было. До того одиноко.
– Эта комната воняет, – сказал я. – Я отсюда чую твои носки. Ты никогда их в стирку не отдаешь?
– Если тебе не нравится, ты знаешь, что делать, – сказал Экли. Такой остроумный. – Как насчет выключить чертов свет?
Но я не спешил выключать его. Я просто лежал на кровати Эли, думая о Джейн и все такое. Меня просто дикое бешенство брало, когда я думал о ней и Стрэдлейтере, как они сидят где-нибудь в машине этого толстожопого Эда Бэнки. Каждый раз, как я думал об этом, хотелось из окна выпрыгнуть. Дело в том, что вы не знаете Стрэдлейтера. А я знаю. Большинство ребят в Пэнси просто треплются все время о своих половых похождениях с девушками – как тот же Экли, – но старик Стрэдлейтер на самом деле делал это. Я лично знал как минимум двух девушек, которым он вставлял. Вот так-то.
– Расскажи мне историю своей восхитительной жизни, Экли-детка, – сказал я.
– Как насчет выключить чертов свет? Мне утром на мессу вставать.
Я встал и выключил его, если ему так хотелось. Затем снова лег на кровать Эли.
– Ты чего надумал – спать на кровати Эли? – сказал Экли. Ух, само радушие.
– Может, да. Может, нет. Ты об этом не волнуйся.
– Я об этом не волнуюсь. Только ужасно не хочется, чтобы Эли вдруг вернулся и увидел какого-то типа…
– Расслабься. Не собираюсь я тут спать. Я бы не воспользовался твоим чертовым радушием.
Уже через пару минут он храпел как бешеный. Но я все равно продолжал лежать там в темноте, стараясь не думать о старушке Джейн и Стрэдлейтере в этой чертовой машине Эда Бэнки. Но это было почти невозможно. Беда в том, что я знаю, какая техника у этого Стрэдлейтера. От этого все даже хуже. Как-то раз мы с ним пошли на двойное свидание, в машине Эда Бэнки, и Стрэдлейтер со своей девушкой сидел сзади, а я со своей – впереди. Что за техника была у этого парня. Что он делал, это начинал умасливать свою девушку таким очень тихим, искренним голосом – так, словно он был не просто парнем-хоть-куда, а еще добрым и искренним парнем. Я, блин, чуть не блеванул, слушая его. А его девушка все говорила: «Нет… пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста.» Но старик Стрэдлейтер продолжал ее умасливать этим искренним голосом Авраама Линкольна, и наконец на заднем сиденье настала такая зверская тишина. На самом деле было неловко. Не думаю, что он в тот раз вставил той девушке… но почти, блин. Почти, блин.
Пока я там лежал, стараясь не думать, я услышал, как в нашу комнату вернулся старик Стрэдлейтер из уборной. Слышно было, как он убирает свои захезанные туалетные принадлежности и все такое, и открывает окно. Он был помешан на свежем воздухе. Затем, чуть погодя, он выключил свет. Он даже не стал смотреть, куда я девался. Даже на улице была тоска. Не слышно даже было ни одной машины. Я почувствовал себя так одиноко и паршиво, что даже захотелось Экли разбудить.
– Эй, Экли, – сказал я, точнее, прошептал, чтобы Стрэдлейтер не услышал через душевую занавеску.
Но Экли меня не услышал.
– Эй, Экли!
Все равно не услышал. Он спал как бревно:
– Эй, Экли!
Услышал, порядок.
– Какого фига тебе надо? – сказал он. – Я уже спал, бога в душу.
– Слушай. С чего начинается вступление в монастырь? – спросил я его. Я как бы прикидывал, вступить-не вступить в монастырь. – Нужно быть католиком и все такое?
– Разумеется, нужно быть католиком. Козел, ты разбудил меня только затем, чтобы спросить тупой воп…
– А-а, спи дальше. Не собираюсь я вступать в монастырь. При моей везучести я бы наверно вступил в такой, где все монахи с приветом. Сплошь козлы тупые. Или просто козлы.
Когда я это сказал, старик Экли сел, блин, на кровати.
– Слушай, – сказал он, – мне все равно, что ты скажешь обо мне или еще о чем, но если ты будешь ерничать о моей нафиг религии, бога в душу…
– Расслабься, – сказал я. – Никто не ерничает о твоей нафиг религии, – я встал с кровати Эли и направился к двери. Расхотелось торчать дальше в такой дурацкой атмосфере. Но по пути остановился, взял Экли за руку и пожал с таким туфтовым видом. Он отдернул руку.
– Это что еще значит? – сказал он.
– Ничего. Просто хочу выразить благодарность за то, что ты такой нафиг принц, вот и все, – сказал я. Я это сказал таким очень искренним голосом. – Ты просто козырь, Экли-детка, – сказал я. – Ты это знаешь?
– Очень остроумно. Когда-нибудь кто-нибудь проломит тебе…
Я даже не стал дослушивать. Я вышел в коридор и захлопнул нафиг дверь.
Все спали или отсутствовали или уехали домой на выходные, и в коридоре было очень тихо, гнетуще-тихо. Возле двери Лихи и Хоффмана валялась пустая коробка от зубной пасты «Колинос», и пока я шел к лестнице, я пинал ее концом этого тапка на овечьей подкладке. Что я думал сделать, я думал спуститься и глянуть, как там Мэл Броссард. Но вдруг передумал. Я вдруг решил, что сейчас сделаю – свалю к чертям из Пэнси, прямо на ночь глядя и все такое. То есть не буду ждать среды или чего-нибудь еще. Просто расхотелось торчать там дальше. До того мне было тоскливо и одиноко. Значит, что я решил сделать, я решил снять номер в отеле в Нью-Йорке – в каком-нибудь совсем недорогом отеле и все такое – и просто не напрягаться до среды. А потом, в среду, приехать домой полностью отдохнувшим и с классным самочувствием. Я прикинул, что родители вряд ли получат раньше вторника-среды письмо старика Термера о том, что меня исключили. Не хотелось возвращаться домой или вроде того, пока они все хорошенько не переварят и все такое. Не хотелось быть рядом, когда они получат письмо. Моя мама сразу станет истерить. Но, когда она все хорошенько переварит, она вполне ничего. К тому же, мне нужен был как бы маленький отпуск. Нервы были на пределе. Правда.
Короче, я решил так сделать. Значит, я вернулся в свою комнату и включил свет, чтобы собраться и все такое. Я уже до этого собрал немало вещей. Старик Стрэдлейтер даже не проснулся. Я закурил и весь оделся, а потом упаковал эти мои два саквояжа Глэдстоун. Я уложился минуты в две. Я очень быстро собираюсь.
Кое-что в сборах слегка огорчило меня. Пришлось упаковать эти новенькие коньки, которые мама прислала мне практически за пару дней до того. Это меня огорчило. Я так и видел, как мама идет в магазин и задает продавцу миллион несусветных вопросов – и вот, пожалуйста, я снова добился того, что меня исключили. От этого мне стало совсем грустно. Она купила мне не те коньки – я хотел беговые, а она купила хоккейные, но все равно было грустно. Почти каждый раз, как мне дарят подарок, мне в итоге становится грустно.
Когда я весь собрался, я как бы пересчитал капусту. Не помню, сколько именно у меня было, но вполне прилично. Бабушка как раз прислала накануне пачку. У меня такая бабушка, которая не ведет счет деньгам. У нее уже шарики за ролики заехали – она старая как черт знает, кто – и она присылает мне деньги на день рождения раза четыре в году. Короче, хоть у меня с собой было прилично, я прикинул, что еще несколько баксов мне не помешают. Мало ли что. Значит, что я сделал, я прошел по коридору и разбудил Фредерика Вудраффа, того самого, кому машинку одолжил. Я спросил его, сколько он даст за нее. Он был довольно богатым. Он сказал, что не знает. Сказал, что не слишком хочет покупать ее. Но, в итоге, купил. Она стоила баксов девяноста, а он купил всего за двадцатку. Он злился, что я разбудил его.