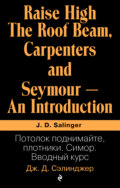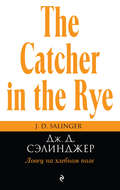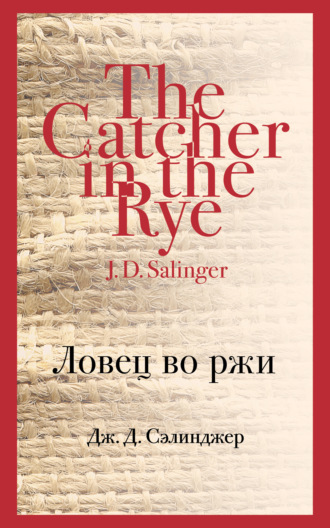
Дж. Д. Сэлинджер
Ловец во ржи
3
Я самый зверский враль, какого вы только видели. Это ужасно. Если я иду в магазин, хотя бы купить журнальчик, и кто-нибудь спросит меня, куда я иду, я запросто скажу, что иду в оперу. Это кошмар. Вот, и когда я сказал старику Спенсеру, что мне надо в спортзал, забрать снаряжение и прочее барахло, это была сплошная ложь. Я вообще не держу мое чертово снаряжение в спортзале.
Где я жил в Пэнси, это в корпусе имени Оссенбургера, в новой общаге. Она была только для младших и старших. Я был младшим. Мой сосед по комнате – старшим. Назван корпус в честь этого малого, Оссенбургера, который ходил в Пэнси. Он нарубил кучу капусты на похоронном бизнесе после того, как окончил Пэнси. Что он сделал, это пооткрывал по всей стране такие похоронные бюро, где можно хоронить своих близких баксов по пять за штуку. Видели бы вы старика Оссенбургера. Он наверно просто пихает их в мешок и сбрасывает в реку. Короче, он отсыпал Пэнси немало капусты, и они назвали в его честь наш корпус. На первый футбольный матч года он прикатил в таком большущем офигенном «кадиллаке”, и нам всем пришлось выстраиваться на трибуне и приветствовать его, как паровоз, стоячими овациями. Затем, на другое утро, в часовне, он произнес речь, длившуюся часов десять. Для начала он выдал штук пятьдесят пошлейших шуток, просто чтобы показать, какой он свойский парень. Очень большое дело. Затем стал нам рассказывать, что никогда не стесняется, если у него случаются какие-нибудь неприятности или вроде того, встать на колени и помолиться Богу. Сказал нам, чтобы мы всегда молились Богу – говорили с Ним и все такое – где бы мы ни были. Сказал нам, чтобы мы думали об Иисусе, как о нашем приятеле и все такое. Сказал, что сам все время говорит с Иисусом. Даже за рулем. Сдохнуть можно. Так и вижу, как этот фуфел туфтовый переключает первую передачу и просит Иисуса послать ему побольше жмуриков. Во всей его речи было единственное хорошее место, прямо в середине. Он рассказывал нам всем, какой он классный парень, какой молоток и все такое, когда вдруг этот парень, сидевший в ряду передо мной, Эдгар Марсалла, издал такой зверский пердеж. Хамство, конечно, в часовне и все такое, но вышло довольно смешно. Старик Марсалла. Чуть крышу не сорвал. Смеха, вроде, не было, а старик Оссенбургер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Термер, директор, сидел с ним бок о бок на кафедре и все такое, и по нему было видно, что он все слышал. Ух, как он взбеленился. В тот раз ничего не сказал, но на следующий вечер заставил нас провести принудительную самоподготовку в учебном корпусе и выдал речь. Сказал, что тот, кто устроил безобразие в часовне, недостоин Пэнси. Мы уговаривали Марсаллу повторить свой номер, прямо во время речи старика Термера, но он был не в том настроении. Короче, я там жил в Пэнси. В корпусе имени старика Оссенбургера, в новой общаге.
Было довольно приятно вернуться в свою комнату после того, как я ушел от старика Спенсера, потому что все были на футболе, а в нашей комнате включили обогрев для разнообразия. Было как-то уютно. Я снял куртку и галстук, и расстегнул воротничок рубашки; а затем надел эту кепку, которую купил тем утром в Нью-Йорке. Это была такая красная охотничья кепка, с таким длинным-предлинным козырьком. Я увидал ее в витрине этого спортивного магазина, когда мы вышли из подземки, как раз после того, как я заметил, что потерял все эти чертовы рапиры. Обошлась мне в один бакс. А носил я ее задом-наперед, козырьком назад – пошлятина, согласен, но мне так нравилось. Я хорошо смотрелся, когда так носил ее. Затем я достал эту книгу, которую читал, и уселся в свое кресло. В каждой комнате было по два кресла. Так что одно было моим, другое – моего соседа, Уорда Стрэдлейтера. Подлокотники были в плачевном состоянии, потому что все вечно садились на них, но кресла вполне себе.
А читал я эту книгу, которую взял в библиотеке по ошибке. Мне дали не ту книгу, а я и не заметил, пока не дошел до комнаты. Мне дали “Из Африки” Исака Динесена. Я думал, книжка будет дрянь, но нет. Очень хорошая книжка. Я довольно безграмотный, но читаю много. Мой любимый автор – мой брат, Д. Б., а после него – Ринг Ларднер. Брат подарил мне книгу Ринга Ларднера на день рождения, как раз перед тем, как я уехал в Пэнси. Там такие очень смешные, чумовые пьесы, и еще один такой рассказ о патрульном копе, который влюбляется в такую хорошенькую девушку, которая вечно куда-то мчится. Только он женат, этот коп, так что не может на ней жениться или еще чего-нибудь. А потом эта девушка погибает, потому что вечно мчится. Я с этого рассказа чуть не помер. Что мне особенно нравится в книгах, это когда там хоть что-то смешное. Я читаю много классических книг, вроде “Возвращения на родину” и всякого такого, и они мне нравятся, и много военных книг и детективов, и всякого такого, но они не особо меня цепляют. Что меня по-настоящему цепляет, это такая книга, которую, как дочитаешь, хочется, чтобы автор, написавший ее, был твоим зверским другом, и ты мог бы позвонить ему, когда захочется. Только такое нечасто случается. Я бы не прочь позвонить этому Исаку Динесену. И Рингу Ларднеру, да только Д. Б. сказал мне, он уже умер. А взять эту книгу, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма. Прочитал прошлым летом. Довольно хорошая книга и все такое, но мне бы не хотелось звонить Сомерсету Моэму. Не знаю. Просто, он не тот парень, которому мне хотелось бы позвонить, вот и все. Уж лучше я бы позвонил старику Томасу Гарди. Нравится мне его Юстасия Вэй[3].
Короче, я надел новую кепку и уселся читать эту книгу, «Из Африки”. Я уже прочел ее, но хотел перечитать отдельные места. И только я дошел страницы до третьей, как услышал, что кто-то прошел через занавески в душевой. Даже не поднимая взгляда, я сразу понял, кто это. Это был Роберт Экли, этот тип из соседней комнаты. В нашем корпусе между каждыми двумя комнатами общий душ, и за день старик Экли заваливался ко мне раз восемьдесят пять. Наверно он единственный во всей общаге, не считая меня, кто не пошел на футбол. Он почти никуда не ходил. Очень странный тип. Он был старшеклассником и провел в Пэнси все четыре года и все такое, но никто не называл его иначе, как «Экли.» Даже его сосед по комнате, Херб Гейл, никогда не называл его ни «Боб», ни даже «Эк.» Если он когда-нибудь женится, родная жена и то, наверно, будет звать его «Экли.» Он из этих высоченных ребят с покатыми плечами – примерно шесть футов, четыре дюйма[4] – и с паршивыми зубами. За все время, что я его знал, ни разу не видел, чтобы он чистил зубы. У них всегда был такой страшный заросший вид, что вас бы, блин, стошнило, если бы увидели его в столовой, с полным ртом пюре с горошком или еще с чем. Кроме того, он был весь в прыщах. Не только на лбу и подбородке, как у большинства ребят, а по всему лицу. И кроме всего прочего, он отличался скверным характером. К тому же, он был тем еще похабником. Сказать по правде, я его недолюбливал.
Я чувствовал, что он стоял на пороге душевой, прямо у меня за спиной, и смотрел, не видно ли Стрэдлейтера. Он люто ненавидел Стрэдлейтера и никогда не входил при нем в комнату. Да он, блин, чуть не каждого люто ненавидел.
Он шагнул из душевой в комнату.
– Привет, – сказал он. Он всегда говорил это так, словно ему зверски скучно или он зверски устал. Он не хотел, чтобы вы думали, что он зашел к вам или вроде того. Он хотел, чтобы вы думали, будто он зашел по ошибке, господи боже.
– Привет, – сказал я, но взгляда от книги не поднял. С таким, как Экли, если поднимешь взгляд от книги, тебе кранты. Тебе так и так кранты, но не так быстро, если не сразу поднимешь взгляд.
Он, как всегда, стал ходить по комнате, медленно так и брать мои личные вещи и все такое со стола и шифоньера. Он всегда брал мои личные вещи и рассматривал. Ух, и действовал он иногда на нервы.
– Как прошло фехтование? – сказал он. Он просто хотел, чтобы я бросил читать и радоваться жизни. Начхать ему было на фехтование. – Мы победили или что? – сказал он.
– Никто не победил, – сказал я. Не поднимая взгляда.
– Что? – сказал он. Он вечно вынуждал все повторять.
– Никто не победил, – сказал я. Я глянул искоса, с чем он там играется на моем шифоньере. Он смотрел на эту фотокарточку этой девушки, Салли Хейс, с которой я одно время гулял в Нью-Йорке. Он брал эту чертову карточку и смотрел на нее наверно пять тысяч раз, если не больше. К тому же, как насмотрится, всегда ставил ее не туда. Намеренно. Это же ясно.
– Никто не победил, – сказал он. – Это как?
– Я оставил чертовы рапиры и всю хрень в подземке.
Я так и не поднял взгляда.
– В подземке, бога в душу! Ты посеял их, так что ли?
– Мы сели не в ту подземку. Мне приходилось вставать и смотреть на чертову карту на стене.
Он подошел и встал, застя мне свет.
– Эй, – сказал я. – Я перечитал это предложение раз двадцать с тех пор, как ты пришел.
Любой, кроме Экли, уловил бы намек, черт возьми. Но только не он.
– Думаешь, тебя заставят заплатить за них? – спросил он.
– Не знаю, и мне до фени. Ты бы сел что ли или вроде того, Экли-детка. Ты, блин, застишь мне свет.
Ему не нравилось, когда его называли «Экли-детка”. Он вечно говорил мне, что я, блин, дите, потому что мне было шестнадцать, а ему – восемнадцать. И бесился, когда я называл его «Экли-детка”.
Он стоял на месте. Он был как раз из тех, кто ни по чем не отойдут, если их попросишь. Он отошел, в итоге, но сделал бы это раньше, если бы я не просил.
– Чего ты там читаешь? – сказал он.
– Книгу, блин.
Он отклонил рукой мою книгу, чтобы увидеть название.
– И как тебе? – сказал он.
– Предложение, что я перечитываю, просто зверское.
Я могу быть весьма саркастичным, когда в настроении. Только он этого не уловил. Он снова стал ходить по комнате и брать все мои личные вещи и Стрэдлейтера. Наконец, я положил книгу на пол. Почитаешь тут, когда рядом такой, как Экли. Просто невозможно.
Я сполз в кресле пониже и смотрел, как хозяйничает старый черт Экли. Я как бы умотался после поездки в Нью-Йорк и все такое, и стал зевать. Затем стал потихоньку валять дурака. Иногда я будь здоров валяю дурака, просто чтобы не скучать. Что я сделал, я повернул козырек старой охотничьей кепки вперед и опустил на глаза. Так, что ни черта не видел.
– Похоже, я слепну, – сказал я очень таким хриплым голосом. – Матушка, у меня в глазах темнеет.
– Ты сбрендил. Ей-богу, – сказал Экли.
– Матушка, дай мне руку. Почему ты не дашь мне руку?
– Бога в душу, повзрослей уже.
Я стал шарить руками перед собой как слепой, но не вставал, ничего такого. И все говорил:
– Матушка, почему ты не дашь мне руку?
Я, понятное дело, просто валял дурака. Иногда я балдею с такого. К тому же, я знаю, что это адски бесило старика Экли. Он вечно пробуждал во мне старого садиста. Я частенько бывал с ним приличным садистом. Но потом перестал. Я снова повернул козырек назад и расслабился.
– А это чье? – сказал Экли. Он держал и показывал мне наколенник моего соседа. Этот тип Экли брал все подряд. Он бы взял и твой бандаж и что угодно. Я сказал ему, что это Стрэдлейтера. Тогда он бросил наколенник на кровать Стрэдлейтера. Он взял его с шифоньера Стрэдлейтера, поэтому бросил на кровать.
Он подошел к креслу Стрэдлейтера и сел на подлокотник. В кресло никогда не сядет. Всегда – на подлокотник.
– Где ты, блин, достал эту кепку? – сказал он.
– В Нью-Йорке.
– За сколько?
– За бакс.
– Тебя ограбили.
Он стал чистить свои поганые ногти концом спички. Он вечно чистил ногти. Занятно даже. Зубы у него вечно были заросшие, и уши грязные, как у черта, но ногти он вечно чистил. Наверно считал себя большим чистюлей. Продолжая чистить их, он снова глянул на мою кепку.
– Дома у нас мы такие кепки надеваем, чтобы оленей стрелять, а не просто так, – сказал он. – Это кепка для охоты на оленей.
– Черта с два, – я снял ее и осмотрел, как бы прищурившись, словно взял ее на мушку. – Это кепка для охоты на людей, – сказал я. – Я в этой кепке людей стреляю.
– Предки твои знают, что тебя вытурили?
– Неа.
– Где вообще этот черт Стрэдлейтер?
– На футболе. У него свидание.
Я зевнул. Я зевал как заведенный. Между прочим, в комнате было чертовски жарко. В сон клонило. В Пэнси ты либо вусмерть замерзал, либо подыхал от жары.
– Великий Стрэдлейтер, – сказал Экли. – Эй. Дай-ка мне ножницы на секунду, а? Они у тебя под рукой?
– Нет. Я их уже убрал. Они в шкафу, наверху.
– Достань на секунду, а? – сказал Экли. – У меня этот заусенец, хочу срезать.
Ему было все равно, убрал ты что-то или нет на самый верх шкафа. Но я достал ему ножницы. И меня при этом чуть не убило. Только я открыл дверцу шкафа, как теннисная ракетка Стрэдлейтера – в деревянном футляре и все такое – свалилась прямо мне на голову. Такой громкий блямс и чертовски больно. А старик Экли чуть со смеху не сдох. Стал смеяться таким тоненьким фальцетом. Смеялся все время, пока я доставал чемодан и вынимал ему ножницы. От всякого такого – кто-то получил камнем по башке или вроде того – Экли балдел до уссачки.
– У тебя офигенное чувство юмора, Экли-детка, – сказал я ему. – Ты это знаешь? – я протянул ему ножницы. – Давай я стану твоим агентом. Я тебя на радио пристрою, – я снова сел в свое кресло, а он стал стричь свои здоровые захезанные ногти. – Давай над столом или вроде того? – сказал я. – Стриги их над столом, а? Не хочется наступить ночью босиком на твои паршивые ногти.
Но он продолжал стричь их над полом. Что за дурацкая манера. Серьезно.
– С кем свиданка у Стрэдлейтера? – сказал он. Он вечно следил, с кем Стрэдлейтер ходил на свидания, хотя люто ненавидел Стрэдлейтера.
– Не знаю. А что?
– Так просто. Ух, не выношу этого сукина сына. Если какого сукина сына не выношу, так это его.
– Он без ума от тебя. Он сказал мне, что считает тебя принцем, блин, – сказал я. Я довольно часто называю кого-нибудь «принцем», когда валяю дурака. Это помогает не скучать или вроде того.
– У него все время такое надменное отношение, – сказал Экли. – Просто не выношу сукина сына. Можно подумать, он…
– Ты не мог бы стричь свои ногти над столом, а? – сказал я. – Я просил уже раз пятьдесят…
– У него все время такое, блин, надменное отношение, – сказал Экли. – Я этого сукина сына даже умным не считаю. Он считает себя умным. Он считает себя самым…
– Экли! Бога в душу. Стриги, пожалуйста, свои захезанные ногти над столом, а? Я пятьдесят раз тебя просил.
Он стал стричь ногти над столом, для разнообразия. Единственный способ добиться от него чего-то, это заорать на него.
Я сидел и смотрел на него. Затем сказал:
– Почему ты злишься на Стрэдлейтера, это потому, что он сказал насчет того, чтобы ты чистил зубы время от времени. Он не хотел обидеть тебя, до рыданий довести. Он сказал, так не годится и все такое, но он не имел в виду ничего обидного. Он только имел в виду, что ты бы лучше выглядел и чувствовал себя лучше, если бы как бы чистил зубы время от времени.
– Я чищу зубы. Не надо мне тут.
– Нет, не чистишь. Я сколько раз тебя видел, и ты не чистишь, – сказал я. Но я сказал это беззлобно. Мне его было как бы жаль, в каком-то смысле. То есть, понятное дело, это не слишком приятно, когда кто-то тебе говорит, что ты не чистишь зубы. – Стрэдлейтер вообще ничего. Он не так уж плох, – сказал я. – Ты его не знаешь, в этом проблема.
– Все равно я скажу, что он сукин сын. Самодовольный сукин сын.
– Он самодовольный, но в каких-то вещах очень щедрый. Правда, – сказал я. – Смотри. Предположим, к примеру, Стрэдлейтер носил бы галстук или вроде того, который тебе понравился. Скажем, на нем был бы галстук, который тебе чертовски понравился – я просто для примера говорю. Ну вот. Знаешь, что бы он сделал? Он бы наверно снял его и отдал тебе. Правда. Или… знаешь, что бы он сделал? Оставил бы его на твоей кровати или вроде того. Но он бы отдал тебе этот чертов галстук. Большинство ребят наверно просто бы…
– Блин, – сказал Экли. – Будь у меня столько капусты, как у него, я бы тоже.
– А вот и нет, – я покачал головой. – Вот и нет, Экли-детка. Будь у тебя столько капусты, ты был бы одним из самых…
– Хватит называть меня Экли-детка, черт тебя дери. Я тебе в отцы нафиг гожусь.
– А вот и нет.
Ух, и досаждал же он иногда. Он не упускал случая напомнить, что тебе шестнадцать, а ему – восемнадцать.
– Начать с того, что я бы тебя нафиг не пустил к себе в семью, – сказал я.
– Что ж, кончай давай называть меня…
Тут вдруг дверь открылась, и ввалился старик Стрэдлейтер, в большой спешке. Он вечно был в большой спешке. Все у него было большим делом. Он подошел ко мне и пару раз похлопал по щекам, чертовски игриво – иногда это очень раздражает.
– Слушай, – сказал он. – У тебя есть на вечер особые планы?
– Не знаю. Возможно. Что за чертовщина там творится – снег что ли?
У него все пальто было в снегу.
– Ага. Слушай. Если у тебя нет особых планов, как насчет одолжить мне свой пиджак в гусиную лапку?
– Кто выиграл? – сказал я.
– Еще пол-игры. Мы уходим, – сказал Стрэдлейтер. – Кроме шуток, нужна тебе сегодня гусиная лапка или нет? Я залил свой серый фланелевый какой-то сранью.
– Нет, но я не хочу, чтобы ты растянул его нафиг своими плечами и все такое, – сказал я. Рост у нас практически один в один, но весил он почти вдвое больше моего. У него такие широченные плечи.
– Не растяну, – он подошел к шкафу в большой спешке. – Как сам, Экли? – сказал он Экли.
Он был хотя бы приветливым парнем, Стрэдлейтер. Приветливость его была не без туфты, но он хотя бы всегда говорил Экли привет и все такое.
Экли ему только буркнул что-то на его «Как сам?» Ответить не ответил, но кишка была тонка хотя бы не буркнуть. Затем он сказал мне:
– Пойду, пожалуй. Покеда.
– Окей, – сказал я. Я не слишком убивался, что он меня покинул.
Старик Стрэдлейтер стал снимать пальто и галстук, и все такое.
– Побриться что ли по-быстрому, – сказал он. У него была приличная борода. Правда.
– Где твоя зазноба? – спросил я его.
– Ждет во “Флигеле”.
Он вышел из комнаты со своим бритвенным набором и полотенцем под мышкой. Ни рубашки, ничего. Он вечно расхаживал с голым торсом, потому что считал свою фигуру чертовски привлекательной. И с этим не поспоришь. Это надо признать.
4
Делать мне было особо нечего, так что я пошел в уборную, точить с ним лясы, пока он брился. Кроме нас в уборной никого не было, потому что никто еще не пришел с футбола. Было адски жарко, и все окна запотели. Вдоль стены протянулось порядка десяти умывальников. Стрэдлейтер встал у среднего. Я присел на соседний и стал открывать и закрывать холодную воду – такая у меня нервная привычка. Стрэдлейтер за бритьем насвистывал «Песнь Индии[5]«. У него был такой жутко пронзительный свист, практически не попадавший в ноты, к тому же он всегда выбирал такие песни, какие не каждый хороший свистун вытянет, вроде «Песни Индии» или «Бойни на десятой авеню.» Умел он песню запороть.
Помните, я говорил, что Экли был неряхой в личном плане? Что ж, Стрэдлейтер – тоже, но по-другому. Стрэдлейтер был, скорее, скрытным неряхой. Он всегда выглядел что надо, Стрэдлейтер, но, к примеру, вы бы видели бритву, которой он брился. Вся ржавая как черт, в присохшей пене, волосках и прочем дерьме. Никогда ее не чистил, ничего. Он всегда хорошо выглядел, когда заканчивал прихорашиваться, но все равно он был скрытным неряхой для тех, кто знал его, как я. А прихорашивался он по той причине, что до одури себя любил. Он считал себя первым красавцем в Западном полушарии. Он, и вправду, довольно красив, это я признаю. Но он, по большому счету, такой красавец, которого если увидят в школьном альбоме твои родители, они сразу скажут: «Кто этот мальчик?» Я хочу сказать, он был, по большому счету, альбомным красавцем. Я знал в Пэнси полно ребят, на мой взгляд, гораздо красивей Стрэдлейтера, но они не выглядели красавцами на фотографиях в альбоме. Они выглядели так, словно у них большой нос или уши торчат. Я частенько замечал такое.
Короче, я сидел на умывальнике рядом со Стрэдлейтером, пока он брился, и как бы открывал-закрывал воду. На мне все еще была эта кепка, козырьком назад и все такое. Я действительно балдел от этой кепки.
– Эй, – сказал Стрэдлейтер. – Хочешь сделать мне большое одолжение?
– Какое? – сказал я. Без особого энтузиазма. Он всегда просил сделать ему большое одолжение. Возьми какого-нибудь красавчика или того, кто считает себя большим молодцом, и он всегда будет просить тебя о большом одолжении. Просто потому, что они сами без ума от себя, они думают, что и ты от них без ума и просто ждешь-не дождешься сделать им одолжение. Смешно по-своему.
– Ты идешь куда сегодня? – сказал он.
– Может быть. Может, и нет. Я не знаю. А что?
– Мне надо около сотни страниц прочитать по истории к понедельнику, – сказал он. – Как насчет написать за меня сочинение по английскому? Мне будет крышка, если я не сдам эту хрень в понедельник, потому и прошу. Ну, так как?
Не иначе, как ирония судьбы. На самом деле.
– Меня, блин, вытурили отсюда, а ты, блин, просишь меня написать за тебя сочинение, – сказал я.
– Да я понимаю. Но просто мне будет крышка, если я не сдам его. Будь другом. Будь дружищем. Окей?
Я не сразу ему ответил. Таких козлов, как Стрэдлейтер, полезно подержать в напряжении.
– О чем? – сказал я.
– О чем угодно. Лишь бы что-нибудь наглядное. Комната. Или дом. Или что-то, где ты жил или вроде того… ну, понимаешь. Лишь бы было нафиг наглядно, – и зевнул во весь рот на этих словах. Вот от такого у меня просто мировая боль в жопе. То есть, если кто-то просит тебя сделать ему, блин, одолжение, а сам при этом зевает. – Просто не слишком старайся, и все, – сказал он. – Этот сукин сын Хартцелл считает, что ты молоток в английском, а он знает, что мы в одной комнате. Так что не вставляй все запятые и прочую фигню в нужных местах.
Вот от этого у меня тоже мировая боль. То есть, когда вы умеете писать сочинения, а кто-то начинает говорить про запятые. Стрэдлейтер всегда был таким. Он хотел тебе внушить, что единственная причина, почему он писал фуфлыжные сочинения, это потому, что ставил все запятые не в тех местах. Этим он в каком-то смысле походил на Экли. Как-то раз я сидел с Экли на этом баскетбольном матче. У нас в команде был зверский игрок, Хоуи Койл, который мог забросить мяч с середины поля, даже не задев доски или вроде того. Так вот, Экли весь матч твердил, что у Койла идеальное телосложение для баскетбола. Господи, как я ненавижу такую хрень.
В какой-то момент мне надоело сидеть на этом умывальнике, так что я отошел на несколько футов и начал выделывать эту чечетку – просто по приколу. Я просто развлекался. Вообще я не умею танцевать чечетку или что-то такое, но в уборной был каменный пол, в самый раз для чечетки. Я стал подражать одному из этих ребят в кино. В одном из этих мюзиклов. Ненавижу кино как отраву, но балдею, когда подражаю. Старик Стрэдлейтер смотрел на меня в зеркало, пока брился. Все, что мне нужно, это публика. Я эксгибиционист.
– Я, блин, сын губернатора, – сказал я. Я отрывался по полной. Отбивал чечетку по всему полу. – Он не хочет, чтобы я танцевал чечетку. Он хочет, чтобы я поехал в Оксфорд. Но у меня это, блин, в крови – чечетка, – старик Стрэдлейтер засмеялся. У него было не самое плохое чувство юмора. – Сегодня премьера “Безумств Зигфелда[6]”, – я начинал выдыхаться. У меня дыхалка никакая. – Герой не может выступать. Напился в стельку. Кого же возьмут на замену? Меня, вот кого. Мелкого, блин, сынка губернатора.
– Где ты достал эту кепку? – сказал Стрэдлейтер. Он имел в виду мою охотничью кепку. Только что увидел.
Я все равно уже выдохся, так что перестал дурачиться. Я снял кепку и осмотрел ее наверно девятнадцатый раз.
– В Нью-Йорке достал сегодня утром. За бакс. Нравится?
Стрэдлейтер кивнул.
– Четкая, – сказал он. Но он просто подлизывался, потому что тут же сказал: – Слушай. Ты напишешь за меня это сочинение? Мне надо знать.
– Будет время, напишу. Не будет, не напишу, – сказал я. Я подошел и снова присел на умывальник рядом с ним. – С кем у тебя свиданка? – спросил я его. – С Фицджеральд?
– Блин, нет! Я же говорил. С этой свиньей я завязал.
– Да? Уступи ее мне, парень. Кроме шуток. Она в моем вкусе.
– Забирай… Она для тебя старовата.
И вдруг – вообще без причины, не считая того, что я как бы дурачился – мне захотелось соскочить с умывальника и схватить старика Стрэдлейтера полунельсоном. Это борцовский захват, если вы не знали, когда хватаешь другого за шею и душишь хоть до смерти, если хочешь. Так я и сделал. Наскочил на него как чертова пантера.
– Брось это, Холден, бога в душу! – сказал Стрэдлейтер. Ему не хотелось валять дурака. Он брился и все такое. – Чего ты хочешь от меня – чтобы я башку себе отрезал?
Но я его не отпустил. Я держал его хорошим таким полунельсоном.
– Высвободись из моей мертвой хватки, – сказал я.
– Господи боже.
Он положил бритву и резко вскинул руки и как бы разорвал мою хватку. Он очень сильный парень. Я очень слабый парень.
– Ну-ка, брось эту фигню, – сказал он. Он принялся бриться по-новой. Он всегда брился по два раза, чтобы быть неотразимым. Своей захезанной старой бритвой.
– С кем же ты пойдешь, если не с Фицджеральд? – спросил я его. Я снова присел на ближайший умывальник. – С этой крошкой Филлис Смит?
– Нет. Я собирался, но все пошло наперекосяк. Теперь я иду с соседкой девушки Бада Тоу… Эй, чуть не забыл. Она тебя знает.
– Кто меня знает? – спросил я.
– Моя пассия.
– Да? – сказал я. – Как ее звать?
Мне стало интересно.
– Пытаюсь вспомнить… Э-э. Джин Галлахер.
Ух, я чуть не сдох при этом.
– Джейн Галлахер, – сказал я. Я даже встал с умывальника, когда он это сказал. Я, блин, чуть не сдох. – Ты, блин, прав – я ее знаю. Она практически жила со мной в соседнем доме, позапрошлым летом. У нее был такой, блин, здоровый доберман-пинчер. Так я с ней и познакомился. Ее пес повадился к нам…
– Ты мне застишь свет, Холден, бога в душу, – сказал Стрэдлейтер. – Тебе обязательно здесь торчать?
Ух, до чего же я разволновался. Правда.
– Где она? – спросил я его. – Я должен спуститься и поздороваться с ней или вроде того. Где она? Во “Флигеле»?
– Ага.
– Как она меня вспомнила? Она теперь ходит в Брин-мор? Она говорила, что может туда поступить. Или, говорила, может, в Шипли поступит. Я думал, она пошла в Шипли. Как она меня вспомнила?
Я разволновался. Правда.
– Я не знаю, бога в душу. Встань, а? Ты на моем полотенце, – сказал Стрэдлейтер. Я сидел на его дурацком полотенце.
– Джейн Галлахер, – сказал я. Я никак не мог успокоиться. – Пресвятые угодники.
Старик Стрэдлейтер накладывал на волосы “Виталис”. Мой “Виталис”.
– Она танцовщица, – сказал я. – Балет и все такое. Она практиковалась часа два каждый день, прямо в самую жару и все такое. Она переживала, что у нее ноги испортятся – станут толстыми и все такое. Я с ней все время в шашки играл.
– Во что ты с ней все время играл?
– В шашки.
– Шашки, господи боже!
– Ага. Она не двигала свои дамки. Что она делала, когда получала дамку, она ее не двигала. Просто оставляла в заднем ряду. Выстраивала их всех в ряд. И больше не трогала. Ей просто нравилось, как они смотрятся, когда стоят все в заднем ряду.
Стрэдлейтер ничего не сказал. Подобные вещи мало кого интересуют.
– Ее мама входила в тот же гольф-клуб, что и мы, – сказал я. – Я как-то подносил ей клюшки, просто чтобы срубить капусты. Пару раз подносил клюшки ее маме. Она выбивала порядка ста семидесяти, на девяти лунках.
Стрэдлейтер едва слушал. Он расчесывал свои шикарные локоны.
– Мне надо бы спуститься к ней и хотя бы поздороваться, – сказал я.
– Ну и спустился бы.
– Сейчас, через минуту.
Он начал расчесывать волосы по новой. У него уходил где-то час, чтобы причесаться.
– Ее мать с отцом были в разводе. Ее мать снова вышла за какого-то ханыгу, – сказал я. – Костлявого типа с волосатыми ногами. Я его помню. Все время ходил в шортах. Джейн говорила, он вроде как драматург или еще какой-то такой хрен, но все, что я видел, это как он все время бухал и слушал каждую чертову детективную передачу на радио. И носился по дому голым. При Джейн, и все такое.
– Да ну? – сказал Стрэдлейтер. Вот это его интересовало. О том, как ханыга носится голым по дому, при Джейн. Стрэдлейтер, как последняя скотина, был помешан на сексе.
– У нее было паршивое детство. Я не шучу.
Но это Стрэдлейтера не интересовало. Его только про секс интересовало.
– Джейн Галлахер. Господи, – она не шла у меня из головы. Правда. – Мне надо бы спуститься и поздороваться с ней, хотя бы.
– Так и спустился бы, вместо того, чтобы повторять это, – сказал Стрэдлейтер. Я подошел к окну, но сквозь него было не видно, до того запотело от жары в уборной.
– Я сейчас не в настроении, – сказал я. Так и было. Для таких вещей надо быть в настроении. – Я думал, она пошла в Шипли. Поклясться мог бы, что – в Шипли, – Я немного походил по уборной. Больше делать было нечего. – Ей понравился матч? – спросил я.
– Ага, наверно. Не знаю.
– Она тебе не говорила, что мы с ней все время в шашки играли или еще что-нибудь?
– Не знаю. Бога в душу, я с ней только познакомился, – сказал Стрэдлейтер. Он закончил расчесывать свою роскошную, блин, шевелюру. И убирал все свои захезанные туалетные принадлежности.
– Слушай. Передай ей привет от меня, хорошо?
– Окей, – сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он вряд ли сделает это. Ребята вроде Стрэдлейтера никогда не передают от тебя приветов.
Он вернулся в комнату, но я еще задержался в уборной, думая о старушке Джейн. Затем тоже вернулся в комнату.
Стрэдлейтер повязывал галстук перед зеркалом, когда я вошел. Он проводил перед зеркалом половину своей чертовой жизни. Я сел в свое кресло и как бы смотрел на него какое-то время.
– Эй, – сказал я. – Не говори ей, что меня вытурили, хорошо?
– Окей.
Вот уж чем Стрэдлейтер был хорош. Ему не приходилось объяснять любую фигню, как – Экли. В основном, наверно, потому что ему было не слишком интересно. В этом все дело. Экли был другим. Экли во все, блин, влезал.
Он надел мой пиджак в гусиную лапку.
– Господи, постарайся только не растянуть его ко всем чертям, – сказал я. Я надевал его всего пару раз.
– Не растяну. Где, блин, мои сигареты?
– На твоем столе, – он никогда не помнил, где что оставил. – Под твоим шарфом.
Он положил их в карман куртки – моей куртки.
Я вдруг повернул козырек охотничьей кепки вперед, для разнообразия. Я вдруг занервничал. Я довольно нервный.
– Слушай, куда вы с ней поедете? – спросил я его. – Не знаешь еще?
– Не знаю. В Нью-Йорк, если будет время. Она отпросилась только до девяти-тридцати, бога в душу.