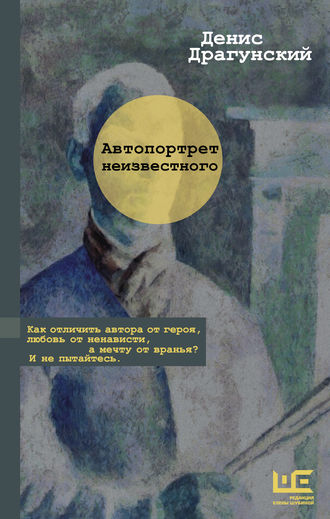
Денис Драгунский
Автопортрет неизвестного
– Беда современной молодежи в том, – сказала Юля, – что она перестала понимать странные поступки. Все как-то слишком понятно. По системе «дай-возьми», и это грустно.
– А тебе-то сколько лет? – засмеялся Игнат.
– Бывает, что буквально пять или пятнадцать лет разносят людей по разным поколениям, – важно заявила Юля.
– Ты старше меня на пятнадцать лет?
– Я пошутила, ты что, – сказала она.
Игнат стал пристально ее рассматривать, но так ничего и не понял. Вообще-то он знал почти точно, что ей тридцать или тридцать два, то есть она старше его всего на пять лет. Но иногда ему казалось, что ей черт знает сколько, чуть ли не шестьдесят. А иногда – что они ровесники или она даже младше, как будто первокурсница.
9.
Тем временем Алексей и Оля на такси подъехали к дому Риммы Александровны. Алексей расплатился с шофером, помог Оле выйти, и через две минуты они уже входили в комнату с накрытым столом. Любовь Семеновна своим травестишным голосом воскликнула: «Ой, кто к нам пришел!» – хотя она вряд ли узнала Олю. А удивляться Алексею тем более было незачем, но уж такая у нее была манера. «Ой, кто к нам пришел!» – громко и пискляво повторила она, как будто в колокольчик позвонила, и тут же из смежного с гостиной кабинета вышла Римма Александровна и остановилась между дверью и столом.
– Здравствуйте, – сказала Оля.
– На чужой сторонушке рад своей воронушке! – сказал Алексей. – Вот, мама, это Оля Карасевич, дочка Генриетты Михайловны.
– Зачем эти народные прибаутки? – пожала плечами Римма Александровна.
– А ведь и в самом деле? – спросил Игнат. – Зачем все эти народные прибаутки?
– А он такой, – сказала Юля. – Чучело гороховое. То есть пугало огородное. Игнаша, ты видел настоящее огородное пугало?
– Видел, – сказал Игнат. – Один раз. Из окна электрички. На сто пятом километре поезда Москва – Тверь.
– Ого. А что ты делал в Твери?
– Я там диссертацию защищал. Встречался с научным руководителем. Профессор Губман, есть там такой философ.
– Борис Львович?
– А ты откуда знаешь?
– Я все знаю, – сказала Юля. – Давай дальше.
– Мама, это Оля Карасевич, – повторил Алексей. – А Генриетта Михайловна, к сожалению, неважно себя чувствует.
– Да, – сказала Римма Александровна. – Да, да. – Помолчала и протянула руку. – Здравствуйте, Олечка.
– Римма Александровна, – начала Оля, пожимая ее руку. – Я в этот день, Римма Александровна, в этот печальный день, я хочу сказать…
Римма Александровна совсем по-мужски встряхнула Олину руку и освободила наконец свою ладонь из ее пальцев.
– Садитесь, Оля! – сказала она, как учительница восьмикласснице. – Алеша, усади Олечку. Вот сюда. Я рада, что вы пришли. Любовь Семеновна, положите Олечке закусить.
Во главе стола стояла тарелка, на ней – стопка водки, накрытая куском хлеба. В маленьком подсвечнике горела свечка. Римма Александровна села справа от этого алтаря; рядом с ней поместился Алеша. Оля оказалась напротив них. Любовь Семеновна сидела по той же стороне, что и Оля, но через один стул. Она стала накладывать Оле салаты и ветчину.
– Спасибо, как много, что вы… – бормотала Оля.
– Люди меняются, Олечка, забывают всё, – сказала Римма Александровна. – А как любили друзья наш дом, когда был жив Сергей Васильевич!.. А теперь – всё. Забыли.
– Ма-а-ама! – сказал Алексей.
Римма Александровна отмахнулась от него и продолжала:
– Я, Олечка, немногих позвала. Знаете, уже тех позвала, в ком уверена была, что придут. И что же? – засмеялась она. – Опять просчиталась! Просчиталась в козырях!
– Мама, давай лучше поедим, – сказал Алексей.
– Люди злы, моя девочка, – продолжала она, обращаясь к Оле. – Они не помнят добра, они на добро отвечают злом, они звери…
– Не обижайте зверей, Римма Александровна, – кротко улыбнувшись, ответила Оля. – Звери не умеют злиться.
– Да нет, я не в том смысле, Олечка. Хотя почему же? Именно в том. Чтобы разозлиться, надо быть личностью. А эти просто кусают, просто грызут тех, кто рядом. Они не злятся, они просто едят то, что съедобно. Единственное, что их отличает от настоящих зверей, – у них нет внутривидового самосохранения. Они грызут себе подобных. И в этом смысле вы правы. В этом смысле настоящие звери, которые мохнатые и с когтями, они, конечно, лучше. А между прочим, одного из них Сергей Васильевич перевел в Москву из Харькова. Другому дал целый институт – твори, работай. Третьему… да что тут считать! За одного бракодела перед Иосифом Виссарионовичем заступился, вы понимаете, Олечка? Добился личного приема у Сталина, добился разговора с глазу на глаз со Сталиным, чтобы друга спасти, вы понимаете?
– Да, Римма Александровна, – вздохнула Оля
– Все всё понимают, – сказал Алексей. – Давайте лучше…
– А он утречком заскочил на минутку, отметился, оказал уважение! Даже машину не отпустил! А потом не пришел!
– Что? – спросил Алексей и чуть не вскочил со стула. – Ярослав Диомидович был утром? В котором часу? Почему ты мне не сказала?
– Потому что он обещал прийти вместе со всеми гостями.
– А… а о чем вы разговаривали?
– О тебе! – засмеялась Римма Александровна. – Олечка, и вот такое отношение. Заскочил на пять минут и был таков. Не помнит, что, кабы не Сережа, его бы не было. Понимаете, Оля, – не было.
– Что? – спросил Алексей.
– То! Не было бы! – оскалилась Римма Александровна.
– Нет! – сказал Алексей. – Обо мне говорили? Что же он обо мне говорил?
– Какая тебе разница? – спросила Римма Александровна. – В сотый раз рассказал мне, какой ты умный и что твоя голова – государственная ценность. Что тебя беречь надо. Дурак старый.
– Что?
– То! – Она оскалилась еще сильнее и снова повернулась к Оле. – Его бы не было. Он превратился бы, пардон за изящную словесность, в горстку лагерной пыли. Вам, Олечка, этого просто не понять, ну и слава богу. Ходит, понимаете ли, весь в погонах, в орденах. А у Сергея Васильевича орденов не меньше. Хотите, покажу?
– Ма-ма! – Алексей чуть не застонал.
– Да, Римма Александровна, – сказала Оля. – Покажите, пожалуйста.
Римма Александровна пошла в кабинет.
– Ну-с, мадемуазель, что будем пить? – обратился Алексей к Оле.
– На твое усмотрение.
– Смотря как будем пить, – сказал Алексей. – Если понемножку и смакуя, то «Манавис Мцване». Или «Зедаше». А если по-византийски, по-грузински, то рекомендую «Напареули». Ну, что?
– «Шато-Икем», – сказала Оля.
– Ого! Эрудитушко! Откуда знаешь?
– Читала.
– Люблю молодежь, она всегда умеет этак огорошить… Мама! У нас есть «Шато-Икем»? Нет у нас «Шато-Икему». Так что выпей «Мцване», – и налил ей.
– Ты что там кричал? – Римма Александровна вошла, держа в руках генеральский китель. – Вот, Олечка, глядите. И при этом он всегда ходил в штатском.
Она передала китель Оле, та осторожно положила его себе на руку, погладила лацканы, потрогала колодки.
– Это какого ордена ленточка?
– Ленина. А это Трудового Красного Знамени.
– Ну все, все, поглядела, – сказал Алексей, пытаясь забрать у Оли китель
– Погоди. А это?
– Это? Это не наш, – ответила Римма Александровна. – Это польский. «Крест Грюнвальда». Сергей Васильевич воевал в Польше. Наградили, естественно, потом, когда он уже стал министром.
Алексей отобрал у Оли китель, повесил его на спинку свободного стула.
– Может быть, сюда? – сказала Любовь Семеновна, показывая на стул во главе стола, перед пустой тарелкой с рюмкой водки, хлебом и свечой.
– Не надо! Слишком символично, – сказал Алексей, подняв бокал.
– Будешь тост произносить? – спросила Римма Александровна.
– Нет, нет, тосты произносит самый младший. Он же открывает дверь, режет хлеб и бегает за водкой, когда она кончается.
– Хватит!!! – закричала Римма Александровна. – Замолчишь ты или нет? Чучело!
– Молчу. Ольга. Тебя ждем.
Оля встала, взяла бокал.
– Давайте выпьем… Ой, я пролила.
– Я виноват, налил с горкой, – сказал Алексей.
– Пустяки, пустяки, Олечка, ерунда, – успокоила Римма Александровна.
– Давайте выпьем за вечную память, – сказала Оля, – за вечную память Сергея Васильевича Перегудова, выдающегося ученого, организатора науки и промышленности и прекрасного человека.
– Не чокаются, – предупредила Римма Александровна.
Алексей выпил, прожевал и спросил:
– А откуда ты знаешь, какой он человек?
– Ну, Леша! – одернула его Римма Александровна.
– Не люблю официальной скорби. – Он говорил с набитым ртом. Получилось под Брежнева; Брежнев к тому времени уже два года как умер, так что передразнивать его было совсем безопасно и даже приятно.
– Я была с Сергеем Васильевичем неплохо знакома, – сказала Оля.
– Вот как? – Римма Александровна сощурилась.
– Да, так.
– Но ты ведь девочкой была, когда он умер, крохой была. – Римма Александровна вдруг перешла на «ты». – Тебе лет десять было!
– Двенадцать. Не такая уж кроха.
– Где же вы встречались?
– Он приходил к нам. К маме, с какими-то бумагами. То ли приносил какие-то бумаги, то ли забирал, не помню. А может быть, и то и другое. Что-то приносил, что-то забирал.
– А с тобой разговаривал?
– Да.
– Что говорил?
– Не помню. Наверное, и не говорил ничего особенного. Так. Брал на руки. Сажал на колени. Целовал. Шутил.
– Он тебе дарил что-нибудь?
– О да! – серьезно сказала Оля. – Конечно, дарил, а как же! Кольца с бриллиантами. Брошки, тоже с бриллиантами. И серьги. С изумрудами. И прочие драгоценности, и еще меха, дорогая Римма Александровна! Также дачу в Барвихе, кооператив на «Аэропорте» и автомобиль «Жигули» третьей модели, знаете, дурацкий такой дизайн, много никеля…
Римма Александровна в ответ светски улыбнулась.
– Еще конфеты. Шоколадные наборы. Такие красные с золотом коробки. Там была такая шоколадная, в золотой бумажке, бутылочка с ромом. Он ее вынимал и отдавал маме. Говорил: «Это Оле нельзя, это детям вредно».
– Сергей Васильевич очень любил детей, – сухо сказала Римма Александровна.
– Да. Я это чувствовала. Я же говорю – замечательный человек.
– Ольга, ты почему не ешь? – сказал Алексей. – Закусывай давай.
– Да, Алеша, поухаживай… Любовь Семеновна, положите что-нибудь Олечке.
– Спасибо, у меня много.
– Олечка, а как вообще ваши дела? Вы еще учитесь? Или уже окончили? Вы, наверное, курите? Закуривайте, не стесняйтесь. Сергей Васильевич курил, дымил на весь дом и даже Алешке разрешил с восемнадцати лет, но Алеша не стал. Возможно, потому, что было разрешено. Можно было у папы взять хорошую папиросу и закурить… Сергей Васильевич был хороший педагог! Он курил папиросы «Герцеговина Флор», как сами знаете кто. Но у меня есть сигареты, импортные, «Уинстон». Любовь Семеновна, принесите Олечке сигареты, в кухне, в комоде, где чай…
– Спасибо, я не курю, – отказалась Оля и ответила на предыдущий вопрос: – Я на четвертом курсе.
– Прекрасно, прекрасно. Простите, я не помню, вы по маминым стопам?
– Диаметрально по другой части! – сказал Алексей.
– Ах, по другой части… Диаметрально? Забавно, что там диаметрально противостоит антеннам?
– В Строгановском училище, – сказала Оля. – Скульптор малых форм.
– Это что, всякие статуэтки?
– Да. Еще значки, медали и ювелирные изделия.
– Откуда такой выбор?
– На маму глядя! Подъем в шесть тридцать, институт аудитория кафедра лаборатория библиотека дома в полвосьмого и надо еще к лекции подготовиться – и вот так еже-боже-дневно, сколько я ее помню. Вместо сердца пламенный мотор. Разве так должна жить женщина?
– Экая вы… – улыбнулась Римма Александровна, но вдруг встала со стула. – Простите, молодые люди, у меня чертовски разболелась голова. Олечка, вы меня прощаете? Любовь Семеновна, дадите молодым людям горячее и чай?
– Мы сами, сами, сами! – сказал Алексей. – Мы еще немножко посидим.
– До свидания, Олечка. Передайте маме привет. Передайте, что я к ней с огромным уважением отношусь. Постарайтесь объяснить маме, что мы уже такие немолодые, что мы почти уже две старухи…
– Что вы, что вы, Римма Александровна!
– Не перебивайте! Постарайтесь объяснить, что мы вполне можем дружить. У вас вообще часто бывают гости, друзья?
– Нет, не очень.
– Тем более, тем более! Вы ей это обязательно передайте.
Она ушла, резко повернувшись, и Оля сказала «спокойной ночи» ей в спину.
– Любовь Семеновна пододвигайтесь поближе, давайте на троих… – сказал Алеша. – Давайте я вам налью? Водочки? Отлично. Ура-ура! Чин-чин. Расскажите нам что-нибудь. Из жизни! Мы ведь совсем не знаем жизни. Оля еще маленькая, а у меня никакой жизни нет. На работу, с работы – разве это жизнь?
У Любови Семеновны были желтая завивка и кокетливый зеленый взгляд. Она всегда смотрела чуточку сбоку, в три четверти. Она выпила полрюмочки и рассказала про своего папу, что он был портной, знаменитый. «Он на горбатых костюмы шил. На косоруких или у кого плечи разные. А как шил! Сидело как влитое. Папа плясать любил. Один раз так плясал, что у него сердце оторвалось. Когда вскрытие делали, оно прямо в желудке лежало, оторванное!» Оля и Алексей засмеялись. Она допила свою рюмку и ушла. Оля сказала, что Любовь Семеновна похожа на дамский портрет кисти Никола де Ларжильера из Пушкинского музея.
– Румяная, когда-то красивая, пожилая дура, – шепотом сказал он. – Но верный и добрый человек. Мама ее любит.
Оля возразила: ей показалось, что Любовь Семеновна ни капельки не дура, а просто играет роль. Нарочно смешит хозяев дурацкими рассказами.
– Каких еще хозяев? – Алексей поморщился. – Не выдумывай!
Но Оля махнула рукой и спросила:
– Твоя мама недовольна, что я пришла?
– Что ты. Она в самом деле устала. Такой день, видишь, пригласила тучу народа, никто не пришел, вся на нервах. А если даже недовольна, то это ее дело. Я лично своими недовольствами никого не загружаю и меня прошу не загружать. У меня есть цель жизни, не вообще, а конкретно. А вокруг головы – плотный забор. Знаешь, как это вышло? Твоя мама виновата, любимая моя Генриетта Михайловна. Я у нее диссертацию писал, ты же помнишь. Придумал одну новую решеточку, посчитал. Принес ей. Потом она позвонила, позвала зайти к себе на кафедру. Прихожу. Там Ярослав Диомидович сидит, весь из себя генерал в погонах. Держит мои листочки. Сказал просто: «Ты, шпана такая, родину любишь? Вот, значит, ради родины обо всем забудь, а думай только об этом!» А на моих листочках, на каждом, уже стоит штампик, шестиугольник, совершенно секретно. И с тех пор всё. Забор вокруг головы! – повторил он.
– Красота, – сказала Оля.
– Стараемся. Ты не гляди, что я сегодня такой злой и растрепанный. Расскажи чего-нибудь. Кого видаешь?
– Кого видаю? Да никого, на самом деле. Вот с дворничихой познакомилась в нашем дворе. Зовут Жанна. Двадцать два года, как мне. Из старой юбки может сделать новую, за умеренную сумму. Приехала из Кемерова, завоевывать столицу. А в Москве поняла, что всего дороже личная свобода.
– Как это, как это? – спросил Алексей.
– Маленькая, простенькая свобода. Хочу – работаю, хочу – отдыхаю. Хочу – обед варю, хочу – книжку читаю. Чтоб ни с кем не быть связанной.
– Завидую, – сказал Алексей. – Хочу быть как дворничиха Жанна. Я серьезно. Если бы мне не надо было все время оглядываться, каждую минуту помнить, что я Алексей Сергеевич Перегудов, я бы в сто раз больше сделал! Стоит вот на тютельку продвинуться – «удачливый наследник». Стоит проколоться – «неудачный последыш». Не с кем поговорить по-человечески, понимаешь, не с кем слова молвить. Сотрудники? Они Ланского помнят и любят. Что с ними делать прикажешь? В гости звать? Или самому напрашиваться? В друзья набиваться?
– Почему он не говорит о своей жене? – Игнат даже хлопнул ладонью по столу. – Безобразие!
– Какой ты смешной! – ответила Юля. – Это ведь я по всем правилам должна возмутиться! Как женщина! А я молчу. Значит, все правильно. Давай дальше.
Оля встала, подошла к нему сзади, осторожно положила ему руки на плечи.
– Твоя мама… ну и еще Ярослав Диомидыч, ах… господи твоя воля… это учителя мои любимые. А мне друзей надо, друзей… – Он хихикнул. – И никто-то меня, бедного, не любит! Нет, вру. Бывает. В меня, Ольга, иногда влюбляются женщины. Но любовь у них такая интеллектуальная, – повертел пальцами в воздухе, – ну просто ужасно интеллектуальная. А во мне самом интеллекта хватает. Я жизни хочу. Любви и счастья, синих глаз и золотых кудрей, румяных щек и звонкого смеха.
– Просто как в финале рассказа Томаса Манна «Тонио Крёгер», – сказал Игнат и процитировал: «Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана белокурым и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным».
– Оля не обыкновенная, – сказала Юля. – Она как раз «одновременно трагическая и смешная», если уж ты такой эрудит. Но Алексей этого не понимает. Для него она просто молодая.
Оля погладила его по голове:
– Ты и в самом деле лысый. То есть лысеешь немножко.
– Ну и что?
– Так. Лысые мысли лысого мальчика. Не кисни, Алешенька, и знай, что я тебя люблю. Я тебя люблю всегда, злого или доброго, успешного или неудачного, любого. Понял?
– Как душно в комнате, – сказал Алексей и медленно встал со стула. – И этот запах! Это черемшой воняет. Ненавижу эти разносолы. Я окно открою, ладно?
– Ладно.
Он открыл окно, повернулся и посмотрел на Олю:
– Что?
– Ничего, – сказала она.
– Тебе холодно?
– Немножко.
Алексей взял отцовский китель и накинул ей на плечи. Она спросила:
– Твоя мама не рассердится?
– Она спит, – он поправил на ней китель. – Можно я тебя поцелую?
– Давай. – Она протянула ему руку, он поцеловал ей руку, потом притянул ее к себе, она отстранилась, но руку не отнимала.
Он посмотрел на ее пальцы, они были совсем другие, чем у Лизы и у Сотниковой. У Лизы они были изящные и чуть суховатые, с идеальными миндалевидными ногтями. У Сотниковой – длинные, но с ногтями-корытцами, загнутыми по бокам. А у Оли были широкие ладони и сильные пальцы с ногтями крепкими, почти квадратными, и это было по-особому соблазнительно.
– Ты мне правду сказала?
– Конечно правду. Ой, слушай, как у тебя глаза изменились, и всё лицо, как у маленького… Ты еще мальчик.
– Как вам будет угодно.
– Мальчик, мальчик! – сказала Оля и улыбнулась. – Раз у тебя есть цель жизни. Она бывает только у маленьких мальчиков. До четырнадцати лет. Наверное, у тебя еще есть идеал человека. Я думаю, что идеал – это твой папа, правда? И даже, наверное, у тебя есть свой девиз. У мальчишек бывают такие романтические девизы, – казалось, она нарочно поддразнивает Алексея. – Скажи мне. Признайся.
– Девиз? Не знаю. Хотя вот, пожалуйста. «И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». – Он не отпускал ее руку. – Это у моего папы был такой девиз.
Оля засмеялась.
Алексей внезапно обиделся, отнял руку, уселся за стол.
– Смейся, смейся! Громче давай! – сказал он. – Я работаю на оборону страны и горжусь этим. Я патриот Советского Союза и член партии. Смейся дальше.
– Ага, – вдруг сказала Оля. – Корейским «боингом» тоже гордишься?
– Прекрати!
– Почему? Там тоже ведь твои антеннчики сработали? Или не твои? Покойного академика Ланского?
– И твоей мамы тоже! – обозлился он. – В первую очередь! Она у нас главный идеолог всех этих устройств! Маму любишь? Вот и не отмазывайся. И вообще, полковник Кольт не отвечает за всех застреленных ковбоев. А академик Сахаров, – он понизил голос, произнося запрещенное имя, – Сахаров Андрей Дмитриевич…
10.
Он нарочно прибавил про сосланного в Горький академика Сахарова, чтобы слегка умаслить Олю, чтобы она не считала его тупым военно-промышленным долдоном, газетным патриотом.
А по имени-отчеству Алексей назвал его, чтобы этак ненароком и себя включить в этот круг. В наивысший круг секретных оборонщиков, в узкую компанию людей, которые делают главные бомбы, главные ракеты, главные самолеты, антенны и радиолокационные станции, атомные подлодки, ракетные и авианесущие корабли, а также то, что не только вслух, но и в уме он остерегался произносить… вы понимаете, друзья?
– Нет, не понимаю, – сказал Игнат.
– Ну и слава богу, – сказала Юля.
– Нет, извини, я так не согласен.
– Не согласен – не надо. Давай вычеркнем.
– Нет, я должен знать, что он даже в уме боялся произносить.
– Ничего ты не должен. Зачем тебе военная и государственная тайна?
Юля посмотрела на него совсем серьезно.
– Ладно, – сказал он. – Хотя жалко.
– Чего тебе жалко?
– Интересно же знать, что они там еще делали, кроме бомб и ракет!
– Глупости. Вот я тебе скажу, допустим. Потом ты проболтаешься…
– Я? Никогда. Клянусь!
– Обязательно проболтаешься, – сказала Юля. – Все пробалтываются. Министры и генералы пробалтываются. Бабам, девкам, что характерно! Почему? Думаешь, бабы их шантажируют? Скажи, милый, где база атомных подлодок, я тебе улетный минет сделаю! А не скажешь – вообще даже трусы понюхать не дам! Что ты, что ты, ничего подобного. Министры и генералы сами все выкладывают. Почему? Потому что хотят, чтобы баба ахнула и глаза выпучила: «Уй ты! Во дает! Ну супер! Не может быть!» Нарциссизм своего рода. Быть в центре внимания. Поразить. Изумить. Огорошить. Тут, наверное, какая-то своя эротика, – сказала она и замолчала.
Вздохнула, забросила руки за голову, потянулась и громко зевнула, потягиваясь, совсем по-мужски, – отметил Игнат. Но сказал:
– Ну допустим, проболтаюсь. И что?
– У тебя будут неприятности.
– Брось. Мы же пишем про восьмидесятые годы. Про брежневские времена. Это же тридцать лет назад было.
– По гостайне нет срока давности. Особенно по такой.
– А я на тебя укажу! – засмеялся Игнат.
– А я отопрусь, и мне поверят, вот! Потому что я красивая! – ответно засмеялась Юля, но продолжала уже серьезно: – У Бориса Аркадьевича деньги и связи. Он увезет меня далеко-далеко. А у тебя будут ну очень большие неприятности. Самые неприятные неприятности, Игнаша, запомни, бывают из-за длинного языка… Давай лучше дальше.
– Давай.
– В своих мыслях, – медленно диктовала Юля, – в своих мыслях, а вернее, в своих мечтах Алексей уже давно включил себя в этот круг. Точнее говоря, снова включил, потому что еще лет семь или восемь назад он ненавидел – или делал вид, что ненавидел? – всю эту новую советскую аристократию. Наверное, потому, что он тогда еще не был большим начальником со служебной машиной, он был всего лишь сыном министра, причем министра хоть и «союзного», но второразрядного и довольно скоро отставного, а потом и вовсе покойного, поэтому его уровень в компании был низковат, и однажды это кончилось личной, как говорится, драмой: ему указали, что его девушка – «не того уровня».
Но потом все изменилось. Те, кто третировал его за девушку «не из нашего инкубатора», сами выпали из всех корзинок, а он вроде бы начал входить в круг. И впереди, как снежные вершины, снова засияли избранные. Самые главные. Самые ценные для государства. Они живут в огромных квартирах, а то и в особняках. В Москве в особняках, вы понимаете? Они ездят в длинных черных машинах с желтыми подфарниками и белыми занавесочками на стеклах задних дверей. Они повсюду ходят с охраной, ногой открывают любую дверь в Совмине и на Старой площади и совершенно не думают о мелочах быта. Небожители. Академик Сахаров тоже небожитель, хоть сейчас и низвергнут. Небожитель – это навсегда. Падший, но все равно ангел.
Алексей видел Сахарова в шестьдесят пятом году. В Крыму, в каком-то совминовском санатории. Ему почти четырнадцать лет было, он был с отцом, отец еще был министром в полной силе. Тогда все кругом обсуждали недавнее снятие Хрущева. На парковой аллейке отец очень вежливо поздоровался с каким-то мужчиной: «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич!» И, кажется, даже сам представился: «Я – Перегудов. Сергей Васильевич Перегудов, Минспецприбор». – «Да, да, – протянул руку тот, – мы ведь, кажется, знакомы». Они о чем-то коротко поговорили. Мелькнуло имя Брежнева, нового Первого секретаря ЦК. «Внимательный, вдумчивый руководитель, – услышал Алеша чуть картавящую речь. – В наших делах прекрасно разбирается, да вы, наверное, и сами знаете…» – «Да, мы с ним встречались пару раз, в пятьдесят восьмом». – «А мы – довольно часто. С ним легко находить общий язык, это в нем хорошо. Понимает проблемы. А Никита Сергеевич был грубоват, даже, сказал бы я, хамоват, да вы, наверное, и сами знаете…» Мужчина был в легком шелковом костюме, то есть почти что в пижаме – были тогда такие, что ли, прогулочные пижамы. Рослый, светловолосый, приятный. Как говорится, простое доброе открытое русское лицо. В пяти шагах за ним – очень широкоплечий молодой человек, который внимательно смотрел туда-сюда, вправо-влево. «Алексей, отпрыск, наследник», – сказал отец, потрепав Алешу по плечу. «Это хорошо», – рассеянно сказал мужчина, улыбнулся и протянул ему руку. Алеше показалось, что электрический ток шел от его пальцев.
Или это ему позднее показалось – в воспоминаниях, нагруженных взрослым знанием.
– Кто это? – спросил Алеша у отца, когда они вышли на пляж.
– Физик-теоретик и вместе с тем инженер-изобретатель, академик, – негромко сказал отец, нагнулся и прошептал: – Трижды Герой!
– А что он изобрел?
– Потом, – сказал отец. – Потом.
Алеша не забыл – и в поезде, когда ехали домой в Москву, спросил отца:
– А что этот изобретатель изобрел?
– Какой еще изобретатель?
– Ну этот, Андрей Дмитриевич, у него еще охранник такой шкаф.
Они ехали в старом СВ Калининградского вагонзавода, где полки одна над другой и еще есть кресло и дверца в умывальник – один на два купе. Алеша, конечно, наверху. Вот он с верхней полки и спросил.
Отец встал с кресла, где он читал газету «Известия», подошел к нему, приблизил лицо и тихо проговорил:
– Водородную бомбу. Не болтай, что его видел. Имя-отчество забудь.
Кстати, а почему мама с ними не поехала в Крым?
Ладно, он постарается вспомнить. Если получится.
А пока – к делу. Академик Сахаров и странный разговор с Олей Карасевич. Олечка, чудесная ты девочка, я видел живого Сахарова, страшное дело! Не диссидента-демократа Сахарова, которого ополоумевшие патриоты дразнят сионистом Цукерманом, а русского громовержца, любимца родины, которого она, то есть родина, обвешивала золотыми звездами и пылинки с него сдувала.
– Так вот, – сказал Алексей. – Полковник Кольт не отвечает за всех застреленных ковбоев. А академик Сахаров Андрей Дмитриевич не отвечает за тех, кто погиб или заболел при испытаниях его супербомбы. А ведь это были тысячи людей! А может, даже десятки тысяч! Все, хватит, хорош, закрыли тему, – сказал он, стараясь быть мудрым и значительным. Кажется, у него получилось.
А что он на самом деле думал про корейский «боинг» и академика Сахарова, он и сам не знал.
11.
В следующий свой визит Юля Бубнова сказала Игнату Щеглову, что толку от него невозможно добиться.
– Хотя жаль, – сказала она, – ты почти такой же талантливый, как я. Но я не ожидала, что из наших занятий выйдет такая ерунда и бестолочь. Ты меня извини. Хотя этот кусок мы с тобой хорошо написали. Вернее, это я написала. Я продиктовала, а ты записал.
– Позволь, – сказал Игнат. – То есть, конечно, ты очень талантливая, – и усмехнулся: – Особенно приятно, что ты это про себя прекрасно понимаешь. Молодые писатели, они обычно бывают скромнее. Они обычно говорят: «Ах, мастер! Спасибо, мастер».
– Ни фига себе мастер, – сказала Юля. – Сколько тебе лет, мастер?
– Ах, ах! – сказал Игнат. – Гордишься, что ты меня старше на три года? Или на четыре? Детский сад какой-то.
Но Юля не обратила внимания на эти слова и продолжала наступать:
– Вообще же ты как бы вместо Виктора Яковлевича, так?
– Предположим.
– Не предположим, а точно. Ты ведь ему таскаешь, что мы с тобой написали. То есть что я написала, да? Так? С ним обсуждаешь?
Игнат уже давно не обсуждал Юлины тексты с Виктором Яковлевичем, потому что тот был занят своей желтой тетрадкой, куда почти ежечасно заносил свидетельства своего наступающего маразма:
«30 ноября 2016 года
13.00
Поставил стакан с водой на книжную полку вместо столика рядом с диваном и потом минут пять вертелся по комнате, соображая, где стакан, который я принес из кухни в кабинет, чтоб принять капсулу мемантина, которую я принес из кухни, где у нас аптечка, и выложил на столик у дивана. Зачем я это сделал? Почему я не мог пойти на кухню и нормально принять капсулу? Думал об этом еще пять минут, так и не сообразил почему.
13.40
Вспоминал название фильма братьев Коэнов про сценариста-неудачника, Голливуд, перед войной. И, соответственно, фамилию главного героя, она и есть название фильма. Отчасти еврейская фамилия. Лежал на диване, на боку, спиной к комнате, упершись лбом в кожаную спинку. Всего меня трясло той странной трясучкой, которой я был одержим еще в молодости, когда вдруг просыпался и вспоминал, что забыл что-то – важное или неважное – неважно! Обычно – чье-то имя-фамилию. Засыпал, обмерев от бессилия и боли в висках, потому что гугла тогда не было. Майор Виноградов Алексей Сергеич, начальник отделения милиции на Пушкинской улице – кажется, пятое отделение было? – мы пили с ним в компании моих приятелей с четвертого курса, они были уже почти журналисты, стажеры-практиканты, они делали с ним интервью, а я увязался с ними – так вот, майор Виноградов говорил, что часто испытывает нечто похожее на подкожный зуд или даже, точнее, какое-то зудение под черепной коробкой, когда не может чего-то вспомнить – и объяснял это так: «В мозгу биоток бегает кругами, никак не может зацепиться за нужное место!» Я смеялся. Потом какой-то невролог, нейросаентист, по-нынешнему говоря, сказал мне, что и в самом деле все происходит примерно так. Смешно. Да! Я увлекся и отвлекся. Опять отвлекся! Название фильма братьев Коэнов про сценариста. Я лежал и клялся, что забуду, что забыл эту ерунду. Закрывал глаза. Вспоминал черт-те про что, чтобы это забыть. Через 10 мин. не смог терпеть, встал и полез в гугл. Бартон Финк! Бартон Финк! Бартон Финк! Стало легко-легко, кажется, даже испарина пробила слегка.
Сразу заснул».
Эти записи Виктор Яковлевич вслух читал Игнату, а про успехи госпожи Бубновой в сочинении бестселлера и слышать не хотел.
Однако Игнат сказал:
– Так, так. Именно так. Конечно, обсуждаю.
– То-то же. И что он говорит?
– Конкретных замечаний пока нет. И вряд ли будут. Он же не твой редактор! Ну, разве ты что-то уж совсем безобразное залепишь, тогда он скажет: «это безобразие». Но пока он говорит: «она очень, очень талантлива».
– То-то же! – повторила Юля. – Понял?
– Понял, – возможно более мягко и улыбчиво ответил Игнат. – Я это давно понял, с первых твоих набросков… Но… Но зачем тебе я в таком случае? Пиши, ты талантлива, а потом посылай в журнал, в издательство, не знаю.
– Ты мне затем, чтобы…
– Чтобы что?
– Господи, какой идиот. Я все жду, когда ты меня начнешь раздевать, наконец! А ты все тянешь кота за хвост. В долгий ящик!
И она засмеялась этой своей довольно-таки банальной шутке.






