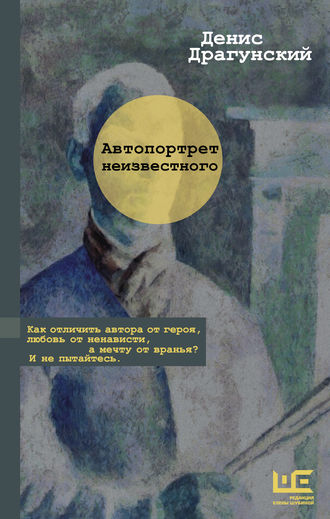
Денис Драгунский
Автопортрет неизвестного
Особенно с Сотниковой.
Сотникова была красивая. Высокая, золотоволосая, полная, белая, розовая. Носила так называемую грацию в свои двадцать лет. Знаете, что такое «грация»? Алеша не знал, пока не увидел. Это такая, что ли, комбинация лифчика и пояса для чулок, из белой эластичной ткани. Утягивать животик и бока. У Сотниковой, когда она раздевалась, было вполне рельефное пузико и сбоку по две складки на боках, но она не стеснялась. И в смысле пирожных и свежего белого хлеба с толсто маслом и сладким чаем – не стеснялась тоже. Говорила: «Сделай мне хлеба с толсто маслом!» Но все равно была стройная, длинноногая, с узкими стопами, тонкими лодыжками и запястьями.
Первые свидания с Сотниковой: пустая дача, второй этаж, папина комната. Целовались, ласкались, тискались, трогались за все места. Сотникова подробно и сладко рассказывала, шепча, прижимаясь грудью и вцепившись в пальцы, – рассказывала, как одну ее подругу трахал вожатый в пионерском лагере. «Подругу, подругу! Конечно же, подругу», – в уме усмехался Алеша. Она была в СТО, спортивно-трудовом отряде, старше первого. Там, где уже девятый класс. Рассказывала, что перед этим она подсматривала, как он трахает другую вожатую. Еще Сотникова рассказывала, какие ей снятся неприличные сны. Но все равно не соглашалась. Часа три возились, а она ни в какую. Он спросил: «Ты что, девушка?» – «Неважно». – «Ну я же знаю, что не девушка». – «Неважно». – «У тебя ведь кто-то был!» – злился Алеша. «Неважно». – «Значит, был! Ты его, значит, любила? А меня, значит, не любишь? Что поделаешь, бывает! Ты не обязана меня любить. Но если ты меня не любишь, зачем сама, сама, своими руками раздеваешься до трусов, и валяешься со мной, и целуешься, и даешь везде трогать? Знаешь, как это называется?»
Сотникова заплакала. Встала с кровати, отошла к окну. Потом бросилась к нему. «Извини. Ну все, все! Давай в другой раз, обязательно, я обещаю! Обещаю!» – обняла его. Он отбросил ее руки, отвернул лицо; она хотела его поцеловать в губы, он не дался. Она снова заплакала и сказала: «Ну ладно, раз ты такой. Ладно, давай сейчас».
Но ему уже совсем расхотелось. Напрочь, до злобы. Он сидел на кровати, оскорбленный, хмурый. Так и уехали с дачи вечером, даже не переночевали. Хотя, когда ехали сюда, собирались утром пойти гулять в лес.
– Не понимаю, – сказал Игнат. – Что они оба, с ума сошли?
– Было такое, – сказала Юля. – В те времена. Я, конечно, не помню сама и помнить не могу. Но старшие товарищи рассказывали. Как бы по-умному сказать: сакральность вагины, что ли. При этом валяться и тискаться в голом виде – вообще ерунда. Даже еще смешнее, ты не поверишь: тогда считалось, что «минет не считается».
– В смысле?
– Ну как бы тебе объяснить… То есть, с одной стороны, минет считался страшным развратом, не то что сейчас – нормальный момент нормального секса. Были тогда мальчики и девочки, которые вообще этого не пробовали ни разу в жизни, а когда видели на картинке, у них дыхание перехватывало и голос садился. Это, значит, с одной стороны. А с другой стороны, были такие разговоры среди девушек: «Ты ему дала?» – «Нет, не дала, только минет сделала». И парни тоже: «Все, ребята, порядок!» – «Дала?» – «Ну… Ну, да. В смысле минет». – «Э, нет! Это не считается!»
– Обалдеть. А может, залететь боялись, может, все просто? – спросил Игнат.
– Нет, нет, что ты! Нет, конечно, и залететь боялись тоже, но не в том дело. Тут было что-то священное, особое… Ну ладно. Дальше.
Через три дня Сотникова позвонила, пошли погуляли и, главное, точно договорились на следующую субботу. Собрались ехать вчетвером, вместе с соседом по дому Мишей Татарниковым, внуком академика и члена ЦК, и его девушкой по фамилии Дунаева.
Так получилось, что Алеша с этой Дунаевой приехал раньше, и они ждали Мишку, он должен был привезти Сотникову. Сейчас трудно вспомнить, почему так вышло. Наверное, Мишка освобождался у себя в институте позже – кажется, часов в пять, – и Сотниковой тоже было удобно выехать часов в пять-шесть, а у Дунаевой занятия кончались раньше, примерно в два часа, и она не хотела болтаться по городу, пока остальные соберутся, а Алеше, как всегда, было без разницы. Он как-то удивительно был свободен – в любой день и час. Хотя все успевал, в институте учился на пятерки и был комсорг группы и зам председателя факультетского СНО – студенческого научного общества. И дома успевал в комнате убрать, рубашку погладить и иногда даже сготовить что-то поесть – не полный обед с супом и компотом, конечно, но макароны с сыром или даже мясное рагу – сколько угодно. То есть Алеше было чем заняться. Но при этом, когда ни позови – вот он я, всегда готов. Поэтому он встретил Дунаеву на вокзале, около касс на электричку, в половине третьего.
Дунаева была с филфака МГУ, изучала сербский язык. Где ее Миша Татарников выловил, непонятно. «Ненавижу технашек!» – говорил он. Впрочем, и Сотникова была тоже с не пойми какого психолого-педагогического факультета какого-то совсем задроченного областного института.
Приехали, попили чаю, мотались по даче в ожидании Мишки и Сотниковой, переходили из комнаты в комнату и присаживались то на диван, то на кресла. Дунаева достала из сумки книгу, села за стол. Алеша подошел поинтересоваться. Дунаева объяснила, что это книга научная, сугубо филологическая. Автор – Вук Караджич, знаменитый этнограф первой половины прошлого века. «Црвен Бан», сербский эротический фольклор. «Ух ты! – сказал Алеша. – Переведи что-нибудь!» Дунаева прочитала по-сербски: «Девойчица любичицу брала, убола е у пичицу трава, ние трава, вечь курчева глава!.. Не могу! Стесняюсь!» «А если стесняешься, зачем эту книгу вытащила?» – подумал Алеша, но сказал: «Ну хоть примерно! Описательно!» – «Девушка собирала фиалки, и ей травинка попала… ну, в общем, в одно место… А потом оказалось, что это вовсе не травинка…» – засмеялась и покраснела. Алеша тоже покраснел, и положил ей руку на плечо, и почувствовал, как Дунаева вся дрожит мельчайшей дрожью. Ладонью ощутил бретельку лифчика, стал гладить ее плечо и спину, но она тихо и строго сказала: «Ты что! Я ведь Мишина девушка! – и стала повторять, почти по слогам: – Я девушка твоего друга! Твоего друга девушка!» – «Да, да, конечно, что ты! Извини, это я так, чисто по-дружески!» – и мельком подумал про Мишку и Сотникову: «Вдруг Мишка к ней сейчас пристает?». Похлопал Дунаеву по плечу, убрал руку и даже спрятал ее за спину на всякий случай – и тут вдали заскрипела и стукнула калитка, не видная за широколистными кустами.
Алеша страшно испугался, что вдруг Мишка приехал один.
Но тотчас же в оконной раме, как на экране, из мокрой зелени вышли две фигуры: Мишка в синей болоньевой куртке и серой кепке и рядом с ним Сотникова в ярко-красном, тоже болоньевом, пальто. С зонтиком. Большая, светловолосая и в очках. Все-таки красивая девочка – Алеша как бы со стороны на нее посмотрел и еще раз убедился. А Мишка был еще красивее. Похож на французского артиста. Алеше показалось, что Сотникова на него раз-другой как-то особенно покосилась.
Боже, приехали, счастье-то какое! Алеша расцеловал Мишку даже сильнее, чем Сотникову, – ее просто чмокнул в носик, а его – троекратно, в обе щеки, в правую, левую и потом в правую еще раз. Мишка удивился таким нежностям, но в ответ крепко обнял его за плечи: «Привет, старичок! Здорово, дружище!» Алеша чувствовал нежнейшую благодарность Мишке, что он привез Сотникову. Хотя как он мог ее привезти или не привезти? Это же она сама решила приехать, а не он ее уговорил. Но все-таки Алеша боялся, что она лажанет. Не приедет на вокзал или сильно опоздает, и Мишка ее не дождется и приедет один. «Он приедет один, и это будет ужас и кошмар, я буду жутко злиться, – минуту назад думал он, – буду злиться, что вот Миша на первом этаже трахается с Дунаевой, а я лежу в отцовском кабинете и держу руки поверх одеяла!» Ну а раз они приехали вдвоем, то злиться не надо, все прекрасно, и вот Алеша расцеловал своего дорогого друга, стал помогать Сотниковой снять пальто, и повесил его сушиться над батареей, и усадил ее на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, – это было как раз в холле перед вешалкой, стащил с нее сапоги и подал ей тапочки, и она была, кажется, растрогана, смущена и ублаготворена.
Пошли перекусить на кухню. Тем временем дождь кончился, облака разошлись. Решили пойти гулять, тем более что Дунаева все время бухтела: «Приехали на дачу, а воздухом не подышали». Ну вот тебе воздух! Дошли до речки, там был искусственный остров с беседками и к нему два мостика, очень красиво. На острове удил рыбу один бесфамильный академик, кажется, военный химик, но никто точно не знал. Он сидел на раскладной табуретке. В небольшом отдалении стоял его адъютант.
Начало темнеть. Вернулись на дачу. Мишка достал из портфеля бутылку итальянского вермута. Выпили по рюмке. Мишка минут через пять начал зевать и поглядывать на часы. «Ой, – говорил он, потягиваясь, – как-то я устал. И вообще спать пора. Завтра рано вставать». Хотя завтра было воскресенье, никуда никому не вставать. Просто ему не терпелось. «Добрый хозяин! Где ты нас, бедных сироток, спать уложишь?» – спросил Мишка. Дунаева достала из сумочки несессер и пошла чистить зубы. Алеша сунул Мишке сверток белья и пихнул в свою комнату – на даче у него была большая комната, не то что в Москве, каморка для служанки в огромной квартире; он все время об этом вспоминал.
На улице была почти ночь, но небо было еще серое, светилось поверх деревьев; они с Сотниковой были на втором этаже, в той же самой комнате, папиной. Она раздевалась, как в кино, красивым контуром на фоне окна. Сняла свою грацию, какой-то смешной звук раздался – это резиновые подвязки от чулок хлопнули по ее животу, наверное.
Он ее обнял, уложил в постель, и она прошептала: «Я девчонка». – «Вижу, что не мальчишка», – ответил он, поглаживая ее живот и ниже. «Я девчонка», – повторила она и захныкала. «Зачем такое слово? Почему не сказать просто “девушка”», – подумал Алеша, а вслух громко вздохнул: «Ну вот, опять…» – «Принеси полотенце», – шепнула она. Господи. Алеша встал, надел джинсы на голое тело, в темноте сбежал вниз, где ванная, чуть не подвернул ногу на лестнице, вернулся через полминуты: «Держи». Снова лег к ней, обнял. «Зажги свет», – вдруг сказала она. «Зачем?» – «Зажги! Я хочу, чтоб ты смотрел мне в глаза, когда меня берешь в первый раз. И чтоб я видела твои глаза, как ты на меня смотришь. И чтоб ты видел, что я вижу, как ты смотришь на меня!» Господи, твоя воля. Он нашарил в изголовье бра, дернул за шнурок с шариком. Увидел остановившиеся, впившиеся в него глаза Сотниковой, которые оказались совсем маленькими, потому что она была без очков. Господи, ему уже почти расхотелось, у него уже все было не так сильно, как десять минут назад, но он все-таки все сделал. Это был не секс, а какая-то игра в гляделки, и, конечно же, она была ни капельки не девушка.
Он опрокинулся на спину, она положила голову ему на плечо.
– Ты, конечно, не мальчишка, – сказал он. – Но уж не девчонка точно.
Она промурлыкала что-то ласковое, потерлась носом о его шею.
Он поцеловал ее в макушку и все-таки спросил:
– Зачем ты это?
– Мне так показалось. Я так в тебя влюбилась, что мне показалось, что ничего у меня раньше не было и я как будто девушка опять.
Ну, раз так, то все прекрасно. Может быть, это любовь.
Может быть. Все может быть.
6.
Так что Алеша просил маму подождать с продажей дачи.
Хотя бы еще одно лето. Хотя Сотниковой уже не было. Он ее предал. Бросил по требованию коллектива. Пошел на поводу у компании. Там все дети и внуки министров и академиков, а она из не пойми какой семьи. Из другого инкубатора. Ребята ему сказали прямым текстом: «Слушай, Лешка, тут вот какое дело… Извини. Пойми правильно. Девочка твоя, она, конечно, хорошая, красивая и умная, но ты к нам ее больше не приводи… Не наша. Ты не обижайся, ты цени откровенность». Ужасная история. Сотниковой не было, но уже появилась Лиза. Он с ней так и не съездил на дачу, ни разу.
– Подождать еще одно лето, а это еще деньги платить, – сказала Римма Александровна. – Посчитай-ка, сколько. А там и осень, плохое время для въезда в новый дом. А они как раз хотят сразу въехать, чтобы уже летом жить.
Они – это покупатели. Главный режиссер одного московского театра. Главная интеллигентская знаменитость эпохи. Благородное, но вместе с тем простецкое, мужицко-солдатское лицо. Седой чубчик, сигарета без фильтра и кепка. Борьба с цензурой, с Главлитом и Агитпропом, современное прочтение классики, спектакли с подтекстом, которые запрещались после генеральной репетиции, а бывало, прямо во время представления! Антракт – и все, второго действия не будет! Легендарные двухнедельные запои, подписи под всеми воззваниями и петициями, триумфальные гастроли в Европе, скандальные интервью, мемуары в машинописном самиздате под псевдонимом, но и Госпремии, и ордена к юбилеям, белая «Волга» с шофером, приятельство с маршалами и секретарями ЦК КПСС – и вот теперь, значит, будет у него еще и дача в таком роскошном месте.
Пятьдесят пять тысяч – заломила Римма Александровна.
Переговоры шли с его супругой. Сговорились на пятидесяти. В день оформления документов эта мадам привезла сорок восемь. Тогда было попросту – из рук в руки или «сберкнижка на предъявителя», что-то вроде чека. Мадам привезла сорок восемь. Прикусила губу и сказала: «Простите, но у нас больше нет». Разговор шел с глазу на глаз. Мама рассказала об этом через неделю. Алексей возмущался: «Почему ты меня не позвала свидетелем? Да я бы выгнал к черту! С лестницы! Жлобы. Интеллигенты вонючие! Артисты, одно слово! Ну или вот так… – Он вдруг сообразил, как надо было поступить – вежливо, без скандала. – Денег нет? Двух тысяч не хватило? Ничего страшного! Пишите долговую расписку! Сейчас нет денег – отдадите потом, я могу подождать!»
Римма Александровна смотрела, не понимая. Потом ее будто озарило. «Боже! Конечно! Какой ты умный! Какая я дура! Какие они сволочи! Конечно! Сейчас, немедленно!» – схватилась за телефон, рванула трубку, стала листать записную книжку, оттуда вылетали бумажки с фамилиями и номерами, она никак не могла найти нужный. «Погоди, – Алексей отнял у нее трубку. – Вы уже все подписали?» – «Да, все подписали, нотариус мне все отдал, все бумаги у меня, вот, смотри». – «Тогда не смеши народ. Все, ушел поезд. Ничего. Не обеднеем. Но пусть им эти две тысячи боком выйдут. Пусть они ими подавятся! Пусть они лопнут!» Он это так отчетливо сказал, с такой непонятно откуда взявшейся ледяной злобой сказал, что Римма Александровна даже испугалась, взяла его за руку, погладила: «Ну что ты, Алешенька, успокойся».
Потом был разговор о наследстве. Завещания не было. Алеша на наследство не подавал. Мама ему еще прошлой осенью сказала: «Здесь и так все твое». Но все-таки он спросил:
– А мне из этих сорока восьми тысяч что-то принадлежит? Все-таки я сын своего отца, разве нет?
– Принадлежит, – после краткой паузы сказала Римма Александровна. – По закону наследство делится вот как. Половина принадлежит мне, это моя часть совместно нажитого имущества. А вторая половина делится между наследниками, включая меня. Ты не подавал на наследство. Повел себя как благородный человек. Но я, разумеется, не стану наживаться на твоем благородстве, – чеканила она. – Ты же мой сын. И ты получишь то, что тебе полагается по закону.
Ага. Алексей-то поначалу думал, что сумма пополам: половина маме, половина ему, то есть ему достанутся грандиозные двадцать четыре тысячи. Но нет. Сорок восемь пополам и еще раз пополам. Двенадцать. Тоже, кстати, ничего.
– То есть двенадцать тысяч? Четверть?
– Почему четверть? А Тоня? У тебя есть сестра, дочь твоего отца. Тонечка меня, мягко говоря, не любит. Тонечка не подавала на наследство. Но есть же какие-то понятия о приличиях! Я отдам ей одну шестую. Тебе и ей. По восемь тысяч рублей.
Ну ничего. Восемь тысяч – тоже серьезные деньги.
7.
Почему он обо всем этом замечтался, стоя перед автоматной будкой и глядя на жухлый московский газон? Да. Все началось с травы. Трава. Дача. Веранда. Сотникова. Дачу продали. Жалко. Жил бы сейчас с Сотниковой на даче, за грибами бы ходили.
Очень не хотелось звонить Ярославу и вообще всего этого не хотелось.
Алексей зашел за угол и позвонил из автомата. На секунду стало беспокойно – ведь его как-то, пусть даже по пятому или седьмому разряду, но все-таки охраняют, а значит, наверное, и следят. Послеживают. Ну а что он такого страшного и неположенного делает? Позвонил по прямому, сразу в кабинет. По прямому ответа не было. Может быть, прямой телефон в кабинете начальника Управления с уличным автоматом не соединялся? Алексей не знал этих тонкостей. Вернее, знал, но забыл. Если это так, то это неправильно. Можно поставить прослушку, но блокировать нельзя: мало ли кто и по какому делу может позвонить товарищу генерал-полковнику? Ну ладно, пусть они сами разбираются. Тогда он позвонил в приемную. «Дежурный!» – «Перегудов. Демидыч приехал?» – вот так, с необходимой долей начальственной фамильярности. Помощник неожиданно сказал: «Соединяю». Но Ярослав не взял трубку. Помощник сказал: «Минуточку, Алексей Сергеевич», и Алексей услышал, как помощник – Алексей его узнал по голосу, майор Касаткин, он уже лет пять сидел в приемной, – услышал, как он позвал Демидыча по громкой связи, ответа не было. Майор – слышал Алексей – встал из-за стола, постучал в дверь – Алексей помнил эту дверь, ореховый короб на кремовой стене, – постучал, потом открыл дверь – быстрые шаги, и крики, и топот. Наверное, минут двадцать, а то и полчаса, упершись коленкой в пыльное стекло автоматной будки, Алексей слушал, как бегают люди, вызывают «скорую», как приехала «скорая» – кажется, он даже слышал ее сирену вдали, где-то там, слева, в конце длинной и скучной улицы, обсаженной грубо подстриженными тополями, – потом опять шаги, крики, звонки, и потом майор Касаткин вспомнил про лежащую на столе трубку – телефонов-то на его столе было много, штук десять самое маленькое, – заметил лежащую трубку, забыл, наверное, кто звонил, взял трубу и снова сказал: «Дежурный!» – «Перегудов!» – сказал Алексей. «Алексей Сергеевич, извините. Товарищ генерал-полковник скончался».
Алексей повесил трубку и вдруг увидел, что двухкопеечная монета не провалилась в щель, то есть в такое узенькое плоское приспособление наверху телефонного аппарата. Он забрал ее, вышел из будки, а потом с ногтя пустил ее лететь вбок, на дорогу. Мимо как раз проезжал грузовик, и он не расслышал тонкого теньканья монетки об асфальт. Но услышал нечто другое, очень важное: как будто голос какой-то ему сказал: «Ярослав Диомидович тебя, сукина сына, третий раз спас. Первый – когда назначил тебя начальником КБ Ланского. Спас от безвестности и заурядности, от изматывающей карьеры молодого-талантливого, когда все верхние этажи забиты бодрыми крепкими стариками со звездами и званиями. Второй раз – когда не дал Бажанову выкинуть тебя из проекта, спас от провала и дальнейшего прозябания в неопределенности. И вот в третий раз своей смертью тебя, подлеца, спас. Ты не стал стукачом, доносчиком, то есть мразью, выродком, куском дерьма собачьего».
«Но ведь отец спас Ярослава Диомидовича, когда Сталин собирался его расстрелять?» – полувопросительно возразил Алексей своему внутреннему голосу. «Неужели это голос совести?» – тихо рассмеялся он.
Поэтому Алексей вытащил из бумажника этот самый листок, где были записаны контакты Бажанова с какими-то иностранцами в Фарнборо, разорвал на мелкие кусочки, зажал в кулак и посмотрел, куда бы выбросить. Вдоль тротуара был газон, на нем – куча подсохшей глины и рядом – разрытая канава. Три слоя – темная почва под травой, ярко-бежевая глина, а внизу песочек, на котором лежала какая-то не слишком толстая труба. Алексей огляделся: кругом никого не было; он бросил эти бумажки вниз, они взметнулись и осели на дне.
Повернулся, быстро дошагал до машины, велел ехать назад.
«Наверное, – думал сам про себя Алексей – я просто всего этого не осознал».
Когда умер отец, было примерно так же.
Приехали с похорон домой, прошли сразу на кухню, Любовь Семеновна – она тоже была на похоронах, разумеется – тут же вскипятила чай, и захотелось позвать отца. Отец почти все время просиживал в кабинете. Особенно когда работы не стало, когда его вывели за режим, а потом на пенсию.
– Почему министра Перегудова вдруг вывели за режим? – спросил Игнат.
– Какая-то история с английской аппаратурой, – сказала Юля. – Но я в это не верю. И вообще, давай эти детективные линии сразу отбросим.
– Давай. Ладно. Ты хозяйка текста. Хотя интересно, конечно.
– Ничего интересного. Мутная история. Так что не надо.
Отец все время сидел в кабинете и приводил в порядок свои записи, как он выражался.
И вот Алеша с мамой и какими-то родственниками пришли с кладбища домой, и захотелось крикнуть через всю квартиру: «Пап! Хватит мемуарить, приходи чай пить!» Слава богу, не крикнул, а то бы мать прямо тут бы умерла, она еле вынесла похороны, она чуть не падала, ее под руки держали Ярослав Диомидович и еще какой-то человек, Алексей сначала подумал, что это Фесенко из КГБ, генерал в штатском, он был куратором отцовского министерства, но оказалось – муж маминой кузины. Мама очень любила эту семью: смешная Любовь Семеновна – это как раз его сестра, одинокая дамочка.
Не осознал – значит не осознал.
Когда осознаю, тогда и разрыдаюсь, сам себе сказал Алексей. А сейчас он для меня – да и для всех! – живой пока. Некролог будет послезавтра самое раннее, а то и во вторник. Ах, как неудобно умирать в пятницу, особенно когда ты генерал-полковник, членкор АН СССР и начальник МУСР, Межведомственного управления специальных разработок. Ведь надо согласовывать подписи под некрологом. «Это уровень Политбюро? Не уверен, – суетно подумал Алексей. – Хотя, конечно, Устинов подпишет, Романов подпишет, еще пара-тройка секретарей ЦК и зампредов Совмина подпишут. Интересно, будет ли упомянут МУСР в некрологе? Наверное, нет. Просто укажут: выдающийся ученый и организатор промышленности, а вражеская разведка, сопоставив подписи, тут же поймет, чем занимался покойный генерал».
Но пока Ярослав Диомидович еще как будто жив…
Еще как будто.
Тем более не надо этих сплетен.
8.
– Чушь, чепуха и вранье! – повторил Алексей, глядя Генриетте Михайловне в глаза, стараясь не моргать и не морщиться.
– Понятно. Чушь, и слава богу. Просто, Алексей, я в твоем возрасте тоже помогала одному большому человеку писать статьи.
– Почему «тоже»? – не упустил ответно придраться Алексей; ведь Генриетта Михайловна полминуты назад придралась к его «уже» – вот он и спросил: – При чем тут «тоже»?
– Ни при чем, ни при чем, – закивала Генриетта Михайловна.
– Вы ему помогали, и что?
– Что – что?
– Что он вам за это?
– О, много чего, – засмеялась она. – Поток благодеяний!
Раздался звонок в дверь.
– Это Оля? Давайте я открою?
– Сиди!
Алексей подошел к окну, оперся на подоконник, вытащил из бокового кармана блокнот, а из нагрудного – карандаш. Генриетта Михайловна пошла открывать. Слышно было, как Оля сказала: «Мам, ты сумку разбери». Вошла. У нее в руках был букет цветов. Увидела его, обернулась:
– Мама, а у нас Алеша, оказывается.
А с ним не поздоровалась.
Следом вошла Генриетта Михайловна с пластиковой сумкой.
– Генриетта Михайловна, – сказал Алексей, показав ей страничку в своем блокноте. – Вот это, вот это – бред?
– Минутку. – Она поставила на стул сумку, достала из кармана фартука очки. – Где? – взяла блокнот у Алексея.
– Все-то вы гения из себя корчите, Алексей Сергеич! – сказала Оля.
– Ох уж мне эти колючие подростки! – Он рассеянно прикоснулся к букету, который Оля держала в руках, но сам во все глаза смотрел на Генриетту Михайловну.
– Не знаю, – сказала та, глядя в блокнот. – Не знаю, не знаю. – Она закрыла блокнот. – Интересно. Но как-то слишком принципиально, что ли. Боюсь, ты слишком увлекся общими подходами, отсюда все твои проблемы.
– Вот именно! Отсюда все проблемы, и не только мои. Иначе мы всю жизнь будем проводки́ паять по чужим схемам.
– Верно. – Она отдала блокнот Алексею. – Но опять же, только в принципе верно. А в частности – ты не смеешь забывать, что у тебя люди в подчинении, им тоже хочется, чтобы у них получалось. Им нужна работа с ощутимыми результатами, нужны премии за внедрение, если угодно. Потому что у них есть семьи, жены и дети. И не только деньги! Есть самолюбие, наконец. Творческое самолюбие есть не только у тебя – у самого младшего мэнээса тоже! Где результаты? Впрочем, тебе виднее…
– Вот именно, – сказал он мрачно, спрятал блокнот в карман и уперся кулаками в стол, опустив голову.
– Мама, ну хватит его ругать! – сказала Оля. – А то он весь уже согнулся под грузом ответственности!
– Славный ты человек, Ольга! – Он выпрямился. – Что бы я без тебя делал, под этим самым грузом… – подошел к ней, погладил по плечу, склонился к букету, понюхал: – Роскошные розы! Кто ж это в наш практический век дарит девушкам такие букеты? Какой-то дурак дарит – опять шесть штук.
– Алеша, ты что?
– То самое. Алексей Сергеевич в своем репертуаре, – улыбнулась Генриетта Михайловна.
– Вот тут читатель, – сказала Юля, – по этим странным репликам, по ответам невпопад, по четному числу цветов в букете начинает догадываться, что там какие-то семейные тайны и что эти тайны связаны с датой смерти министра Перегудова. Но Алексей не обращает на это внимания. У него в голове сплошные решетки Вигорелли.
– А эти решетки, – спросил Игнат, – на самом деле так называются?
– Не совсем, – сказала Юля. – Другая фамилия, слегка похожая. Неважно.
– Мама! – закричала Оля. – Может быть, хватит?
– Помолчи! – Генриетта Михайловна схватила ее за руку, другой рукой подхватила со стула пластиковую сумку, сунула Оле и вытолкнула ее из комнаты. – Разденься! Цветы поставь. Ваза в кухне, в шкафу.
– Не обращайте внимания, Генриетта Михайловна, – сказал Алексей. – Переходный возраст. Может, я не вовремя?
– Нет, нет, ты всегда вовремя! – закричала Оля из коридора. – Сейчас я на стол накрою. Посидим. Выпьем.
– Ого! – сказал Алексей. – Дети-то взрослеют. Выпьем, думаешь?
– Уверена. – Она вошла с бутылкой вина, поставила ее на стол. – Выпьем, поговорим.
– Ольга! – возмутилась Генриетта Михайловна. – Алексей зашел ко мне по делу!
– Да, именно. Я пришел, чтобы тебя позвать…
– В гости! – перебила его Генриетта Михайловна. – В гости к Римме Александровне!
– Не совсем в гости. Сегодня, Оля, десятая годовщина смерти моего отца.
– Я знаю, – сказала Оля. – Знаю, знаю, все я знаю… – Она остановилась перед Алексеем, поглядела на него. – Нужно, наверное, сказать какие-то слова. Что я должна сказать? Соболезнование – не подходит.
– Не подходит, – кивнул Алексей. – Нужно сказать: «Я с тобой в этот день».
Оля быстро и зло взглянула на Генриетту Михайловну и сказала:
– Я с тобой в этот день, Алеша. Поехали.
– Ольга, ты в своем уме? – сказала Генриетта Михайловна.
– В своем! В своем собственном! – Она взяла со стола бутылку. – Поехали.
– Тьфу! – сказала Генриетта Михайловна.
Алексей неожиданно для самого себя повысил голос:
– Может, я на лестницу выйду?! Пока вы тут отношения довыясните?! Просто напасть какая-то – куда ни сунься, отношения выясняют! Простите.
Генриетта Михайловна подошла к нему и сказала:
– Это ты меня прости, Алеша. Езжайте, ребята. Римме Александровне привет.
Оля протянула бутылку Алексею:
– Возьмем?
Он посмотрел на этикетку, улыбнулся:
– Нет, не надо. Сама покупала? – Оля кивнула. – Когда ты вырастешь, и я, даст бог, жив буду, научу тебя разбираться в напитках… Пошли.
– Ольга, ты только не поздно, – сказала Генриетта Михайловна.
– Я ее провожу, не волнуйтесь. Сдам вам с рук на руки. В крайнем случае посажу в такси, записав номер машины и фамилию шофера. До свидания.
– Пока, – сказала Оля и поцеловала Генриетту Михайловну в щеку.
– Что он в ней нашел, непонятно, – сказала Юля.
– Кто? – спросил Игнат. – Алексей в Оле?
– Не торопись! – сказала Юля. – Я про Генриетту и министра Перегудова.
Что он в ней нашел, в самом деле? Тогда она была только что моложе, а так – точно такая же, как сейчас. Худая, смуглая, черная. А он любил. Хотел уйти к ней сразу, еще до Оли, а когда Оля родилась – и подавно. Измучил ее. Но она не могла, чтоб он бросил жену и ребенка. Жену его было жалко. Она-то была кандидат наук, доцент, а Римма – красивая женщина и более ничего. Генриетте казалось, что это подло. Жил человек с женой, сына воспитывал, прошел славный путь от курсанта училища связи до министра специального приборостроения, и вдруг на́ тебе, явилась черноглазая… Ей было стыдно на себя смотреть. И она сказала: уходи, вон отсюда, всё, ты мне не нужен, я тебя не люблю, не люблю, не люблю. Потом он находил предлоги видеться. Сугубо деловые предлоги. И – присылал деньги. Однажды Оля нашла эти деньги. Генриетта врала, изворачивалась, как девчонка, а Оля пристала: купи мне дубленку, купи, не жадничай, вон у тебя сколько денег, оказывается! Разве объяснишь? Разве она поймет, что это за деньги? Дубленку, однако, пришлось купить. Дабы не вдаваться в лишние подробности. Хотя Оля знала, кто ее отец. Кажется, ей было уже лет тринадцать, когда она узнала. Генриетта ей сама сказала, когда она стала уж очень заглядываться на Алексея. Алексей к ним часто приходил домой, диплом, диссертация, просто поговорить, и Оля прямо млела. Пришлось сказать: «Это твой брат по отцу, так что выброси из головы».
«Наверное, – думала Генриетта Михайловна, – я все-таки дура. Надо было уводить. То есть не уводить, а просто уступить его настояниям. И все было бы иначе – и в моей жизни, и в Ольгиной. Да и в его жизни тоже, наверное. Может, был бы жив и сейчас».
– Так что вот, – сказала Юля, – если бы Генриетта, как она выражается в своих мыслях, уступила бы его настояниям, то ничего страшного бы не случилось.
– Здрасьте! – возразил Игнат. – Римма Александровна спилась бы, наверное. Или, хуже того, вышла бы замуж за какого-нибудь бессмысленного дурака рангом в три раза ниже, чем Сергей Васильевич. Алеша тоже не стал бы важным человеком…
– Ну и что? Стал бы, не стал бы… Никакой разницы. Римма бы не пропала, а Алеша все равно не дослужился бы до генерального конструктора. Впереди девяностые годы, развал военной промышленности.
– Ну допустим, – сказал Игнат. – Но вообще странный поступок. Такой человек зовет замуж, а она рассуждает на темы морали. А может быть, она его на самом деле не любила. То есть, конечно, любила, но не так.






