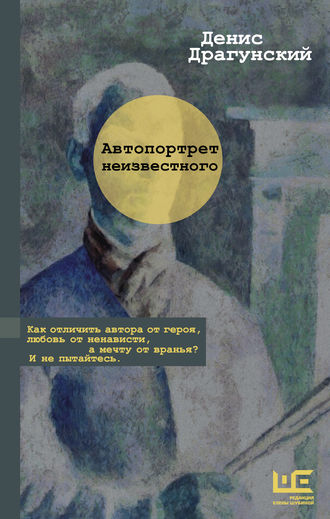
Денис Драгунский
Автопортрет неизвестного
Отсутствие блата – вот что еще мучило Витю. Звучит некрасиво – ну хорошо, давайте это назовем «полезными знакомствами» или «социальным ресурсом». Все кругом всё доставали по блату: от вкусных вещей до красивой одежды. Лечились по блату, учились по блату, билеты на поезд доставали по блату. Но папа гордился, что живет честно и что им ничего лишнего не надо. А когда появлялся блат, он упирался в родительскую прижимистость.
В редакции давали «заказы», то есть продуктовые наборы, но только по праздникам. А тут надо было принять гостей, маминых родственников из Куйбышева. Витю послали к знакомому директору гастронома – знакомому не родителей, а знакомому знакомых, через пятые руки, и вот он пришел: «Здравствуйте, я от Михал Михалыча, он звонил», – и директор, листая на своем столе какие-то сальные листочки, исписанные кривыми крупными буквами, фамилиями и телефонами – тот еще грамотей, небось! – спрашивал: «А когда звонил, напомните… Ага, ага, ваша фамилия… Витя Конников, так?» – «Так, так». Директор и оглядел его и ничего не понял. Потом понял, что это какой-то чужой мальчик. Мальчик по поручению. Племянник, возможно.
– Ну, чего тебе, Витя? Ничего, что на «ты»? Отпустим тебе, Витя, хороший заказик. Ниночка, принесите Вите заказик.
Папа дал ему двадцать рублей. У него в кармане было еще рубля три. Два рубля бумажных и мелочь. Заказик, принесенный Ниночкой, – картонная коробка, которую она поставила на соседний с Витей пустой стул, стоил двадцать три восемьдесят. Цифра была написана карандашом на картонке.
– Нам столько много не нужно, – сказал Витя и покраснел.
– Отложить чего-нибудь? – все понял директор, но на всякий случай уточнил, снова перейдя на «вы»: – А вы, Витя, какой суммой располагаете?
Вспотев от стыда, он выложил деньги и выгреб из кармана всю мелочь. Получилось двадцать три пятьдесят.
– Вы где живете? – зачем-то спросил директор.
– На Шаболовке.
Директор забрал двадцать два рубля. Рубль пятьдесят оставил.
– Езжай на такси, Витя. Тут хватит. А ящик тяжелый.
Витя чуть не заплакал от унижения и благодарности одновременно.
Выйдя из «Гастронома», подумал, что ящик не такой уж тяжелый, и решил дотащить его до остановки, а там пешком недалеко. То есть решил сэкономить полтора рубля. Устал. И еще по дороге подрался с какой-то мелкой шпаной. Два паренька хотели отнять у него коробку: не продукты забрать, не блокада, слава богу, а так, покуражиться. Дергали за веревку и говорили: «Ух ты! Копченой колбаской пахнет! Поделись! Ты что, миллионер, что такой жадный?»
Витя был тощий и не очень рослый. Он не мог взять за грудки и внушительно тряхануть или крепко оттолкнуть, как делали здоровые ребята. Он мог либо убежать, либо уже бить изо всех сил в переносицу или в глаз. Конечно, он почти всегда убегал. Ну или как-то договаривался. Но бежать с таким ящиком было невозможно. Витя занимался карате, ходил в подвал ЖЭКа в секретную группу, к тайному тренеру, потому что карате было запрещено. Хотя, конечно, на самом деле это было никакое не карате, а дрыганье ногами и маханье руками в дурацких позах, но зато с боевыми выкриками. Плюс битье ребром ладони по доске, обмотанной толстой пеньковой веревкой. Доска называлась «макивара». В общем, театр для себя. Но Витя верил, что овладевает тайным смертоносным «искусством голой руки». Поэтому в ответ на приставания этих шпанят он поставил ящик боком на асфальт, уперся в него, подпрыгнул и сумел-таки врезать одному из них ногой в живот. Тот повалился, визжа: «За что бьешь, сука? За что?» Другой тут же убежал. Вот это «за что бьешь» возмутило Витю, привело его в бешенство, которого он за собой не знал. За что? За то, что ты отнять у меня хочешь колбасу, которую я несу папе с мамой! На секунду ему показалось, что сейчас на самом деле блокада, голод, и он несет хлеб умирающим старикам родителям. Он ударил этого шпаненка ногой еще раз и еще. Наверное, он бы его совсем покалечил, но тут показался трамвай.
Директор назвал его Витей Конниковым.
Все правильно.
Риттер – это был псевдоним. Это смешно вышло. После журфака Витя Конников устроился в «Московскую правду», в отдел культуры. Этот отдел на всю газетную Москву был знаменит фамилиями сотрудников: Балаш, Кубарь, Весс, Дрозд, Бердыш и Атаман. И все фамилии настоящие, паспортные! Две последние – женские, Татьяна Бердыш и Лариса Атаман. Ну что в такой компании делать Конникову? Псевдоним придумывали всем отделом. Хотелось как-то привязать к коню, к всаднику. Рейтар? Райдер? «Еждец!» – смачно сказала по-польски Лара Атаман. Решили, что лучше всего Риттер. Рыцарь – он ведь тоже на коне.
Потом он сумел сменить фамилию в паспорте.
На еврея он совсем не был похож, и через несколько лет его стали спрашивать, нет ли у него немецких корней. Не станешь же всем и каждому объяснять, что он – Витя Конников, а псевдоним ему придумали ребята в отделе культуры газеты «Московская правда». «Да, – кивал он, – некоторым образом, отчасти… Русский немец. Из немцев Поволжья? Нет, не совсем… Из немцев, что жили вокруг Петербурга. Приехали в начале девятнадцатого века. При императоре Александре Первом. Еще до войны тысяча восемьсот двенадцатого года». Он даже прочитал что-то об этом, чтоб его слова о предках звучали исторически вероподобно, а к пятидесяти годам более или менее сносно выучил немецкий. Читал Келлермана и Томаса Манна, Гофмана и Лессинга. Собрал небольшую, но очень красивую библиотечку немецкой литературы – в магазине «Дружба» на улице Горького продавались аккуратные старомодные томики из серии BDK, в цветных матерчатых переплетах с золотым тиснением. Читал сначала со словарем, а потом почти свободно и даже получал поэтическое удовольствие от «Книги песен» Гейне, но говорил плохо, с ужасным акцентом. Но придумал хитрость: слегка глотал окончания и объяснял, что это диалект – так бабушка говорила… А к шестидесяти и вовсе уверился, что он на самом деле немец и дедушку звали не Иван Федорович, а Иоганн Фридрихович.
В отделе культуры работать было весело, интересно, вполне денежно, но тоже унизительно: брать интервью или писать статью о человеке, который если не глупее, то, уж конечно, не умнее и не талантливее тебя. Наверное, настоящий журналист должен любить своих героев, настоящий критик – любить своих писателей, но Витя думал только об одном: не хочу писать о чужих книгах, не хочу писать о каких-то там писателях – хочу, чтобы писали обо мне, о моих повестях, рассказах и пьесах. Поэтому однажды воскресным утром он заправил в пишущую машинку бумагу и написал: «Вечер памяти. Рассказ». Рассказ был о том, как вдова ждет гостей на годовщину смерти мужа. Пригласила человек десять, наготовила, накрыла стол, а никто не пришел. Поплакала, запихала закуску в холодильник, а назавтра на работе рассказывала, какие люди у нее были, какие тосты говорили и как все друзья до сих пор помнят ее покойного мужа. Рассказ, конечно, не напечатали. В «Новом мире» приятная пожилая дама сказала: «Рассказ неплох. Рассказ даже хорош. Но, – она снисходительно улыбнулась, – это все-таки не новомирский уровень». Витя порвал рассказ в клочья, все четыре экземпляра, выбросил во дворе в канаву, там как раз меняли трубы и взрыли газон (не в мусорное ведро выбросил, не в урну, а именно в землю, чтоб похоронить!), но затею стать писателем не оставил.
Упрямо и понуро, как его папа, то есть как ослик на горной тропинке, Витя Риттер носил свои сочинения в журналы, в театры и на киностудии: рассказы и повести, пьесы и сценарии. Печатали едва-едва, рассказик в год. Две инсценировки поставили где-то далеко от Москвы. Заказали экранизацию для телевидения. На его пьесы откликались совсем никудышные режиссеры, у которых ничего не получалось в самом простом, техническом смысле: ставить негде и не с кем. «Слава льнет к славе, сила к силе, а чепуха к чепухе, – тоскливо думал Витя Риттер. – Сила усиливает силу, а чепуха делает чепуху еще чепуховее. Слабость ослабляет слабость».
Успех пришел внезапно и как-то по-уродски. Унизительно и обидно. Был 1987 год, семидесятилетие Октября. Времена странные – уже перестройка, но еще советская власть. Гласность объявили, но «датские» спектакли никто не отменял. Знаменитейший московский режиссер собрался ставить пьесу столь же знаменитого драматурга, где впервые очень человечно показывался не только Ленин, но и Троцкий, и Бухарин, и Каменев с Зиновьевым, и даже, представьте себе, Сталин. «И Ленин такой молодой, и Сталин еще не злодей». Пьеса была о том, что все они в октябре 1917-го были просто люди, разночинцы и полуинтеллигенты, огорошенные свалившейся на них громадой власти. Суетливые, недальновидные и, главное, очень склочные – оттого что растерянные. Перестройка, вы же понимаете, – писатели осмелели. Но и советская власть пока еще была жива, и цензура не дремала. В министерстве культуры великому режиссеру сказали, чтоб он думать забыл об этих фокусах. Нечего ставить к юбилею? Ну и не ставь ничего, старый дурак! Никто тебя из партии не погонит, не бойся. Однако в литчасти театра как раз валялась пьеса молодого драматурга Виктора Риттера, тоже острая, актуальная и все такое, но без Сталина и Троцкого; нечто про современную молодежь, которая на задворках районного Дома культуры ставит комедию про комсомольцев-синеблузников. Название – «Мечтатели». С одной стороны, борьба прогрессивной энергичной молодежи против застарелой трусливой дирекции и много музыки и танцев – ну просто «Карнавальная ночь» в перестроечном варианте. С другой стороны, революционная преемственность поколений. Но, с третьей стороны, еще и серьезный кукиш в кармане: в 1920 году один комсомолец мечтает, что через двадцать лет, в далеком 1940 году Маяковский напишет лирическую пьесу о любви, а Гумилев – героическую поэму о Красной армии. Всего одна реплика, но зато какая! Бьющая наповал. Ударом карате, с разворота – ногой в грудь, и привет. В общем, знаменитый режиссер, которому запретили ставить про Троцкого и Сталина, объявил в интервью «Известиям», что к семидесятилетию Октября он ставит пьесу молодого драматурга Виктора Риттера «Мечтатели». Тогда театральная жизнь в СССР была такая, что областные театры во всем копировали Москву, особенно же в смысле репертуара. Тридцать два театра по всей стране схватили пьесу Виктора Риттера и начали репетировать. Правда, реплику о Гумилеве и Маяковском цензура выкинула, но уж ладно. Главное – внезапная известность. Встречи с журналистами, семинары молодых писателей, поездка в Венгрию в составе делегации деятелей культуры, и еще главнее – под это дело удалось быстро напечатать кое-что из прозы и заключить договор на многосерийный телефильм.
Но Витя Риттер ждал настоящей славы. Мечтал, как на премьере «Мечтателей» на сцене того самого, знаменитейшего московского театра он выйдет на сцену кланяться. Как режиссер позовет его из первого ряда партера царственным, но уважительным жестом. Великий мэтр тряхнет своей седым чубчиком и громко скажет: «Автор!» – и театр зайдется в аплодисментах.
Тем временем автор пьесы про Ленина, Троцкого и Сталина кое-что поправил, кое-что смягчил, убавил человеческого и прибавил революционного, достучался до помощника Горбачева товарища Черняева – и пьесу разрешили, и великий режиссер взялся ее репетировать. Однако позвонил, объяснил ситуацию, извинился. Прислал приглашение на премьеру на два лица. Из-за этого Витя возненавидел его еще сильнее.
«А может, пойдем все-таки?» – спросила Витю жена. «В чужом пиру похмелье!» – мрачно сказал Витя. Все-таки пошли. Было не так унизительно снаружи, как невыносимо внутри. В антракте мэтр пожал Вите руку, познакомил с его удачливым соперником – пожилым, полным, астматическим мужчиной – и даже сказал что-то вроде: «Очень, очень талантливый молодой писатель». Очень, очень приятно! Рядом с мэтром стояла его дочь, почти очаровательная высокая девушка в красном платье с голой спиной, как на зарубежном кинофестивале. На ней были тонкие парчовые туфли, но размер, наверное, сорок второй. Через парчу проступали некрасивые пальцы. Надела бы лаковые, дурочка… Она смотрела на своего отца неприлично обожающим взглядом. Он ловил ее взоры и счастливо улыбался в ответ. Все кругом были счастливы. Витя ненавидел мэтра сильнее, чем удачливого соперника. В конце концов, этот задышливый советский классик тут ни при чем, он ничего Вите не обещал. Он играл в свою игру. А режиссер – обещал! Пожимал руку, подсаживался рядом, обнимал за плечо, дымил сигаретой прямо в ухо, чиркал синим карандашом по машинописи… Да, он тоже играл в свою игру, но Витя у него был пешкой. Витя смотрел на него и ненавидел его до озноба. Хотелось придумать ему страшную кару, зверскую казнь, несчастную судьбу. «Вот пусть твоя любимая дочурочка тебя люто накажет!» Как – он не знал, но хотел, чтобы очень люто. Это сказалось как будто бы само, как будто в уме прозвучало, и Витя даже испугался таких жестоких мыслей. И главное, за что такая кара? Несправедливо! Ведь благодаря мэтру он, Витя Риттер, стал почти знаменит и даже некоторым образом богат, и дальше всё пошло неплохо.
Когда с режиссером потом произошло страшное несчастье, Риттер чуть ли не в церковь ходил каяться, к священнику обращался, но священник успокоил: это суеверие, нет никаких заклятий и проклятий. Желать ближнему беды и погибели – грех, но эти желания не имеют вредоносной силы. Спасибо, батюшка!
А веселую пьесу «Мечтатели» он потом – сильно потом! – переделал в драму «Лжецы». Там герои прекрасно знали обо всех жестокостях коммунистов и чекистов и даже отчасти предвидели грядущие беды России, но лгали себе и людям, танцевали и пели песенки. Карнавальный ад.
Сейчас Риттеру было шестьдесят шесть. Он, как писали критики, «прочно занимал свое собственное место в современной российской литературе». Иначе говоря, отнюдь не звезда, но и не полное барахло.
Что же касается Бориса Аркадьевича Бубнова, то он пребывал в том последнем возрасте, когда кажется, что вся жизнь впереди. Ну не вся, но еще такой большой кусок, что думать о старости и смерти еще рано и кажется, еще можно сделать все что угодно. Развестись, жениться снова, родить и вырастить ребенка. Бросить прежние занятия, получить совсем другое образование и сделать новую карьеру. Уехать и начать новую жизнь за границей. Именно так: прожить еще одну жизнь. То есть ему было сорок пять лет. Правда, буквально позавчера он ощутил нечто новое и тревожное. Сидя в сортире, он протянул руку, взял баллончик с освежителем воздуха и пшикнул, как полагается, вверх. Через три секунды почувствовал холодок на макушке. Мельчайшие капельки освежителя опускались вниз, садились на его голову и холодили ее. Почему? Значит, он лысеет? Встав, он подошел к зеркалу, чуть пригнулся, взглянул на себя исподлобья. Вроде нет, никакой плеши. Пшикнул еще раз. То же чувство нежного холодка. Раньше этого не было. Значит, волосы начали редеть. Значит, какой-то перевал пройден. Но ничего! Еще хватит времени и сил на несколько интересных проектов. В том числе и на роман, который затеяла написать Юля.
К Риттеру он приехал точно в назначенный час, был вежлив по-западному, поэтому и называл его «господин Риттер». Изложил суть просьбы, она же заказ: жена хочет написать роман, и ей нужна помощь мастера.
– Вы хотите, чтоб я или некто по моей рекомендации написал роман, который ваша жена выпустит под своим именем? – Риттер был резок.
– Ни в коем случае! – Бубнов был мягок и просителен. – Господин Риттер, нам нужна именно помощь мастера. Уроки, наблюдение, подбадривание, работа над ошибками. Теперь это называют «коучинг». Но я предпочитаю выражаться по старинке. Помощь мастера, вот так правильнее всего.
Риттер задумался, искоса глядя на Бубнова.
Вдруг показалось, что он его где-то видел. И не просто мельком, а был с ним неплохо знаком. Тем более что Бубнов вдруг сказал:
– А мы с вами, кстати говоря, соседи. Петровского, один.
Ого! Тот самый дом, где жили все эти министерско-академические отпрыски. Неужели они учились в одной школе? Но сколько ему лет? Нет, не может быть, он моложе лет на двадцать.
– Года три назад купили там квартиру, – объяснил Бубнов. – Так-то мы за городом живем, а это для встреч, ну и гостей позвать. Не всем же удобно ехать в наши края…
– Да, конечно, – покивал Риттер и снова замолчал.
– Ну и что вы мне скажете в ответ на мою просьбу? – сказал Бубнов.
– Я не просто молчу, – сказал Риттер. – Я думаю. Надо как-то сообразиться с планами…
– Да, конечно, – кивнул Бубнов и тоже замолчал.
Он глядел на Риттера и думал пошлыми словами: «Что она в нем нашла?» У него было страшное чутье на чужие мысли и желания, недаром ему люди мешками несли деньги. Он сразу понял, что у Юли в голове живут какие-то фантазии о Риттере. Что всё это не просто так. Нет, скорее всего, там ничего не было, но что-то все-таки было. Но что? И главное, чем ее мог привлечь этот небогатый и неизящный старик?
Тем временем в дверь без стука вошла жена Риттера. Бубнов быстро оглядел ее: почти ровесница хозяина, то есть за шестьдесят, высокая, даже стройная, хоть и полноватая, натуральная блондинка, только начинающая седеть; волосы высоко подобраны на макушке, маленькие очки, домашний халат.
– Пардон, – сказала она.
Взяла с полки книгу и вышла, но на пороге обернулась:
– Хотите чаю? Или кофе?
– Благодарю вас, нет, – сказал Бубнов, вставая с кресла, и обернулся к Риттеру. – Господин Риттер, представьте меня вашей жене!
– Рекомендую, господин Бубнов, – сказал Риттер.
Она протянула Бубнову руку и сказала:
– Очень приятно.
Потом вышла и закрыла за собой дверь.
– А как зовут вашу жену, господин Риттер? – спросил Бубнов.
– Нетрудно догадаться, – холодно сказал Риттер. – Госпожа Риттер ее зовут. Дайте мне еще немного поразмыслить.
Совсем недавно, полгода назад, они чуть было не развелись.
«Хочу напоследок пожить одна», – сказала она, вернувшись из больницы с ужасным диагнозом. Страшно сказать, но он на секунду обрадовался. Как жаром обдало чувство близкой свободы. Даже картинки замелькали в уме – что это будет, как это будет. Но через полсекунды стало стыдно, невыразимо стыдно, и тут же клятвенная мысль – останусь с ней навсегда, до последней минуты, а потом ни за что не женюсь. Хотя какое женюсь – шестьдесят шесть лет. Но, с другой-то стороны, у двух, даже у трех семидесятилетних приятелей были годовалые дети от новых молодых жен. От бодрых, сильных, крепких женщин лет сорока. Нет, никогда, только не это. Утром, когда она вставала и шла в кухню пить кофе, он нюхал и целовал ее подушку и чуть не плакал от раскаяния, умиления и желания жертвы. Через две недели оказалось, что все в порядке, плохого диагноза нет. Она сказала, что врачи ошиблись. Но уходить решила все равно.
– Ну, раз уж я собралась, – сказала она. – Я уже как-то привыкла к этой мысли.
– Почему?
– Хочешь честно? – спросила жена. – Ты мне надоел.
– Почему?
– Не знаю. – Она сказала с искренним смущением.
Как человек интеллигентный, подкованный и следящий за событиями, которого вдруг спросили про какой-то нашумевший спектакль: «Ты, конечно, был, видел?» – смущенно отвечает: «Нет, не был», разрушая свой образ театрала, знатока и ценителя, но врать было бы еще хуже.
Риттер испугался, что она на самом деле уйдет, просил ее остаться, даже умолял, говорил, что не сможет жить один. Она отвечала, что ничего страшного: она уже много лет живет одна и не сдохла, как видите. «Как одна?» – Риттер мотал головой и жмурил глаза, не понимая. «Да очень просто, – грустно говорила она. – Я жила тобой одним и еще Митькой (это был сын). Митька уехал, а ты за всю жизнь на меня ни разу глаз не поднял от своих сочинений… Нет, я очень уважаю твою работу и кое-что даже люблю, кое-что здорово написано, но я ведь живой человек!» Риттер обидчиво начинал перечислять премьеры, вернисажи, банкеты и путешествия-поездки. «Ведь мы всюду были вместе!» – «Так ничего и не понял. – Она взмахивала рукой, длинной узкой рукой с золотым пушком выше запястья. – Я была наполнена тобой, ты занимал меня всю, целиком. Твоя работа и твое здоровье, купить-приготовить-вымыть-убрать, а еще прочитать и поговорить, ты был мое всё. А я тебя не интересовала. Ты был занят только собой. Во мне был только ты, а в тебе не было меня, ни капельки, ни крошки, ты не мог запомнить про меня ничего. Вот и получается: я полна тобой, а ты мною пуст, то есть я оказалась совершенно, совсем пуста… Получается, что во мне не было меня, какая-то удивительная пустота…» – «Не понимаю!» – «Верю, верю!» – то ли смеялась, то ли морщилась она.
Потом она прекратила эти разговоры. Ни да, ни нет, ни «остаюсь», ни «ухожу». Так и жили, не объяснившись до конца.
А тут еще этот Бубнов со своей женой, которая захотела написать роман.
Нет, конечно же. Времени мало, времени нет, надо свое дописывать. Да и вдруг у него на самом деле начинается маразм и склероз, то есть и время упустит, и перед людьми опозорится. Перед этой дамочкой, а через нее – перед всем светом.
– Может быть, вы мне дадите ответ завтра или когда вам будет удобно? – спросил Бубнов, пошевелившись в кресле, потому что прошло уже минуты две.
– Хорошо. Впрочем, вот. Ответ готов. Хорошо, я вам помогу. Но, так сказать, верхним надзором, если угодно. Читать готовые большие куски. Советовать, если увижу, что мой совет нужен. Но постоянно работать с автором я не смогу. Постоянно работать будет мой ученик. Мой лучший ученик. Мой любимый ученик. Очень одаренный молодой писатель. Хороший редактор. И вообще приятный человек. Уверяю вас, он будет работать прилежно и добросовестно.
Бубнов поднял брови, но потом сказал, что передаст это своей жене, и уж как она решит. Риттер сказал, что он, в свою очередь, позвонит своему ученику и обрисует ситуацию. В общем, созвонимся через пару дней.
– Но самое главное, – добавил Риттер. – Этот человек будет работать только над вашим романом. Только и единственно. Не отвлекаясь более ни на что.
– Да, – сказал Бубнов.
Это сильнее всего понравилось Юле. Чтоб ею занимались, не отвлекаясь более ни на что.
Молодого писателя звали Игнат Щеглов. Ему было двадцать шесть, по образованию филолог, но диссертацию защитил по философии. Уже успел напечатать две книги.
– А вам это зачем? – спросила его Юля. – Писали бы себе дальше свои собственные книги. Это же год на выброс.
Он ей понравился. Она посмотрела его повести. Ничего. Нормально. Грамотно и внятно, хотя без особой оригинальности. Но это как раз то, что надо. Не будет тащить за собой, навязывать свой стиль. Выглядит прилично: хорошего роста, приятный голос, аккуратно одет, по разговору видно – неглуп и начитан, держится достойно – не лебезит перед заказчицей, но и никакой тайной иронии к богатой дамочке. И никаких чарующих взоров, что тоже важно.
– Почему же на выброс? – сказал Игнат. – Это интересный опыт, мне кажется. И потом, может быть, я из ваших отходов и обрезков какую-то свою повесть сооружу.
– Но-но! – подняла палец Юля. – Все мои обрезки – мои, и никаких.
– А мои? – тут же возразил он. – Я же вам что-то буду предлагать, какой-то текст. Вы, скажем, возьмете половину. А вторая половина моя? Или нет?
– Это мы будем уже конкретно решать в каждом случае, – сказала Юля. – Теперь давайте о деле. Где, когда и почем.
Игнат Щеглов запросил очень много. По цене психоанализа: сто евро в час. Но сессия – четыре часа. Минимум две сессии в неделю – понедельник и четверг. А лучше – понедельник, среда, четверг. Вот и считайте, Борис Аркадьевич, во сколько это вам станет.
Где? Разумеется, в отдельном офисе. Через неделю он снял квартиру недалеко от метро «Беляево». Улица генерала Антонова, семь. Юля приехала посмотреть. Однокомнатная, с небольшой кухней. Новенькая икейская мебель: письменный стол, кресло рабочее, кресло для отдыха, раскладной диван с высокой спинкой. Книжный стеллаж, шкаф и комод. В кухне тоже все новехонькое: электрочайник и микроволновка, маленькая стиральная машина, несколько тарелок и чашек. Из окна виден Битцевский парк. Прохладный ветер оттуда.
Юля села на диван. Подсунула под спину подушку, тоже икейскую, с черно-желтыми узорами. Поерзала, подрыгала ногами, раскинула руки по диванной спинке. Затылком и шеей попробовала, удобно ли опираться. Сказала:
– Через неделю начинаем. А у вас есть семья?
– Мама и папа, – сказал Игнат.
– Тогда давай на «ты», – сказала Юля.






